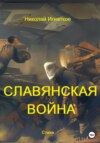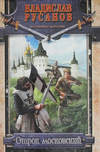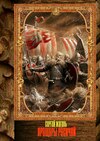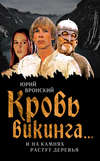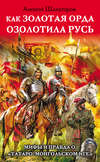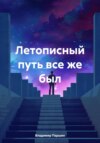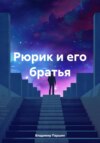Читать книгу: «Русь в IX и X веках», страница 7
О том, что это языческий погребальный обряд, писали ранее (Котляревский А.А., Рапов О.М., Карпов А.С. и др.). А.А. Котляревский [77] считал, что перемещения древлян в ладье к месту казни символизировало путешествие души князя Игоря в языческий рай по небесному своду, а горящая баня символизировала погребальный костер, с которого души сожженных заживо людей должны были попасть в загробный мир и стать слугами князя Игоря.
Третий этап “был назван «тризной» и осуществлен «в граде идеже оубисте» мужа княгини [28, с. 41]. Кроме хмельного пира, поминальный обряд включал также плач Ольги над останками мужа и возведение кургана над его телом”. Но ведь летописец сообщает об убийстве 5 000 древлян. “По словам автора «Повести», древляне после церемонии трапезы были зарублены воинами Ольги: «Седоша деревлне пити <…> i повеле Ольга отрокам своимъ пити на нь, а сама велела дружине сечи Деревляне и иссекоша ихъ» [28, с. 41-42]. В первую очередь привлекают внимание две важные детали в описании тризны. Во-первых, воины княгини Ольги, по ее приказу, пили в честь будущих жертв, сидевших рядом с ними на поминальном пиру: «пили на ня» [28, с. 42]. Это значило, что все действия, происходившие во время тризны, были жестко регламентированы, и древляне были обречены задолго до их убийства. Это хорошо понимала как киевская дружина, так и сами древляне. Во-вторых, третья группа жертв была не просто убита, подобно их предшественникам, а «иссечена мечами», что предполагало наличие битвы, вооруженного столкновения. Этот бой хорошо соответствует самому характеру языческой тризны как «битвы», «поединка». Древнерусский термин «тризна» изначально означал «соревнования», «подвиг», «поединок», «тризнище» – место проведения поединка [33 с. 795]. Вероятно, погибшие во время поминального пира жертвы должны были составить дружину князя Игоря в загробном мире”. Добавлю, что вероятнее всего, со стороны киевлян на это “состязание” были направлены те дружинники-язычники князя Игоря, которые вернулись домой. Они были уже опозорены тем, что бросили своего князя на убой. Это добавление основываю на сообщении Ибн-Фадлана, что после смерти царя русов часть его дружинников добровольно соглашалась умереть, чтобы стать его телохранителями в загробном мире.
Таким образом, видим не месть Ольги в изложении монаха-христианина, а исполнение этапов языческого погребального обряда. Принесение человеческих жертв в то время было в практике погребальных обычаев. Для этого использовали рабов, а будущие жертвы обряда пируют вместе с теми, кто их убьет. Но вряд ли все это знал монах-христианин в XII веке. Да и цель у него была другая. Т. о., события, описанные во время проведения «тризны», входили в обязательный поминальный языческий ритуал, распространенный в IХ-Х вв. Это та история древней Руси, которая не должна каким-либо образом затушевываться.
Есть вопрос – чего не хватает в изложенном обряде? Согласно обряду, самопожертвования жены покойного. Языческое окружение княгини Ольги и язычники другого княжества ожидали не только ее «плача» над останками мужа, но и традиционного самоубийства на его могиле. Но этого не произошло.
Полагаю, что именно отказ от исполнения обряда мог послужить фактором, в результате которого древлянское княжество разорвало пакт. В некоторых работах встречаются слова – восстание древлян. Считаю, что данные слова некорректны, т.к. древлянское княжество не было покорено. При Игоре был заключен пакт-договор (отсюда и термин – пактиоты). Поэтому, на мой взгляд, древляне могли принять решение разорвать пакт с киевским княжеством. Основания для разрыва были: гибель главы второй стороны пакта, нарушение погребального языческого обряда. Ольга больше не воспринималась древлянами как “верховная жрица Перуна”. Разорвать пакт могли и другие княжества.
И вот теперь только настает время “мести”. Взято в кавычки, т.к. это не месть, а война киевлян против древлян с целью вернуть древлянскую дань и ликвидировать всю правящую элиту этого княжества. Война, которую Ольга начнет вскоре после возвращения русских князей в Киев (апрель 949 г.). Летопись описывает поход на древлян следующим образом: «Ѡльга съ съıномъ своимъ Ст҃ославомъ . собра вои много и храбръı. и иде на Дерьвьску землю.[и] изидоша Деревлѧне противу. [и] съ[не]мъшемъсѧ ѡбѣма полкома на скупь суну копьємъ Стославъ [на] Деревлѧнъı. и копьє летѣ сквозѣ оуши коневи. [и] оудари в ноги коневи. бѣ бо дѣтескъ». Святославу в это время уже полных 6 лет. Летописец продолжает: «Ѡльга же устремисѧ съ сн҃мъ своимъ на Искоростѣнь град. … а Деревлѧне затворишасѧ въ градѣ. … и стоӕ Ѡльга лѣто. [и] не можаше взѧти града.» Т.е. осада только города Искоростень длилась целый год, значит город в 949 году еще не сожжен (сожгут его в 950-м). При этом используется летописцем сюжет с птицами, распространенный в литературе в то время. Читатель пробовал поймать в крестьянском дворе курицу? Которая не птица – не летает. Намек понятен? Очевиден факт подмены работы лучников с зажженными стрелами на литературный сюжет с птицами.
После разгрома древлянской земли летописец рассказывает об устроительной деятельности княгини Ольги. Вот только и датировка этой деятельности, и ее территориальных размах (северо-запад Руси) не соответствуют реальностям. О дате уже видно из материала выше – не ранее 951 г., т.к. только в 950-м сожгут Искоростень. Значит и начало “этой деятельности” только после сожжения города. О том, что все устроительные мероприятия были произведены только в опустошенной Древлянской земле подробно написано в [22; 72; 74; 76; 133]. Путешествие Ольги в Новгородскую землю ставили под сомнение архимандрит Леонид (Кавелин), А.А. Шахматов (в частности, указывал на путаницу Древлянской земли с Деревской пятиной), М. Грушевский и Д. Лихачев. В [133] автор, относительно северо-запада, пишет: “Стремление местных книжников-историографов связать жизнь и деятельность княгини Ольги с историко-географическими реалиями своей земли прослеживается еще в древнерусском летописании… Очерчивая маршрут княгини Ольги от Деревьской земли Мстой к Новгороду, а затем Лугой к устью Наровы и Наровой к Чудскому и Псковскому озеру, Новгородский летописец стремился как бы освятить это пространство стопами равноапостольной (с XIII в.) княгини Ольги. Подобный литературный прием, как показал В.Н. Топоров, является типичным для жанра мифологизированных интинерариев [жанр латинской христианской литературы] …» Т. о., в настоящее время нет объективных данных, которые могли бы свидетельствовать, что “Ольгины” топонимы появились на Псковщине раньше формирования первых Житий княгини. Н.И. Костомаров [74] относительно путешествия Ольги на север и устроения погостов и даней по Мсте и Луге был настроен весьма скептически, считая Новгород независимым от Киева вплоть до посольства новгородцев к Святославу в 969 г. Источником информации о поездке Ольги в Новгородскую землю он считал предания вроде тех, что рассказывали о Марфе Посаднице в Новгороде или о Степане Разине на Волге. По мнению Н.И. Костомарова, “естественно было приписывать ей признаки земского устроения, начало которых никто с точностью не помнил”. Н.Н. Воронин [22] заметил, что, “несмотря на древность Пскова, вряд ли нога Ольги ступала по его улицам. Еще в начале XI в. Псков был для Киева своего рода Сибирью – местом прочной и далекой ссылки. Сюда еще в 1036 г. Ярослав (Мудрый) заточил своего младшего брата Судислава”. Н.Ф. Котляр [76] посчитал путешествие Ольги к Новгороду вообще невозможным в тех условиях – “Мероприятия по окняжению только что жившей родоплеменным строем Древлянской земли, подавление сопротивления населения на местах (продолжавшегося, без сомнения, еще долгие годы), введение новых законодательной, административной и даннической систем требовали больших усилий, немалого времени и, главное, присутствия княгини если не в самой Древлянской волости, то в Киеве. Поэтому ее поездка на далекий северо-запад Руси, которая должна была занять много месяцев, кажется странной. Она никак не мотивируется летописью. Ольга не совершала дальнего похода на север”. И.Д. Беляев [14] считал, что вполне в духе устного предания вся деятельность Ольги по обустройству земли сведена к одной поездке и отнесена к одному году. А.С. Королев [72] – “Здесь проявилось стремление летописца упростить историю организации погостов, приписав всю реформу одному человеку – Ольге. Любопытно, что примерно так же, как и возникновение погостов повелением Ольги, летописец ранее попытался изобразить процесс подчинения славянских племен Киеву, как результат деятельности одного Вещего Олега, занявшей два-три года, хотя этот процесс растянулся не на одно столетие. Итак, великая податная, административная, хозяйственная и так далее реформа Ольги перестала существовать. Остались устроительные мероприятия, произведенные княгиней в опустошенной Древлянской земле”.
В некоторых работах сообщается, что “реформы” Ольги уничтожили полюдье путем введения "повоза". Это не совсем верно. Полюдье существовало на отдельных территориях вплоть до XII в. Повоз освободил княжескую власть от ежегодного объезда некоторых подвластных Киеву земель. Но в “реформаторских” действиях не было ничего, что можно было бы отнести к вопросу контроля торговых путей.
Константин VII описывает визит княгини Ольги в Константинополь 9 и 18 сентября 957 г. в трактате «О церемониях» [69]. В нем он называет ее Эльгой (языческим именем на болгарский манер), архонтиссой Росии. С княгиней был священник Григорий, что уже говорит о том, что крещение Ольги уже было до поездки (наречена в крещении Еленой), тем более что император Константин VII не упоминает о каком-либо ее крещении. Вопрос крещения Ольги рассмотрен в [111]. В 959 г. в [162] упоминается о посольстве Ольги к немецкому императору Оттону с просьбой прислать епископа для проповеди христианства (т.н. миссия Адальберта). Летопись Гилдесгеймская (конца X в.) под 960 г. – “Пришли к королю Оттону послы Русского народа (Rusciae gentis) и просили его, чтобы он послал им одного из своих епископов, который показал бы им путь истины, и говорили, что хотят отстать от своего язычества и принять христианскую веру”. Летопись Корвейская под 959 г. – “Король Оттон по прошению Русской королевы послал к ней Адальберта, нашей обители инока, который после сделан первым епископом в Магдебурге”. В 959 г. умер Константин VII и единовластным императором стал Роман II. В результате контактов Романа II и Ольги на требование Ольги «чтобы он прислал от себя священников. И послал он одного епископа. И был он муж знающий и был в нем Дух Святой», Роман II уже в 960\961 году отправил в Киев византийских священников. Это отражено у В.Р. Розена в [129]. Для Ольги тоже было более предпочтительно налаживание полноценных отношений с Византийской империей, чем с далекой франкской. Сотрудничество Ольги с Романом II продолжится и в военной сфере. В 961 г. император Роман II просит у Ольги помощи для организации похода на Крит. Русы приняли участие в этом походе Никифора Фоки на Крит и потом в Сирию.
Поэтому, когда осенью 961 г. Адальберт все-таки прибыл в Киев, место “епископа Руси” уже было занято. Дальнейшая история Адальберта известна из европейских хроник.
Вот, что изложено в Житие княгини Ольги в редакции псковского книжника Василия (в иночестве Варлаама) о ситуации после визита Ольги: «възвратися в землю Рускою, в дом свой и к людем своим с радостию великою, освещена духом и телом, несущи знамение честнаго креста. И потом требища бесовьская съкруши …». Т.е. Ольга начала насаждать христианство силой. В некоторых работах, в частности, В.Е. Шамбарова (Войны языческой Руси), сообщается, что крещение Ольги и последующее крещение ее приближенных “позволило ликвидировать киевское капище, где лилась человеческая кровь”. Очевидно, что такие действия только накалили ситуацию в Киеве. Противостояние партий язычества и христианства изменилось кардинально. Полагаю, что это могло быть той последней каплей терпения, после которой могла вспыхнуть внутренняя религиозная война. Но видимо, разум пересилил религиозные амбиции Ольги и было достигнуто соглашение о приостановке насильственных действий. Тогда же, видимо, было принято решение (как компромисс) о том, что Святослав является военным предводителем княжества.
Главной причиной устойчивого поддержания язычества на Руси, на мой взгляд, было представление о том, что, с приходом христианства, Русь попадёт в зависимость от Византии, и о набегах на богатых греков придётся забыть, а значит забыть и богатой дани.
Если русы южной Руси были в каком-то роде наёмниками – партнерами хазар, то днепровские русы этим похвастаться не могли. Об этом говорит письмо хазарского царя Иосифа. В нем сообщается: “ Я охраняю устье реки и не пускаю Русов, приходящих на кораблях, приходить морем, чтобы идти на исмаильтян, и (точно также) всех врагов (их) на суше приходить к Воротам. Я веду с ними войну. Если бы я их оставил (в покое) на один час, они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада и до страны…”. Очевидно, что в письме имеются ввиду не только попытки оставшихся русов южной Руси (этнос не мог бесследно исчезнуть после 943 г.) проникнуть в Каспийское море для торговых и грабительских набегов, но и попытки уже киевского княжества принять участие в торговле с Востоком. Изменить эту ситуацию должен был князь Святослав.
Относительно Святослава, его семьи и наследования верховной власти версии изложены в [71; 111]. Согласно А.С. Королеву “великий князь – не монарх, а остальные князья, перечисленные в договоре – не его подданные”. Великий князь “являлся скорее предводителем княжеского союза, зависимым от съезда князей”. Это означает, что титул великого князя не был наследственным и не мог перейти к Святославу. Решение принимал княжеский союз. Тем не менее, на мой взгляд, Святослав начал свою боевую деятельность как верховный военный предводитель раньше, чем об этом сообщает летописец.
По данным археологов в слоях Гнёздово, относящихся к 950-960-м годам, фиксируется «военный разгром», сопровождавшийся «уничтожением высшего слоя гнездовской элиты». Согласно [39]: “Завершающий, отчетливо прослеживаемый приток восточных монет в Гнёздово относится к концу 50-х – началу 60-х гг. X в. … В.В. Мурашева … рассматривает клады 950-х – начала 960-х гг. как одно из доказательств насильственных изменений, зафиксированных в материальной культуре в период установления прямой зависимости Гнёздова от центральной киевской власти”. В.С. Нефёдов, на основе датировок гнёздовских кладов (950-е – начало 960-х годов) связывает разгром Гнёздова с первыми годами правления Святослава. Археолог А.О. Шевцов (указ. ранее соч.) отметил: “активизация этих связей [с Византией] пришлась на 930-940-е годы (судя по доминирующим монетам Романа I), а затухание – на 960-е годы”. Поэтому есть все основания согласиться с мнением, что прежде, чем “поднять меч на Хазарию”, Святослав отобрал у шведов Гнёздово. Более того, археологи фиксируют, что через короткое время жизнь на поселении вновь ожила.
В описании Святослава летописец вновь прибегает к вымыслам. Прежде всего о походе на хазар. Какие есть нестыковки? Во-первых, летописец представляет Святослава конным воином (седло под голову), хотя свои походы Святослав совершал на ладьях. С т. зр. монаха в то время (XII в.) конница была сильнейшим видом войск. Значит, с т. зр. монаха, Святослав должен быть именно конником. Но тогда ему пришлось бы сразиться с буртасами, чего в летописях нет. Во-вторых, летописец считал, что Святослав должен был сразиться именно с каганом у Итиля, а потому направляет Святослава на Волгу. Считая, что на Волге обитали вятичи, летописец выдумывает первый поход через вятичей. Но Святослав не выходил на Волгу, не был у Итиля и не сражался с каганом. Сражение было только у Белой Вежи (Саркел). И совсем туман – где воевал Святослав с ясами и касогами. Вот такой коктейль неточностей русских летописей и плюс к нему нестыковки арабских сообщений.
Поход на хазар получил название – восточный поход. Среди историков и исследователей нет единой точки зрения на этот поход. Основная точка противоборства заключается в том, сколько было походов Святослава на хазар. Расхождения возникли из-за неоднозначного понимания летописей и двух сообщений арабских авторов (Ибн Мискавейха и Ибн Хаукала). В летописях сообщается, что Святослав «иде на Ѡку рѣку и на Волгу. и налѣзе Вѧтичи. и реч̑ Вѧтичемъ. Кому дань даєте. ѡни же рѣша Козаромъ по щьлѧгу. и ѿ рала даємъ. В лѣт̑. [6473 (965)] Иде Ст҃ославъ на Козаръı. слъıшавше же Козари. изидша противу. съ кнѧземъ своимъ Каганомъ. и съступишас̑ битъ. ѡ бивши брани. ѡдолѣ Ст҃ославъ Козаромъ и град̑ ихъ и Бѣлу Вѣжю взѧ. [и] Б Ӕсъı побѣди и Касогъı. В лѣт̑. [6474 (966)] Вѧтичи побѣди Ст҃ославъ и дань на нихъ възложи». Ибн Мискавейх [99] и его последователь Ибн ал-Асира сообщают о нападении на Хазарию в 965 году некоего племени тюрок – «И пришло известие о том, что тюрки напали на страну хазар». А Ибн Хаукал [159] дает два сообщения – под 365 г. хиджры помещает сведения о разрушении русами хазарских и булгарских городов на Волге и последующем уходе их в Византию и Андалузию и далее (по де Гуе) – «опустошили русы, и Хазаран, и Итиль, и Самандар в году 358». Отметим, что 358 г. хиджры длился с 25 ноября 968 по 13 ноября 969.
Арабы четко отличали русов от тюрок. Тюрки, по сообщению Константина VII, еще в середине X в. могли воевать с хазарами, а их кочевья за Волгой находились поблизости от Ургенча (главного города Северного Хорезма). Нет ничего невероятного в том, что гузы (огузы), грабившие Хазарию еще в 40-е годы X в., воспользовались разгромом хазарской армии под Саркелом и попытались пограбить богатые хазарские земли Поволжья. Именно против них логично было искать помощи у властителей Хорезма. И гузы были отогнаны хорезмийцами, призванными на помощь хазарами. Так что, по всей видимости, тюрки Мискавейха были гузами (огузами).
Хазаран и Итиль – это две части одного города, находящиеся на разных берегах дельты Волги. Учитывая сообщение Хаукала о разгроме Хазарана – восточная часть, можно принять это как дополнительное свидетельство нападения со стороны гузов. Русам было бы логично нападать с западной стороны на Итиль. Между двумя частями располагался остров, где размещались дворцы царя (бека) и кагана. Здесь же расположены арсенал, склады, хранилище казны, а также жилища стражи кагана, которая набирается в основном из хазар.
По Хаукалу, русы разрушили и Булгар, и обе укрепленные части одного города, стоящие на разных берегах широкой дельты Волги, и Самандар на Кавказе. Весьма сомнительное предприятие для навигации только одного 965 г.
Отсутствие в русских летописях каких-либо сведений о действиях Святослава в низовьях Волги не случайно. Ему не нужен был тотальный разгром торговых городов Итиля и Самандара и нарушение функционирования международного торгового пути. И Киев, и жители русской колонии в Итиле были больше заинтересованы в стабильном функционировании Волжского торгового пути, чем в разрушении хазарской столицы. Поэтому на 965 г. мог планироваться только захват Нижнего Подонья вместе со стратегически важным Саркелом и Таманью. Это открывало перед Русью новые перспективы по эксплуатации Волго-Донского пути – свободное движение кораблей и к устью Волги, и к Черному морю. Следовательно, в 965 г. военные действия на территории Хазарии охватывали, с одной, западной, стороны низовья Дона и Приазовье, куда отправился Святослав, а с другой, восточной – Нижнее Поволжье, куда вторглись тюрки (огузы). Участие печенегов в событиях 965 г. на Нижней Волге, о которых пишут некоторые авторы, представляется сомнительным по той причине, что к этому времени основная масса печенежских племен находилась далеко к западу от Волги. Был ли некий союз русов и огузов – ответить на данный вопрос невозможно, но одновременность нападения подразумевает такое событие.
Каганат перестал играть существенную роль в регионе – причерноморские и прикаспийские степи попали в безраздельное господство кочевников, в Поволжье доминирующая роль перешла к Волжской Булгарии, а на Северном Кавказе – к Алании. Теперь хазары не могли препятствовать движению русов по Дону до Каспия. Хазарское государство вышло из этого испытания ослабленным, в сильно сузившихся границах, но не уничтоженным. Оно продержалось еще, как минимум, двести лет, то есть до середины XII в. И.Г. Коновалова [67] пишет, что русские купцы успешно осваивали бассейн Каспийского моря и были заинтересованы с стабильности функционирования Волжского торгового пути, а не в полном разрушении его инфраструктуры, обезлюдении и запустении всего Поволжья. Первый поход Святослава, состоявшийся в 965 г., и закончившийся взятием Саркела, упрочением позиций Руси на Дону и Кавказе, был тщательно продуманным и результативным предприятием и не ставил перед собой целью уничтожения Хазарии.
Это первый и единственный поход Святослава на хазар. Относительно этого похода остался не ясным вопрос – откуда пришел Святослав к Саркелу? Есть две версии – со стороны Тавриды и с верховий Дона. Сторонником первой версии является С.Э. Цветков, который основывается на кабардинском предании (Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа, составленная по преданиям кабардинцев Шора-Бекмурзин-Ногмовым, дополненная предисловием и исправленная сыном его Е.Ш.Б. Ногмовым. Изд. 3-е, с изд. 1861 г. Пятигорск). На основании предания он делает вывод, что при живой княгине Ольге первой заботой Святослава было выкроить себе удел. С этой целью он прибыл в восточный Крым, где, однако, «поначалу очутился на положении вольного атамана, одного из многих черноморских князьков, промышлявших разбоем на побережье. Чтобы поднять свой престиж военного вождя, Святослав задумал совершить набег на Адыгею. Вероятно, дружина его пополнилась местными «русскими» удальцами, всегда готовыми поживиться за счет соседей. Поход начался успешно, но для того, чтобы закрепиться в Адыгее, у Святослава не хватило сил. Тогда он предложил горцам союз против хазар. Враги, как это часто бывало в то время, в одночасье сделались союзниками. Саркел, запиравший донской водный путь, был бельмом на глазу не у одних руссов, а у всех народов Приазовского региона. … Падение Саркела стало началом скорого конца Хазарского каганата. Вернувшись в восточную Таврику, Святослав при помощи касожской дружины утвердился в Тмуторокани, которая, по мнению историков, именно с этого времени становится крымской колонией киевских князей. С тех пор (с 965 г) не было вооруженных конфликтов руссов и центрально-кавказских алан, и те, и другие выступали противниками хазар… В следующем году Святослав развил свой успех, поднявшись по Дону (Саркел уже не мог помешать) и вторгся в землю вятичей». Повторю, это по версии С.Э. Цветкова.
Согласно второй версии, чтобы выйти на Дон из Киева, можно было использовать известные торговые пути с Днепра на Дон через Десну и Сейм (рассмотрены ранее). Т. о., выходить на Оку вовсе не требовалось. Если же обязательно требовался выход на Оку, то переход из Днепра в Оку в то время по данным некоторых работ был возможен разными маршрутами. При этом подниматься из Киева до Орши не имело смысла, т.к., во-первых, это движение против сильного встречного течения Днепра, а во-вторых, кроме встречного течения, на участке между Оршей и Смоленском пороги, где наиболее опасный порог Кобеляки, плюс 11 мелей и 6 каменных гряд. Более предпочтительный маршрут через Десну. Переход из Днепра в Оку имел несколько вариантов, которые начинались одинаково – вверх по Днепру до устья р. Десна, далее вверх по Десне до устьев рек а) Сейм; б) Снежеть; в) Навля; г) Нерусса. Маршруты по б) и в) предполагают волоки по 6 км. Поэтому из рассмотрения исключаются. Остаются два маршрута. Подъем по Сейму до устья р. Свапа и подъем по ней до Самодуровского (Хамово) озера (современное название – урочище Самодуровское болото, которое сейчас превратилось в болото шириной 2 км и глубиной до 10 м и более). Из озера (болота) по речке спуск в дер. Степная, а в деревне вход в р. Ока. Подъем по Неруссе в верховья (д. Обратеево), далее волок 2 км до р. Крома (с. Жихарево), по которой спуск в Оку. Этот вариант удобен тем, что войти в р. Десна можно было из т.н. нейтральной зоны (между радимичской и северянской землями), которая была зоной укрепленных городищ русов – вверх по р. Судость до р. Десна – вверх по Десне до городища Кветунь и переход в р. Нерусса.
Придерживаясь летописной логики, А.С. Королев [71] пишет, что Святослав действительно «вначале достиг Верхней Оки, а затем, перебравшись на Дон, поплыл вниз, к тем вятичам, что еще платили дань хазарам». С моей т. зр., вятичей летописец упомянул только потому, что на них ходил Владимир. Слишком часто у летописца предыдущий персонаж совершает действия, аналогичные последующему. Полагая, что князь должен отнять данников у хазар, он и направляет его на вятичей. Однако, истории известно, что вятичи будут долго сохранять свою независимость и после смерти Святослава. Поэтому в логике летописей и А.С. Королева, если Святославу и удалось взять дань с вятичей, то, скорее всего, в виде одноразовой контрибуции. Никаких других последствий для Вятичской земли эта экспедиция не имела. По мнению Королева, в сообщение летописца неверным (лишним) выглядит добавление «и на Волгу». Далее, по версии А.С. Королева, Святослав пошел вниз по течению Дона к Белой Веже, в земли ясов, вдоль побережья Азовского моря, к касогам. Назван лишь один город в этом регионе – Белая Вежа (Саркел). «При раскопках под северо-западной стеной в западном углу крепости был обнаружен подкоп. Скорее всего, его вырыли изнутри, для вылазки. Значит, осада имела место и осажденные звали кого-то на помощь. Это, кстати, еще одно свидетельство в пользу того, что никакого столкновения русов Святослава с силами всего каганата перед этим не было. Опустошив Саркел, русы Святослава покинули город. Их путь лежал дальше вниз по Дону – асам (ясам), касогам и проливу». Относительно ясов и касогов русских летописей А.С. Королев пишет, что аланы, оставшиеся на Дону, вошли в русскую историю под именем ясов. К середине X века относится появление на территории кубанской дельты и на берегах Керченского пролива выходцев из различных адыгских общин, составивших отдельную группу адыгов. Выходит, спустившись по Дону в Азовское море, продвигаясь далее в направлении Керченского пролива (Боспора Киммерийского) или уже пройдя пролив и оказавшись в Черном море, Святослав столкнулся на морском побережье с этими островными адыгами, называемыми в русской летописи касогами. Как и в случае с ясами, для этого вовсе не нужно было отправляться далеко на Кавказ. Далее он также, как и С.Э. Цветков, обращается к кабардинскому преданию, но с несколько другим подходом – «летопись относит столкновение с ясами и касогами ко времени после взятия Саркела, но летописец мог что-то и перепутать, хотя сам путь Святослава по Дону не предполагает контакта с адыгами до взятия донской крепости хазар. Другое дело – крепость Тамтаракай, название которой Константин Багрянородный передает как Таматарха. … можно сделать вывод, что предание в целом верно указывает место следующего приложения силы русских дружинников, а возможно, и вовлеченных в это движения ясов и касогов.»
На мой взгляд, более точно описывает логику событий версия А.С. Королева (только без выхода на Оку – с Днепра в Дон). Основываю это на том, что при движении из Крыма и начальном взятии Таматархи в Итиль (и уж точно в Саркел) дошло бы сообщение об этом, что дало бы время подготовится к битве. А вот нешумный спуск по Дону стал неожиданностью для гарнизона Саркел. Фактор внезапности.
Зачем Святослав, овладев Саркелом и подчинив вятичей ясов и касогов, устремился к Керченскому проливу? Это был тот самый Самкерц, который ранее хотели взять русы южной Руси. Константин VII сообщает, что вне крепости Таматарха имеются многочисленные источники, дающие нефть. Именно через Таматарху проходили многие морские и сухопутные пути и через нее поставляли Византии нефть. Значит укрепившись здесь, можно контролировать ситуацию и диктовать условия. Возможно, при движении к Таматархе Святослав опирался на каких-то уцелевших здесь русов т.н. южной Руси, с которыми была связь у его отца (князя Игоря). В летописи нет сообщений о взятии Святославом Таматархи, как нет аналогичных сообщений в иностранных хрониках. Но появление русов на берегу пролива и падение Таматархи изменили соотношение сил в Приазовье и Таврике. Вскоре после похода Святослава на Тамани на остатках южной Руси возникло русское княжество с названием Тмутараканское.
Святослав оказался в непосредственной близости от крымских владений Византии – фемы Херсонес. Возможно, что нефть и фема Херсонес и есть те причины, которые привели к конфликту с Византией, о котором сообщает Яхья Антиохийский [194], и вызвали посольство Калокира. События русско-болгарского конфликта конца 60 гг. X в. и дунайские походы Святослава, описаны в «Истории» Льва Диакона (X в.), в «Обозрении истории» Иоанна Скилицы (XI в.), в хрониках сирийского писателя Яхъи Антиохийского (XI в.) и армянского историка Стефана Таронского (прозвище Асохик – жил на рубеже X\XI вв.), а также в отчете о посольстве в Константинополь (968 г.) епископа Лиутпранда Кремонского. Историки считают, что Л. Диакон и И. Скилица использовали один источник – Историю рода Фок, но Л. Диакон менее точно передает его содержание, а у И. Скилицы события датированы точно, с указанием индикта и года правления императора. Именно поэтому датировки И. Скилицы более предпочтительны, чем хронология Л. Диакона. Хронологию, указанную в русских летописях, не учитываем. Предположение об умозрительном характере летописной хронологии подтверждается их несоответствием данным византийских и арабских источников.
Русскому походу в Болгарию предшествовало посольство патрикия Калокира, сына херсонского протевона, с 15 кентинариями (1500 фунтов) золота к Святославу, чтобы тайно убедить русского князя совершить этот поход. Но посольству Калокира предшествовала война Византии и русов, о чем молчат русские летописи, но упоминает Яхья Антиохийский (указ. ранее соч.). Предметом спора стала Восточная Таврика, занятая русами во время похода Святослава на хазар. Яхья записал, что “болгары воспользовались борьбой Византии с арабами и опустошили окраины ее владений”. Император Никифор Фока (император с 963 по 969 гг.) “пошел… на них с росами – а были они в войне с ним – и условился с ними воевать болгар и напасть на них. Весной 968 г. Никифор отправил его [Калокира] к правителю Росии Свендославу. Летом того же, 968 года, когда император Никифор находился с войском в Сирии, Калокир прибыл к росам и, завязав дружбу со Святославом, уговорил [его] собрать сильное войско и выступить против мисян”. Подчеркнем, Святослав выступил в 968 г., а не как в русских летописях в 967. Л. Диакон при описании первого балканского похода 968 г. называет Святослава не архонтом Росии, а катархонтом тавров и катархонтом войска росов, то есть только военным предводителем. И. Скилица [143] пишет, что “росы повиновались; на пятом году царствования Никифора в августе месяце 11 индикта [968 г.] они напали на Болгарию, разорили многие города и села болгар, захватили обильную добычу и возвратились к себе”. Видимо, И. Скилица имеет ввиду конную дружину Святослава, направлявшуюся в Русь в связи с набегом на Киев печенегов в 968 г. Сообщение Скилицы о том, что первое нападении Руси случилось в 968 г. подтверждает Яхъя Антиохийский, помещая рассказ о русско-болгарской войне под 357 г. хиджры (7 декабря 967 – 25 ноября 968 г.). Описанный Л. Диаконом [35] разгром армии Петра под Доростолом случился в первую болгарскую войну – по Скилице в августе 968 г.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе