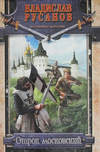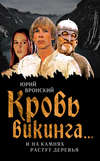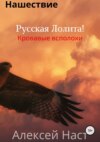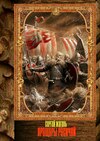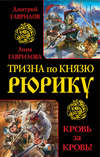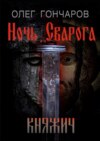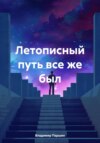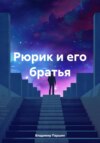Читать книгу: «Русь в IX и X веках», страница 6
Далее был совместный (Игоря и южной Руси) поход на Византию. О возможной причине участия в походе Игоря писал историк А.А. Горский [28]. Он считает, что Х-л-гу (в его понимании – Олег), осознавая недостаточность своих сил для похода на Царьград, сумел привлечь к участию в этом предприятии киевского князя Игоря. Аргументом для этого послужила, очевидно, выдача хазарам находившихся в Корсуне русов – явное нарушение византийцами союзнических обязательств. Поход начался летом в 941 г. Игорь выступил против Византии, принимая во внимание нейтралитет со стороны Хазарского каганата, имея потенциальных союзников в лице, враждующих с империей, венгров. Удар по Византии в 941 г. нанесен в тот момент, когда империя испытывала военное давление со стороны сицилийских арабов и венгров. Поход продлился с июня по сентябрь 941 г. – четыре месяца. Эти события отражены в европейской хронике [89; 1661; 163] поэтому здесь не приводятся. Систематизируем изложенное в хрониках. Флот шел вдоль западного побережья Черного моря. Греков уведомили стратиг Херсонеса и болгары. Не входя в пролив, флот стал ждать, когда зажгут огни на Фаросе (на входе в пролив). Здесь флот мог разделиться – часть ожидала огни Фароса, другая могла уйти к побережью Вифинии. После того, как огни зажгли, оставшаяся часть флота вошла в пролив. У нее состоялась битва у Иерона. Уцелевший в битве флот отошел к Сгоре (т.е. вышел из пролива направо – к северному побережью Малой Азии). После битвы у Иерона остатки флота Игоря могли уйти домой, а остатки флота южной Руси вплоть до осени продолжали грабить Малую Азию (Вифинию, Ираклию, Никомидию и Пафлагонию – территория северной части Малой Азии), откуда наиболее удобно уходить к Тамани. Однако на берегах Малой Азии русы терпят поражение и пытаются отойти к фракийскому берегу. Лишь немногим удалось спастись на своих судах, подойти к побережью Килы и бежать с наступлением ночи. Историк А.А. Горский [28] пишет, что Игорь, потерпев под Константинополем неудачу, вернулся в Киев, а Х-л-гу (Олег) предпочел на Русь не возвращаться и, сохраняя союз с хазарами, попытался обосноваться в прикаспийских землях. Судьба русов южной Руси прослеживается по другому источнику [99] в 943-944 гг. Н.Я. Половой [120] высказал предположение, что в подходе на Константинополь войска Руси разделились. Часть воинов, возглавляемая Игорем, сойдя с кораблей, в пешем порядке принялась грабить предместья столицы Византии, флот же, под командованием Х-л-гу (Олега), отправился дальше и был разбит у Иерона византийцами, применившими греческий огонь. Игорь, узнав о поражении флота и полагая, что он весь уничтожен, вернулся в Киев. Как полагает Н.Я. Половой, “летописцы сознательно исказили события, скомпоновав их так, что флот Руси был уничтожен после того, как русы ограбили предместья Константинополя и натворили много бед грекам”. Я.Н. Щапов [186] подчеркнул, что поражение под Иероном совсем не было столь тяжким, как это казалось имевшему перед собой только часть русских кораблей Игорю. Игорь не мог предполагать, что значительная часть русских воинов избежала поражения и еще несколько месяцев воевала в Малой Азии, о чем рассказали византийские хронисты. Анализируя все эти сообщения, трудно представить, что потерпевший поражение у Иерона русский флот остался без руководства. Предпринята попытка прорыва, дано второе морское сражение. Очевидно, что все это осуществляется под единым командованием – вероятно Х-л-ги (Олега), поименованного в Кембриджском документе – царь Русии (южной Руси). Лиутпранд пишет, что “Игорь повелел своему войску не убивать их [греков], а взять живыми”. Этот приказ мог быть обусловлен только политическими соображениями. Вероятно, в намерения Игоря не входило причинить империи серьезный военный и материальный ущерб, который мог бы помешать немедленному возобновлению дружественных отношений сразу же после завершения похода путем возврата Византии ее пленных солдат. Очевидно, Игорь удерживал своих воинов от грабежей и убийств, чтобы чрезмерной жестокостью не закрыть для себя пути к скорому, как он надеялся, примирению с Романом.
А вот дальше в летописях вновь начинаются вымыслы. Летописец сообщает, что после этого поражения, пополнив свои войска (Игорь же пришедъ нача совкуплѧти воѣ многи. и посла по Варѧги многи за море. вабѧ є на Греки. паки хотѣ поити на нѧ. … Игорь же совкупивъ вои многи. Варѧги Русь и Полѧнъı. Словѣни и Кривичи. и Тѣверьцѣ и Печенѣги [наа]. и тали оу нихъ поӕ. поиде на Греки въ лодьӕх̑ и на конихъ хотѧ мьстити себе.), он уже в 943 г. с участием печенегов (якобы союзники Игоря в этом походе), но без русов южной Руси, северян и древлян двинулся на Дунай к северным границам Византийской империи.
Вот только историк В.М. Истрин [50] не доверяет этим сообщениям, поскольку они связаны с хроникально зафиксированным походом только печенегов. А.А. Шахматов («Повесть Временных лет» и ее источники) писал: “23) По 6451 (943) г. читаем: «Пак придоша угри на Царьград и миръ створивше с Романомъ, возъвратишася въ свояси». Ср. у продолжателя Амартола: «Индикт 1 априля мьсяца придоша пакы оугри с многою силою. Патрикии же Феофан паракимоуменъ, изшедъ, клятв мирьскыя створи с ними, тали и от нарочитых моужь поятъ». Увар, и Унд., ср. греч. текс у Муральта, стр. 844. И здесь по-гречески Τούρκοι. Хронологическое определение, 6451 г., основывается на указании 1 индикта у продолжателя Амартола”. Он же писал: «Поход Игоря 944 года после поражения 941 года представляется явно сочиненным для того, чтобы покрыть бесславное событие, о котором летописец узнал из продолжателя Амартола». Поход этот – выдумка летописца, необходимая для национального самолюбия – месть за поражение. Если бы второй поход действительно последовал за первым, то византийские источники, тот же Лиутпранд, упомянули бы о нем. Был договор для восстановления торговых отношений, но даже в договоре 944 имеем явно невыгодные условия для Руси, что понятно по отношению к проигравшим войну. Договор включал в себя три обязательства сторон: 1) русским запрещалось воевать в Крыму; 2) Византия могла оказывать военную поддержку русскому князю; 3) русским надлежало защищать Херсонес от возможного нападения черных болгар. В соответствии с договором в 954 г. контингент русских воинов в составе имперских войск участвовали в осаде Хадата, а затем входил в крепостные гарнизоны на сирийской границе. Сирийский поэт Мутанабби зафиксировал присутствие руссов в составе византийской армии Варды Фоки в битве при Хадате в 955 году.
Сам текст договора тоже интересен. Игорь в тексте договора Игорь семь раз именуется как «великий князь русский» или «великий князь наш» [167]. А в разделе «О Корсунской стране» трижды значится некий «князь русский» (без добавления «великий»). Греки не могли так снизить титул в официальном документе. Вывод – в тексте договора в разделе «О Корсунской стране» речь идет не о великом киевском князе Игоре, а о каком-то другом правителе близ Корсунской страны. Поскольку в нападении было две составляющих – киевляне и русы южной Руси, то логичен вывод, что обращение «князь русский» относится к Х-л-гу. Это может подтверждаться тем, что владения князя Игоря слишком далеко от «Корсунской страны» и «черных болгар». Охранять Херсонскую фему и всю область от черных болгар или от других неприятелей для киевского князя было довольно трудно, как и Византии посылать к нему вспомогательное войско. Значит локация этого «князя русского» была существенно ближе к указанным землям. Более того, в этом разделе договора используется приказной тон («и велимъ кънязю Русьскому»), что допустимо к собственному вассалу или союзнику киевского князя. Поэтому логичен вывод – под «князем русским» в разделе «О Корсунской стране» речь идет о Х-л-гу. Отдельное упоминание свидетельствует о его независимости от киевского князя (всего лишь союзник).
Особо отметим, что это первый официальный документ, в котором указана семья киевского князя – он сам, супруга Ольга, сын Святослав и два племянника. Сразу расставим точки над “i” относительно рождения Святослава. Неоднозначность этого события в летописях отметил в свое время А.А. Шахматов («Повесть Временных лет» и ее источники): «22) Под 6450 (942) г. читаем: «Семевонъ иде на Храваты, и побѣженъ бысть Храваты, и умре, оставив Петр князя, сына своего, Болъгаромъ». Ср. у продолжателя Амартола: «Маиа мѣсяца въ 27, индикта 15, Семеонъ, князь Болгарьскыи, на Хъвраты подвиже воиноу и съступоу бывшоу, побѣжденъ бывъ и суща съ ним вся иссѣче. Тѣм неисцѣлною болѣзнію по сердцу ятъ, погыбе безаконновав всуе. Петра сына своего постави княземъ». Ср. в греч. текст у Муральта, стр. 830. Хронологическое определение, 6450 г., основано на указании 15 индикта; оно ошибочно, ибо Симеон умер в 6435 (927) г., который также падал на 15 индикт.» [индикт в хронологии – это период в 15 лет. В 312 году, при императоре Константине Великом, 15-летний индиктион стал использоваться в летосчислении. Индиктом назывался номер года внутри такого цикла]. Т. о., год рождения Святослава 942-й не требует никаких изменений.
Теперь относительно возраста супругов, т.к. вокруг этого вопроса тоже из-за летописца много дискуссий. По летописи Святослав родился, когда Игорю уже 64 года, а Ольге – 49. Появилось множество версий – и о двух Игорях, и о двух Ольгах, и о неверности. И все эти предположения базируются только на условную хронологию летописей. Если взять данные об Ольге из Житий, то получим, что она прожила: близ 70 лет, 75 лет, близ 90 лет. Ничего не требуется добавлять, чтобы убедиться в том, что летописцам НИЧЕГО НЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО о первой половине жизни Ольги и все их постулаты – ВЕРОЯТНОСТНЫЕ.
Обратимся к другим цифрам – продолжительности жизни женщин (княгинь) в период Х -начала ХI веков. Предслава, мать Ярополка, умерла в 990 году, не достигнув 60 лет. Мать князя Владимира, Малуша (Малфред, по Шахматову) при всей неточности даты рождения ок. 940-944 – 1000, прожила не более 60 лет. Жены князя Владимира: Рогнеда Полоцкая (960-1000) = 40 лет; Анна Византийская (963 – 1011) = 48 лет. Дочь князя Владимира, Мстислава, (978 – 1025) = 47 лет. Дочь Ярослава Мудрого, Анна, прожила не более 54 лет. Очевидно, что для женщин (княгинь) Древней Руси Х-го века 60 лет было редко достижимым возрастом, хотя у них было и питание, и уход более качественный, чем у простолюдинок.
Ясно, что летописец удлинил жизнь не только Игоря (чтобы “связать с Рюриком)”, но и Ольги. Не думаю, что его “ошибка” могла составить более 20 лет. Полагаю, что, если ему была известна дата рождения, то он мог ее представить в виде даты замужества. Поэтому примем в качестве основного постулата – рождение Ольги в 903 г. При таком решении рождение сына в 39 лет не вызывает сомнений ни у кого. Даже через 3 года (став вдовой), Ольга еще не достигает народной категории “баба ягодка опять”. А относительно времени ожидания наследника приведу пример Алиеноры Аквитанской: ее первый брак был в 13 лет, а первенца родила лишь в 23 года. Т.е. только первенца ждали 10 лет. При этом никто не сможет доказать, что у Ольги до Святослава не было других родов (например, девочек).
Что интересно, в 2012 г. вышла в свет статья А.Ю. Чернова [172], в которой автор, занимаясь переводом летописных дат, показал, что “имеем дело с некорректным переводом числовых значений. В кириллице взятая под титло прописная буква i «десятеричное» означала число 10, а иже – 8. Но в глаголице одна из двух букв иже (та, что соответствует кириллическому «восьмеричному» и) – это 20. Если перепутать и в дате (там, где десятки) вместо 20 увидеть 10, то год будет прочитан как 6411 (903). Но на самом деле это год 6421 (912/913) …”. Т.е. родилась Ольга (по А. Чернову) в 903 г. Важно то, что автор, работая с корректным пересчетом летописных дат (не только в отношении Ольги), не имел цели кого-то омолодить или состарить. Но его расчеты и наши умозаключения практически совпали. Поэтому остановимся на том, что родилась Ольга в 903 году.
Поскольку Игорь мог стать Киевским князем не ранее 35 лет и во второй половине 920-х годов, то его годом рождения мог быть 892-893 г. В этом случае рождение сына в 49-50 лет также не вызывает сомнений (дочь князя Владимира Мария Добронега родилась в 1011\1012 г., когда князю было 53 г.).
Вышгород был отдан Ольге не как отступная (как пишет А.С. Королев), а как дар в честь рождения сына. Так же поступит и Ярослав Мудрый, когда отдаст в вено (в лен) второй супруге – шведской принцессе – Ингигерд Ладогу с прилегающими землями.
Согласно арабским хроникам, в 943-944 гг. хазары заставили русов южной Руси, лезгинов и алан воевать с шиитами Азербайджана, мешавшими их торговле из-за конфликта шиитов с Халифатом. Нападавших было около 3 тысяч воинов. Руссам удалось разбить войска Марзубана ибн Мухаммеда и взять город Бердаа на Куре, который считался одним из самых богатых торговых городов того времени в прикаспийском регионе. Ибн Мискавейх [99] оставил подробное описание этих событий со слов их непосредственного участника Марзубана. Из его описания следует, что русы пришли в Бердаа не для того, чтобы разграбить город, а для того, чтобы в нем «остаться и править». Здесь не требовалось совместно с местным населением создавать что-то новое, например, новую торговлю, чтобы потом делить результаты. Здесь на Востоке уже всё создано, мир старый и организованный. Здесь нужно только отобрать часть того, что уже есть. Бедствием для русов стала эпидемия желудочного заболевания (русское кладбище). Когда ряды русов поредели, они покинули город. Достигнув своего лагеря на Куре, сели на корабли, которые их ожидали, ушли в море и уплыли в неизвестном для наблюдателей направлении. Видимо с южными русами была часть днепровских воинов, т.к. в Архангелогородской летописи говорится, что «возвратившася Русь восвояси без успеха, по том же лете спустя, и на третье лето приидоша в Киев». Н.Я. Половой (указ. ранее соч. с.103) описывая финал событий, пишет, что поскольку русские так долго не возвращались в Киев, есть все основания утверждать, что это была часть отряда Х-л-ги, отправившегося после похода на греков в Бердаа вместе с частью бойцов киевских. Но и там неудачи постигли отряд Х-л-ги. В Бердаа погиб вождь и значительная часть самого отряда. Лишь небольшой части воинов удалось добраться до Киева. Т. о., это была неудачная попытка южной Руси с участием некоторого количества днепровских бойцов закрепиться на данном участке торгового пути. Ранее не получилось в Самкерце, попытались в Бердаа. Но, тоже неудачно и о южной Руси более не упоминают.
На следующий (944) год в начале осени император прислал послов к Игорю для подписания и ратификации мирного договора. Упоминание в договоре имени Романа указывает на 944 г., т.к. в декабре того же года новым императором стал Константин VII Багрянородный. Некоторые нюансы договора уже были освещены выше. Стороны разделили северное побережье Чёрного моря на зоны ответственности (а не сферы влияния). Устье Днепра находится в совместном владении. Летом им владеют русские. Византийские власти проявили неуступчивость в вопросе зимовки русов в устье Днепра и на острове Святой Эферий (остров Березань напротив дельты Днепра), а с наступлением осени должны были идти “в домы своя, в Русь”. Изменились (не в лучшую сторону) и другие пункты договора. Русы провозглашены политическими и военными союзниками императора. Усилены были военные статьи договора. Вместо права русов служить при дворе и в армии императора отныне речь шла о военном сотрудничестве. Договор- 944 г. отстаивает интересы только княжеского рода и гостей из трех городов Среднего Поднепровья (от города Киева, затем из Чернигова и Переяславля). Наличие в договоре городов Киева и Переяславля – говорит о явной поздней вставке автора или редактора, т. к. во-первых, даже в середине Х века Константин VII не знал Киева – только Киоава (значит была редакция текста в летописях); во-вторых, по археологическим данным первое поселение на месте Переяславля появится только в конце Х века (основан князем Владимиром в 993 г.). Подчеркнем, не детинец, а именно поселение! Важно подчеркнуть, что в рассмотренный период не было никакой единой Руси. Были первородная т.н. южная Русь – держава Олега (Х-л-гу) и было княжество на Днепре с центром в городище Киоава.
О том, что не было ни второго похода, ни дани (юже ималъ Ѡлегъ. придамь и єще к тои дани,) сообщает сам же летописец. Но только делает это словами дружины Игоря – Ѡтроци Свѣньлъжи. изодѣлисѧ суть ѡружьємъ и портъı. а мъı нази. И это якобы после той дани, что больше Олеговой! Именно дружина Свенельда вернулась через два лета на третье в Киев из похода с южными русами на Бердаа. Вернулись не все, но добыча была поделена между оставшимися в живых. Вот и «изодѣлисѧ суть ѡружьємъ и портъı».
Но на этом искажения истории древней Руси не прекращаются. Летописец сообщает о смерти князя Игоря в 945 г. (условная хронология). Эта дата многими ставится под сомнение. Они основаны на трактате Константина VII «Об управлении империей» датируемом 948-952 гг. В нем князь Игорь называется архонтом Росии. Не мог император в 948-949 гг. (при написании трактата) не знать ситуацию в княжестве, которое ежегодно отправляет к грекам торговые караваны. Поэтому многие исследователи полагают, что реально Игорь мог принять смерть после летописного срока (примерно на рубеже 948-949 г.).
В своем трактате император Константина VII [68] пишет, что “приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии, а другие из крепости Милиниски, из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда. Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киоава, называемой Самватас …”. Прежде, чем остановится на городах, обратим внимание на слова императора внешняя Росия. По логике это означает, что должна быть и внутренняя Росия. В работе В. Егорова [37] встречаем его пояснение термина внешней Росии, которое отличается от определения официальной советско-российской истории, но, на мой взгляд, возможно, более корректное. «Константин недвусмысленно включает во внешнюю Росию не только один из основных городов Русской земли в узком смысле – Чернигов (Чернигога), но даже расположенный всего в 15 км от Киева Вышгород (Вусеград)! Попытки спасти положение утверждениями типа того, что внешняя Русь Багрянородного противопоставлена не Киеву, а самому Константинополю (приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы), лишь усугубляют дело. На самом деле, если читать текст непредвзято, сам Киев тоже противопоставлен Константинополю, ведь именно оттуда – из Киева в конечном счете, как следует из дальнейшего текста, отправляются моноксилы в Византию. То есть, как ни верти, Киев наравне с другими городами тоже должен входить во внешнюю Росию. Если не подгонять решение под ответ, то следует признать, что вся т.н. Киевская Русь в самом широком ее смысле, определяется Константином Багрянородным как внешняя. Где же тогда располагалась предполагаемая внутренняя Русь? Внутренняя Росия должна была быть внутри греческой ойкумены. Ответом могла бы быть все та же южная Русь, вроде бы существовавшая где-то в районе Керченского пролива и, следовательно, расположенная ближе к Константинополю, чем Киевская. Та самая внутренняя приазовская Русь, … должна была существовать, скорее всего, … на Черном или Азовском море». Т.е. видим четкое обоснование существования южной – внутренней – Руси (не в среднем Поднепровье). Чтобы защищать Херсонес и близлежащие к нему земли, как прописано в договоре 944 г., внутренняя Росия должна была располагать не на Днепре за порогами, а, как минимум, на Черном или Азовском море.
Общепринятая версия о Немогарде – Новгород на Волхове. С моей т. зр. эта версия неверна. Подробно этот вопрос освещен в [202]. Во-первых, если бы Святослав княжил в Новгороде, то летописцы XII века обязательно упомянули бы об этом. Ведь малолетнего Игоря упомянули, а здесь все-таки великий воин! Но в летописях – тишина. Во-вторых, Немогард означает город без имени (т.е. без названия). К такой категории могли относиться поселения, называемые просто Городище. К числу таких поселений относились прежде всего военные поселения. Из числа известных сегодня – размещенные у Гнездово, Моховское и в урочище Коровель. В-третьих, реконструированный Б.А. Рыбаковым маршрут полюдья не охватывает Новгород на Волхове, а поворачивает от Смоленска назад к Киоава. И главное, между Новгородом на Волхове и Днепром нет сквозной водной связи. А ведь Константин VII пишет, что “с наступлением весны, когда растает лед, вводят [моноксилы] в находящиеся по соседству водоемы. Так как эти [водоемы] впадают в реку Днепр, то и они из тамошних [мест] входят в эту самую реку и отправляются в Киову”. А из озера Ильмень вытекает только одна река – Волхов, которая впадает в Ладогу. Значит невозможно спускать моноксилы против течения рек Мста, Пола, Ловать с Полистью, Шелонь с Мшагой. Да и преодоление волока не назовешь спуском. Значит Немогард должен локализовать на водоеме, связанном с Днепром! Следующей версией топонима Немогард выступает Новгород-Северский. О времени возникновении города Новгород-Северский письменные источники не сообщают. Первые известия о городе содержатся в Поучении Владимира Мономаха под 1078-79 годом: ”И на заутре за Новымъ Городом разгнахомъ силны вои Белкатгина”. Обращает на себя следующий момент – город называется Новым без какой-либо приставки. Т.е. в конце XI в. – это все еще просто Новый. Название Северский пришло позже, когда в XII в. писали с учетом уже имеющихся названий городов. Город (Новгород Северский) основан на правом берегу реки Десны. С т. зр. сплава – все в порядке. Относительно времени основания – обратимся к археологии. Датировка сооружений первых укреплений в Новгороде-Северском, исходя из вещевых находок из заполнении оборонительного вала, достаточна широка – конец Х – 1-ая половина ХI вв. В материалах (Археология Украинской ССР, т.3) пишется, что VIII – X вв. на территории будущего города существует гнездо поселений роменской культуры. А.Н. Поляков [121] пишет, что первые укрепления в Новгороде-Северском, как показали раскопки, появляются после гибели Роменского городища (занимало площадь ок. 20 га). Археологи не отмечают какого-либо промежуточного слоя, который бы указывал на временное запустение местности, как это было после татаро-монгольского нашествия. Город ставится прямо на слое пожара, что говорит о возникновении Новгорода если не в том же 1015 году, то в ближайшее к нему время. Засыпка вала, в котором наряду с древнерусской встречается лепная роменская керамика, также свидетельствует в пользу этой мысли … Если условно принять какую-либо точную дату образования Новгорода-Северского, то справедливым будет считать таковой 1015 год – время гибели старого города. Поэтому с т. зр. времени основания города (даже конец Х в.) эта версия тоже не подходит (м. б. археологи еще не докопались, или не там копали?).
Такие же сомнения относительно корректности идентификации Телиутса как Любеч. С.Э. Цветков [165] полагал, что “среди городов, находившихся в пределах внешней Росии князя Игоря, назван город Телиуц(ч)а. Грецизированная форма Телиуц(ч)а подходит лишь к одному из двух сотен древнерусских городов, называемых в русских летописях. Это – Телич, находившийся в Южном Подгорье (Низких Бескидах), у истоков реки Вислоки, рядом с нынешним Тыличским перевалом”. Однако предлагаемый С.Э. Цветковым вариант не подходит, т.к. река Вислока является правым притоком Вислы и не имеет водной связи с Днепром или любым из его притоков. Значит эта локация не может участвовать в сплаве моноксил. Могу ошибаться относительно первенства отождествления с Луцком, но оно, видимо, принадлежит Н.М. Карамзину, который в [56] еще в 1-ой четверти XIX века писал, что “упоминаемые Константином Багрянородным последние три народа не суть ли Лучане Волынские (от коих Луцк получил свое имя). А поскольку Константин VII среди пактиотов-россов перечисляет лендзян (волынян), то Волынский Луцк приходится к месту”. Из различных вариаций со словом, А. Пересвет [113] пришел к такому же выводу, что славянское имя, если оно избежало искажений, действительно может быть Телюч(ць). “Однако te может быть не частью имени, а членом соединительной пары te. Тогда получается Лючь (Люць). Наиболее близким, действительно, окажется Лучьскъ, который находится на р. Стырь”. В старых документах встречаются различные версии этого топонима – Лутическ и латинизированная форма – Luceoria. Видимо, при передаче названия Лутическ императору было допущено искажение (произведена перестановка букв, что в то время могло быть). Тогда исходный Лутическ переходит в Телуческ. Пара -tе- со временем исчезла и остался Луческ, который позже назывался Луческ-Великий-на-Стыри, а еще позднее – Лучьск и Луцк. Город Луцк расположен на возвышенности у впадения реки Глушец в р. Стырь, которая превращала Луческ в остров. Город формировался тремя естественными холмами. На самом высоком располагался детинец. На современных картах это территория Государственного историко-культурного заповедника Старый Луцк. Поселение возникло в VII-VIII вв. Ранние укрепления были древо-земляными и разрушены в 1259 г. Новые укрепления и Каменный замок построены в конце ХІІІ – ХІV вв. Город располагался на торговых путях – Днестровском, связующим города Волыни с Северным Причерноморьем и Византией, и “из хазар в немец”. Исследования Луцка в последнее время отражены в работах С.В. Терского [151]. Терский, в частности, делает вывод о полной замене здесь лепной посуды гончарной уже в конце IХ – в начале Х вв. (с.135). Он же пишет, что на Волыни с Х в. появляются дружинные лагеря – грады и сопровождающие их дружинные погребальные комплексы, изменяется социальный и этнический состав дружин – пополнение состава дружин за счет кочевников и славянской знати [152]. Интересно то, что автор делает вывод о преимущественно мирном освоении Волыни великокняжеской властью в отличие от Восточного Прикарпатья. По р. Стырь в р. Припять, по которой в Днепр – вот и сплав моноксил. Но это не Любеч на Днепре. Относительно Любеча результаты последних исследований и правок сообщений Б.А. Рыбакова даны в Приложении «Любеч по новым данным».
В своем трактате Константин VII перечисляет пактиотов-росов. В истории не сохранилось известий о том, кто и когда сделал пактиотами волынян-бужан (лендзанинов). С.Э. Цветков (указ. ранее соч.), основывается на сообщениях Томаша Пешины (XVII в.) и Христиана Ф. Фризе (XVIII в.), которые писали, что “в 950 г. Олег [моравский] при помощи поляков вступил в Северную Моравию. Он надеялся на прибытие подкреплений из Киева, но вместо них вскоре получил известие о смерти Игоря.” Цветков (указ. ранее соч.), записал, что “когда в 947 г. венгры вновь ополчились на владения Олега (моравского), на помощь ему пришли поляки и киевские дружинники… Таким образом, очерченные Константином западные пределы внешней Росии не противоречат известию моравских летописей о том, что во второй половине 940-х гг. Игорь преломил копье о карпатское Подугорье”. Лушин В.Г. [90] также считает вероятной дату более позднюю, чем летописная – около 950 г. А до этого князь Игорь расширяет территорию своего государства, о чем русским летописям ничего не известно.
После смерти князя Игоря правление перешло к княгине Ольге. Вызывает удивление факт при наличии около 20 русских князей переход верховной власти к женщине. Каким образом женщина смогла стать во главе княжеского союза. Комментарий А.С. Королева [71]: “неожиданно выступает совсем другой образ. Это образ жестокой и коварной мстительницы, женщины-воительницы… Проявление хитрости, лукавства, лживости и коварства – эти умения, если ими владел предводитель, ценились дружинниками. Обладая всеми этими достоинствами и талантами, Ольга вполне могла возглавлять княжеский союз и управлять Киевом, а Святослав – находиться при ней, взяв на себя решение военных вопросов”. Этот эмоциональный пассаж основывается на описаниях “мести” Ольги. Чуть ниже рассмотрим так ли это.
Но, одних этих качеств и собственной дружины недостаточно для того, чтобы стать во главе княжеского союза. Ведь князей было около 20 и каждый с дружиной. Значит среди этих князей с их дружинами была у Ольги влиятельная и сильная поддержка. Именно сильная поддержка была здесь решающей. В то время, судя по летописям, такую поддержку могли оказать только воеводы (не князья) Асмунд и Свенельд со своими дружинами, а также киевское вече. В то время всех разделяла вера: одни были христиане, другие – язычники. Часть киевлян тоже была христианской. Об этом свидетельствует т.н. “киевское письмо”, датируемое Н. Голбом Х веком. Письмо содержит просьбу к евреям других городов пожертвовать денег для выкупа Яакова бен Ханукки и подписано 11 подписями. Оно даёт самое раннее свидетельство существования на Руси долгового рабства. Партия христиан (в которую входила часть дружины Игоря и летописные варяги) в то время оказалась сильнее.
Летописи долго и подробно описывают “месть” княгини за смерть мужа. Вот только эти описания не являются местью. Это языческий погребальный обряд. И Игорь, и Ольга на момент его смерти были язычниками. Об этом сообщает сам летописец – Игорь по договору клянется у Перуна, а Ольга руководит погребальным обрядом как верховная жрица Перуна. По данным историка М.Н. Козлова [64]: “Поминальными обрядами в честь погибшего великого князя могла управлять лишь верховная жрица бога Перуна – покровителя умершего князя. … Во время этих поминальных обрядов княгиня Ольга выполняла функции верховной жрицы, фактически управляя всеми обрядами, в том числе и человеческими жертвоприношениями, и никак не могла быть христианкой”. Подробно процедура этого обряда описана в [111]. Если верить только летописцу, то получается, что согласно первой мести Ольги, послы древлян с предложением замужества были заживо похоронены. Согласно второй мести – заживо сожжены в бане. Как думает здравомыслящий читатель, князь древлян, узнав, что его первые послы заживо похоронены, пошлет еще кого-нибудь? Ответ очевиден – нет. Но по летописям посылает. Значит летописец снова чего-то не договаривает (по незнанию? Или умышленно?).
Чтобы разобраться, обратимся к работе [64]. “Несколько проясняет ситуацию «Летописец вкратце» патриарха Никифора, в котором сообщается о том, что после казни «лучших людей» древлянского племени Ольга приказала «другим лучшим послам – приятна мне речь ваша, и направьте ко мне лучших» [35, стб. 26]. Таким образом, княгиня после казни несчастных жертв передала свой приказ через тех самых «древлянских лучших мужей», что недавно прибыли в Киев. Следовательно, никто не убивал древлянских послов, и они благополучно вернулись в свои дома. Жестокой казни были подвергнуты специальные жертвы, возможно, рабы … В пользу этой гипотезы свидетельствует и тот факт, что древляне после двойного убийства «послов» пустили Ольгу в Искоростень со всей дружиной.”
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе