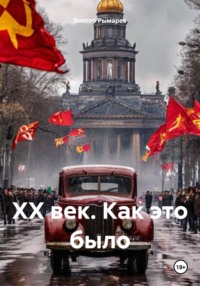Читать книгу: «ХХ век. Как это было», страница 2
Между тем, борьба за власть в Государственной Думе выражалась всё ярче и ярче. Милюковское выступление 1 ноября, оставшееся безнаказанным, имело колоссальный успех по всей России. Клеветнической речи верили. Торгово-промышленная Москва отозвалась на то выступление письмом на имя председателя Государственной Думы, которое заканчивалось словами: «Торгово-промышленная Москва заявляет Государственной Думе, что она душей и сердцем с нею».
26 ноября к Царице, испросив разрешение, приехала Великая Княгиня Виктория Фёдоровна, жена Великого Князя Кирилла Владимировича. Её родная сестра была королевой Румынской и, благодаря присоединению Румынии к союзникам, Виктория Фёдоровна стала как бы связующим звеном между двумя царствующими домами и её личные отношения с Их Величествами к этому моменту весьма улучшились. Последнее обстоятельство и толкнуло её на разговор с Царицей.
Расцеловавшись, как обычно, Царица спросила, не про Румынию ли хочет переговорить Великая Княгиня. Виктория Фёдоровна стала рассказывать всё, что она слышала от тех лиц, которых общество считало полезными для привлечения в состав правительства. Царица разволновалась. Она не соглашалась с Великой Княгиней и заявила, что уступка общественности это первый шаг к гибели. Те, кто требуют уступок – враги династии. Кто против нас? – спрашивала Царица и отвечала: – «Группа аристократов, играющая в бридж, сплетничающая, ничего в государственных делах не понимающая… Русский народ любит Государя, любит меня, любит нашу семью, он не хочет никаких перемен…» И в доказательство своей правоты Царица указывала на многочисленные письма, полученные со всех сторон России от простых людей, от раненых солдат и офицеров. Как последний довод, Великая Княгиня просила разрешения пригласить оставшегося у адмирала Нилова её супруга, Великого Князя Кирилла Владимировича, который может подтвердить то, что говорила она. Царица не пожелала. Они расстались. Царица вывела заключения из разговора, что «Владимировичи» настроены против неё, против её влияния на Государя. Болезненное воображение рисовало, что они лишь мечтают о наследовании престола после смерти Наследника.
Много шло тогда и резких анонимных писем по адресу Царицы, а ещё больше получала их её подруга А. А. Вырубова.
Сделала усилие повлиять на Царицу и её сестра Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна. По судьбе своего растерзанного взрывом бомбы мужа, по ужасам последнего немецкого погрома в Москве, Елизавета Фёдоровна знала хорошо, что такое наша политическая борьба… Женское окружение хорошо осведомляло её, что делается в общественных Московских кругах. И близкие люди, друзья и некоторые общественные Московские деятели, встречавшиеся с Великой Княгиней и не стеснявшиеся высказываться при ней откровенно, убедили её поехать и повлиять на Их Величеств. О том, что такое «старец» и его окружение она отлично знала, зачастую даже с преувеличением, от С. И. Тютчевой.
3 декабря к вечеру, Великая Княгиня приехала в Царское Село. Она хотела говорить с Государём, но Царица категорически заявила, что Царь очень занят, он завтра утром уезжает в Ставку и видеться с ним невозможно. Тогда Елизавета Фёдоровна стала говорить с сестрой-Царицей. Она старалась открыть ей глаза на всё происходящее в связи с Распутиным. Произошел резкий серьёзный спор, окончившийся разрывом. Александра Фёдоровна приняла тон Императрицы и попросила сестру замолчать и удалиться. Елизавета Фёдоровна, уходя, бросила сестре: «Вспомни судьбу Людовика 16-го и Марии Антуанет». Утром Елизавета Фёдоровна получила от Царицы записку, что поезд её ожидает. Царица с двумя старшими дочерьми проводила сестру на павильон. Больше они не виделись.
О том, что произошло в действительности между сёстрами, даже во дворце знали лишь немногие, самые близкие лица. В Москве же, из окружения Великой Княгини, в общественные круги сразу же проник слух, что Великая Княгиня потерпела полную неудачу. Распутин в полной силе. И это только усилило и без того крайне враждебное отношение к Царице. В Москве, больше чем где-либо, Царицу считали главной виновницей всего тогда происходящего, и оттуда этот слух расходился повсюду. От самой же Великой Княгини самые близкие люди узнали и о сказанной ею сестре ужасной последней фразе. Та фраза стала известна даже французскому послу Палеологу. Надо полагать, что это последнее свидание двух сестёр и было причиной тому, что Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна так сочувственно отнеслась к убийству «Старца», а после революции даже не сделала попытки повидаться с Царской Семьей.
4 декабря Государь с Наследником выехал в Ставку. Накануне Их Величества были у Вырубовой и видели там Распутина. Прощаясь, Государь хотел, чтобы Григорий перекрестил его, но Распутин, как-то странно, сказал: «Нет, сегодня ты меня благослови». Больше его Государь уже не видал. В Ставке почему-то ждали дарования Государем конституции, которой объявлено, конечно, не было. Вероятно, кто-то пустил тот слух, слыша кое-что про приготовляющийся особый Высочайший приказ. Приказ был подписан 12-го декабря. То был приказ политический и явился как бы ответом на вздорные сплетни о сепаратном мире. В нём говорилось, что Германия истощена, предлагает союзникам вступить в переговоры о мире, но что время к тому ещё не наступило, и что мир может быть дан «лишь после изгнания врага из наших пределов». Приказ был очень красив, очень академичен и прошеё совсем незамеченным. Автором приказа являлся генерал Гурко, а в составлении политической части принимал участие его брат, член Государственного Совета.
Между тем вся организованная общественность, уже переставшая, при никчёмном министре Внутренних дел Протопопове, бояться правительства, перешла в дружное наступление. С 9-го по 11-ое декабря в Москве был сделан ряд попыток собраний Съездов Земского и Городского Союзов. По распоряжению Протопопова полиция старалась мешать собраниям. Но те, всё-таки приняли заготовленные резолюции и разослали их по всей России. Резолюция Земского съезда, принятая под председательством князя Львова, требовала создания нового правительства, ответственного перед народным представительством.
Представители того же Земского Союза, Союза Городов, Военно-промышленных Комитетов, Московского биржевого Комитета, Хлебной биржи и кооперативов выпустили резолюцию явно революционного характера. Резолюция объявляла «Отечество в опасности» и говорила, между прочим: «Опираясь на организующийся народ, Государственная Дума должна неуклонно и мужественно довести начатое великое дело борьбы с нынешним политическим режимом до конца. Ни компромиссов, ни уступок… Пусть знает вся армия, что вся страна готова сплотиться для того, чтобы вывести Россию из переживаемого ею гибельного кризиса».
Съезд представителей Областных Военно-промышленных Комитетов принял 14-го декабря резолюцию, которой призывал на борьбу за создание «ответственного министерства» приглашал все общественные организации «не терять бодрости и напрячь все свои силы в общей борьбе за честь и свободу страны». В заключение Съезд обращался к армии и говорил: «В единении усилий страны и армии лежит залог и победы над общим врагом, и скорейшего водворения в России, требуемого всем народом, изменённого политического строя».
Рабочая делегация Совещания областных Военно-промышленных комитетов 13–15 декабря пошла ещё далее и ещё откровеннее. Она требовала использования текущего момента «для ускорения ликвидации войны в интересах международного пролетариата». Заявляла, что пролетариат должен бороться за заключение мира без аннексий и контрибуций, и что очередной задачей для рабочего класса является «решительное устранение нынешнего режима и создание на его месте временного правительства, опирающегося на организующийся самостоятельный и свободный народ».
В Москве же, в первый день недопущения, якобы, съездов, после 10 часов вечера, у князя Львова собрались, по его приглашению: М. М. Фёдоров, М. В. Челноков, Н. М. Кишкин и А. И. Хатисов. Князь Львов обрисовал общее положение дел и, как выход из него, предложил свержение Государя Николая II и замену его новым Государём, ныне Великим Князем Николаем Николаевичем, и составление ответственного министерства под председательством его – князя Львова. Эту свою кандидатуру князь мотивировал желанием большинства земств. Государя Николая II предполагалось вывезти за границу, Царицу заключить в монастырь. Переговорить с Великим Князем Николаем Николаевичем было поручено А. И. Хатисову. При согласии Великого Князя, Хатисов должен был прислать Львову телеграмму, что «госпиталь открывается», при несогласии – что «госпиталь не будет открыт». Хатисов это предложение принял и через несколько дней выехал в Петроград, а затем в Тифлис, где, успешно выполнил данное ему поручение.
Выступило против правительства и объединённое дворянство, всегда считавшееся до сих пор опорой трона и его правительства. На съезде 28 ноября новым председателем был выбран, вместо Струкова, Самарин. А в принятой 1-го декабря резолюции, между прочим, говорилось, что « Необходимо решительно устранить влияние тёмных сил на дела государственные; необходимо создать правительство сильное, русское по мысли и чувству, пользующееся народным доверием и способное к совместной работе с законодательными учреждениями».
За оппозиционную резолюцию из 126 участников голосовало 121. Правого депутата, Маркова 2-го даже не допустили на Съезд. Среди депутатов оппозиционеров Съезда некоторые носили придворные мундиры. В пылу спора П. Н. Крупенский крикнул одному из них: «Да вы, господа, прежде чем делать революцию, снимите ваши Придворные мундиры. Снимите их, а потом и делайте революцию».
Государственная Дума не замедлила ответить на присылавшиеся ей из Москвы призывы. В заседаниях 13–15 декабря депутаты резко нападали на правительство. Тучами прокламаций разносились по России принятые на Съездах резолюции. Участники Съездов непосредственно разносили по разным городам России директивы о подготовке государственного переворота и, в сущности говоря, сами стали продолжать на местах начатое на Съездах действо. Происходил могучий напор на правительство, напор, подготовлявший не только переворот, но и революцию; напор соединённых общественно-революционных сил.
Справиться с подобным напором могло только сильное, решительное, действующее дружно, заодно с Монархом, правительство, как это было в 1905 году, во время первой революции. Но в 1916 году в России такого правительства не было. Витте, Дурново, Столыпин, душившие одной рукой революцию и анархию и творившие другой необходимые реформы, – эти сильные люди спали в могилах.
Правительство 1916 года, по своему личному составу, было бессильно, слабо, неспособно противодействовать тому, что уже делалось и что подготовлялось. В такое исключительно важное время не было, в сущности, министра Внутренних дел. Его место занимал полубольной психически, болтун от общественности и политический шарлатан.
Помогавший ему, и то нелегально, его «товарищ министра» по делам полиции, генерал Курлов был надломленный физически человек, но и он, под давлением общественности и по слабости того же Протопопова, должен был уйти. 3 декабря состоялся указ Сенату о его назначении и увольнении. Вместо него, с конца ноября осталось, в полном смысле, пустое место. Председателя Совета министров, в действительности, тоже не было. Трепов, потерявший всякое доверие Монарха, со дня на день ждал увольнения. Эти два упора, на которых держится весь внутренний порядок, в действительности не существовали. Поэтому-то никто и не боялся действовать почти открыто революционно.
Ни Дворцовый комендант, ни политическая полиция министерства Внутренних дел ничего не знали про заговоры против личности Монарха.
Переживая тогда, часто случавшиеся с нею, приливы особо повышенной религиозности и веры в молитвы и богоугодность «Друга», Императрица решила совершить паломничество в Новгород. Там древние святыни, простой провинциальный народ, хороший человек губернатор Иславин. Вызванный в Царское Село обер-прокурор Синода, князь Жевахов доложил все нужные исторические справки, дал даже адрес одной «старицы». С Государыней поехали все четыре дочери, фрейлина графиня Гендрикова и А. А. Вырубова. Это последнее было даже вредно, но того хотел Распутин. Это же – постоянный передатчик его воли и желаний. Его медиум.
11 декабря, в 9 ч. утра императорский поезд подошел к дебаркадеру Новгорода. Встречали: губернатор, предводитель дворянства и начальник гарнизона. Губернатор рапортовал. Царица любезно подала всем руку. В зале вокзала губернаторша Иславина, с двумя дочерьми, встретила с букетами цветов. Во дворе вокзала маршевый эскадрон Лейб-гвардии Её Величества уланского полка, в конном строю, приветствовал своего шефа. То была последняя встреча полка со своим любимым шефом.
12 декабря Царица обедала у А. А. Вырубовой с Распутиным. Она рассказывала о своих впечатлениях посещения Новгорода, о восторженной встрече. Старец слушал довольно равнодушно. Все последние дни очень нервничал. По телефону то и дело угрожали, что его убьют. Протопопов же, а особенно Бадмаев, Белецкий и Мануйлов, каждый по-своему, растолковали ему, что готовится в России, как серьёзно надо предупредить обо всём Царицу. И вот, выслушав Царицу, он стал говорить. Дума, Союзы, либералы, революционеры, газетчики – все против Царя, против неё. Трепову верить нельзя – якшается с Родзянкой. Верить можно только Протопопову. Только на него можно положиться. Надо действовать.
И Царица верит предостережениям Старца. Он чувствует. Он провидец. И, встревоженная, она старается встревожить и Государя. Она умоляет его в письмах начать действовать против надвигающейся опасности. Умоляет закрыть Государственную Думу, принять еще и другие меры.
«Будь Петром Великим, Иваном Грозным, Императором Павлом, сокруши всех», – писала Царица мужу 14 декабря. – «Я бы повесила Трепова за его дурные советы. Распусти Думу сейчас же. Спокойно и с чистой совестью перед всей Россией я бы сослала Львова в Сибирь. Отняла бы чин у Самарина. Милюкова, Гучкова и Поливанова – тоже в Сибирь. Теперь война, и в такое время внутренняя война есть высшая измена. Отчего ты не смотришь на это дело так, я, право, не могу понять?»
А по Петербургу уже ползли слухи, что Распутина убьют, убьют и Вырубову, убьют и Царицу. В то время в кабинете одного положительного правого журналиста собиралась группа офицеров гвардейских полков, которые серьёзно обсуждали вопрос, как убить Императрицу. Один гвардейский офицер предупреждал тогда А. А. Вырубову о предстоящем террористическом акте, но это казалось бравадой, шуткой и ему не верили.
15-го декабря Распутин приезжал к А. А. Вырубовой. Он хотел лично поблагодарить Царицу за помилование его друга Мануйлова. Царица не пожелала приехать. Старец был огорчён.
Кровавый опыт привёл, наконец, к простой идее мобилизации русской промышленности. И дело, вырвавшееся из мертвящей обстановки военных канцелярий, пошло широким ходом. По официальным данным на армию посылалось в июле 1915 г. по 33 парка вместо затребованных 50-ти, а в сентябре, благодаря привлечению к работе частных заводов – 78. К концу 1916 г. армия, не достигнув, конечно, тех высоких норм, которые практиковались в армиях союзников, обладала всё же вполне достаточными боевыми средствами, чтобы начать планомерную и широкую операцию на всём своём фронте.
Это обстоятельство также было учтено надлежаще в войсках, укрепляя доверие к Государственной Думе и общественным организациям. Но в области внутренней политики положение не улучшалось. И к началу 1917 года крайне напряжённая атмосфера политической борьбы выдвинула новое средство:
– Переворот!
Безудержная вакханалия, какой-то садизм власти, который проявляли сменявшиеся один за другим правители распутинского назначения, к началу 1917 года привели к тому, что в государстве не было ни одной политической партии, ни одного сословия, ни одного класса, на которое могло бы опереться царское правительство. Врагом народа его считали все: Пуришкевич и Чхеидзе, объединённое дворянство и рабочие группы, великие князья и сколько-нибудь образованные солдаты.
В Севастополь к больному Алексееву приехали представители некоторых думских и общественных кругов. Они совершенно откровенно заявили, что назревает переворот. Как отнесётся к этому страна, они знают. Но какое впечатление произведёт переворот на фронте, они учесть не могут. Просили совета.
Алексеев в самой категорической форме указал на недопустимость каких бы то ни было государственных потрясений во время войны, на смертельную угрозу фронту, который по его пессимистическому определению "итак не слишком прочно держится", и просил во имя сохранения армии не делать этого шага.
Представители уехали, обещав принять меры к предотвращению готовившегося переворота.
Те же представители вслед за Алексеевым посетили Брусилова и Рузского и, получив от них ответ противоположного свойства, изменили своё первоначальное решение: подготовка переворота продолжалась.
В состав образовавшихся кружков входили некоторые члены правых и либеральных кругов Государственной Думы, прогрессивного блока, члены императорской фамилии и офицерство. Активным действиям должно было предшествовать последнее обращение к государю одного из великих князей… В случае неуспеха, в первой половине марта предполагалось вооружённой силой остановить императорский поезд во время следования его из Ставки в Петроград. Далее должно было последовать предложение государю отречься от престола, а в случае несогласия, физическое его устранение. Наследником предполагался законный правопреемник Алексей и регентом Михаил Александрович.
В то же время большая группа прогрессивного блока, земских и городских деятелей, причастная или осведомлённая о целях кружка, имела ряд заседаний для выяснения вопроса " какую роль должна сыграть после переворота Государственная Дума". Тогда же был намечен и первый состав кабинета, причём выбор главы его, после обсуждения кандидатур М. Родзянко и князя Львова, остановился на последнем.
Но судьба распорядилась иначе.
Раньше предполагавшегося переворота началась, по определению Альбера Тома, "самая солнечная, самая праздничная, самая бескровная русская революция"…
Находившая благоприятную почву в общих условиях жизни страны подготовка к революции прямо или косвенно велась давно. В ней приняли участие самые разнородные элементы: германское правительство, не жалевшее средств на социалистическую и пораженческую пропаганду в России, в особенности среди петроградских рабочих; социалистические партии, организовавшие свои ячейки среди рабочих и воинских частей; несомненно и протопоповское министерство, как говорили, провоцировавшее уличное выступление, чтобы вооружённой силой подавить его и тем разрядить невыносимо сгущённую атмосферу. Как будто все силы – по диаметрально противоположным побуждениям, разными путями, различными средствами шли к одной конечной цели…
Правительственными мероприятиями, при отсутствии общественной организации, расстраивалась промышленная жизнь страны, транспорт, исчезало топливо. Правительство оказалось бессильно и неумело в борьбе с этой разрухой, одной из причин которой были, несомненно, и эгоистические, иногда хищнические устремления торгово-промышленников.
Деревня была обездолена. Ряд тяжких мобилизаций без каких-либо льгот и изъятий, которые предоставлялись другим классам, работавшим на оборону, отняли у неё рабочие руки. А неустойчивость твёрдых цен, с поправками, внесенными в пользу крупного землевладения – в начале, и затем злоупотребление в системе развёрстки хлебной повинности, при отсутствии товарообмена с городом, привели к прекращению подвоза хлеба, голоду в городе и репрессиям в деревне.
Служилый класс, вследствие огромного поднятия цен и необеспеченности, бедствовал и роптал.
Назначения министров поражали своей неожиданностью и казались издевательством.
По выражению Милюкова, атмосфера насытилась электричеством, все чувствовали приближения грозы, но никто не знал, куда упадёт гроза.
ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО
«За все годы ничего непристойного
не видела и не слыхала о нём»
А. А. Вырубова
16 декабря 1916 года выдалось в Петрограде ясным и морозным. Весело поскрипывал снег под начищенными сапогами офицеров, неспешно прогуливающихся по Невскому проспекту. Впрочем, нижних чинов тоже хватало. Петербургский гарнизон был переполнен. Все попытки отправить солдат на фронт не увенчались успехом. Воевать не хотели, за исключением разве пылкой военной молодёжи, жаждавшей подвига. Никто не рвался проливать кровь за непонятно где находившиеся Дарданеллы. Лучше дёрнуть самогоночки и подцепить проститутку на Невском, чем полуголодному валяться в промёрзшем окопе.
В «Александровском» дворце было тепло и уютно. Александра Фёдоровна весело болтала с Анной Вырубовой.
– Непременно следует отвезти эту икону нашему другу! – Александра Фёдоровна взяла в руки икону, привезённую из Новгорода, и вопросительно посмотрела на Анну.
– Государыня, – Анна умоляюще сложила руки на груди, – Бога ради, увольте меня от выполнения сей миссии. Вы знаете, как не люблю я ездить в его квартиру. Моя поездка будет лишний раз фальшиво истолкована клеветниками.
– На нас вылито столько ушатов лжи и грязи, что нам уже при всём желании никогда не отмыться. Ложью больше, ложью меньше…
– Хорошо. – Анна вздохнула. – Я поеду. Но старца может не быть дома. Я недавно говорила по телефону с Григорием Ефимовичем, он собирался к Феликсу Юсупову.
– Зачем?
– Его жена чем-то там больна. Григорий Ефимович столь успешно лечил самого Феликса, что тот теперь пытается с его помощью вылечить и свою жену.
– Странно. – Государыня вопросительно посмотрела на икону, словно надеясь получить от неё ответ. – Должно быть, какая-нибудь ошибка, так как Ирина в Крыму и родителей Юсуповых нет в городе.
– Наверное, Григорий Ефимович что-то напутал. У него столько всевозможных просителей, что не грех и ошибиться.
– Должно быть. Но ты, Аннушка, всё-таки поспешай.
От Царского Села до Петрограда Анна доехала на поезде. На вокзале взяла извозчика. Извозчик попался лихой. Он нёсся по улицам стрелой. Возок мотало из стороны в сторону как «Штандарт» в ненастную погоду. Того и гляди, под полозья угодит одна из многочисленных женщин, выстроившихся в длинные очереди возле продуктовых магазинов на протяжении всего пути.
– Любезный, нельзя ли потише? Вы так передавите всех этих бедных женщин.
– Небось. – Извозчик повернул круглое румяное лицо. – Бабы, оне живучие. Хуже кошек.
Анна болезненно сморщилась. Вспомнилась зима 1914-1915 года, будка железнодорожного сторожа царско-сельской дороги, где после крушения поезда она лежала в совершенно бессознательном состоянии, с раздробленными ногами и тазобедренной костью и с трещинами черепа. Если бы не Григорий Ефимович, осталась бы она в живых? Два человека существуют в её жизни, благодаря которым она ещё радуется солнцу: старец и государыня. Ещё шестнадцатилетним подростком она заболела брюшным тифом в тяжёлой форме и три месяца находилась при смерти. У неё появилось воспаление лёгких, почек и мозга, отнялся язык и пропал слух. Врачами положение её было признано почти безнадёжным. Тогда её родители, большие почитатели протоиерея отца Иоанна Кронштадтского, пригласили его отслужить молебен у постели болящей дочери. Отец Иоанн отслужил молебен, взял стакан воды, благословил и облил больную. А ночью ей приснился сон, что Императрица Александра Фёдоровна вошла в её комнату и взяла её за руку. После этого она стала поправляться и только и мечтала о том, чтобы увидеть наяву свою высокую покровительницу. Императрице, конечно, рассказали об этом сновидении, и по свойственной Ей доброте Александре Фёдоровне захотелось навестить больную, и Она к ней поехала. С этой встречи началось обожание Вырубовой Императрицы…
Анна сладко потянулась: как хорошо, что в её жизни есть такие чудесные святые люди.
– Приехали, барыня! – вывел её из сладкой дрёмы грубый окрик извозчика. Анна с трудом вылезла из возка и поковыляла по скользкому тротуару Гороховой к дому Распутина.
Дверь открыла Акилина Лаптинская, добровольный секретарь Распутина. Увидев Анну, она, слащаво скривив губы, всплеснула пухлыми руками.
– Анна Александровна! Какими судьбами?
Анна слабо улыбнулась.
– Я к Григорию Ефимовичу. Дома он?
– Дома. Только он собирается к Феликсу Юсупову.
– Я не надолго. Государыня просила передать ему икону, которую мы привезли из Новгорода.
– Радость-то, какая. – Глаза Акилины не выразили и намёка на радость. – Да ты заходи. Чего в дверях стоишь.
Квартира, как всегда, была забита народом. Кроме Акилины в ней были Анна Николаевна Распутина (дальняя родственница Григория Ефимовича) и богомолка Катерина Ивановна Печеркина, выполнявшие роль прислуги. Они сидели за большим столом вместе с агентами охранного отделения Тереховым и Свистуновым и пили чай из начищенного до блеска ведёрного самовара. Судя по обильной испарине, покрывшей обширные лысины агентов, чая было выпито немало. Тут же вертелись взрослые дочери Распутина Матрёна и Варвара. Они только что вернулись с курсов, на которых учились и о чём-то весело переговаривались между собой.
Из соседней комнаты вышел Григорий Ефимович, одетый в новую голубую шёлковую рубашку, вышитую крупными золотыми колосьями.
– Аннушка! – Широкая улыбка осветила худое лицо подвижника. – Какая радость. Иди скорее, поцелуемся. – Они троекратно расцеловались. – Как живёшь?
– Хорошо. Никак не могу отойти от поездки в Новгород. Будто вчера вернулись. Там было так чудесно. Так славно помолились. На душе стало так светло, так радостно. Как будто нет войны, госпиталя, раненых, крови, слёз и людского горя.
Анна грустно и как-то виновато улыбнулась, но тут же её глаза вновь засияли, как светились всегда при встрече со старцем.
– Мы и вас не забываем. Государыня просила передать вам эту икону. На обороте мы все расписались: государыня, её дочери и я.
Анна протянула подарок старцу. Григорий Ефимович взял икону в обе руки, поднёс её к лицу, долго и внимательно разглядывал запечатлённый на ней лик Богоматери, затем молча отставил в сторону.
– Вам не понравилось? – робко поинтересовалась Анна.
– Икона не рубаха, чтобы нравиться или не нравиться. За заботу спасибо.
Анна вздохнула.
– Какой вы сегодня… колючий.
Григорий Ефимович подошёл к Анне вплотную.
– Так надо, – сказал кратко.
– Вы уже были у Феликса?
– Нет ещё. Сейчас поеду.
– Но ведь уже поздно.
– Феликс не хочет, чтобы об этом узнали его родители.
– Но Государыня сказала, что их нет в городе.
– Поэтому я и еду к Юсупову.
– Не понимаю вас.
– Скоро поймёшь.
Анна вздохнула.
– Благословите меня.
– Что ещё тебе нужно от меня? – сухо ответил Распутин. – Ты уже всё получила.
Анна глянула в отстранённо-далёкие глаза старца и молча вышла из квартиры.
Григорий Ефимович задумчиво посмотрел ей вслед и скрылся в своей спальне. А в гостиной продолжалось безмятежное чаепитие. Лишь Акилина беспокойно поглядывала на большие напольные часы, словно поджидала кого-то.
Тикали и тикали часы, а никто не шёл. Первой отправилась спать Катя, за ней легла и Анна Николаевна. Задремали Терехов со Свистуновым. Последней улеглась Акилина. Она долго не могла заснуть. Всё кряхтела и шептала что-то. Наконец, затихла.
Около полуночи приехал Феликс Юсупов, одетый в кожаную куртку шофёра. Григорий Ефимович молча накинул на плечи бобровую шубу и через кухню и задний ход, (парадный подъезд был заперт) они вышли из дома. По дороге Григорий Ефимович разбудил Анну Николаевну Распутину и попросил её закрыть за ними дверь.
Анна Николаевна, зевая, заперла дверь на засов и юркнула в тёплую постель. Феликс и Юсупов сели в стоявший поодаль автомобиль, который помчал их во дворец Юсупова.
Ехали молча. Феликс уверенно управлял машиной, будто всю жизнь провёл за рулём. Он поднял воротник куртки; красивое изнеженное лицо князя было бесстрастно. Лишь брови слегка сдвинуты к переносице. Григорий Ефимович, сидя на заднем сиденье, зябко кутался в шубу.
Машина подъехала к боковому подъезду юсуповского дворца на Мойке, который вёл непосредственно в кабинет Феликса Юсупова. Но вместо своего кабинета, Феликс повёл Распутина в комнату, которая находилась в подвальном этаже. Там уже были приготовлены чай, вино, конфеты, пирожные.
– Присаживайтесь, Григорий Ефимович, – сказал Юсупов, подводя гостя к столу. – Угощайтесь. А я схожу за Ириной. Она у себя принимает гостей.
– Гоже ли больной спускаться в подвал?
– Не так она и больна. Больше притворяется. Ей очень хочется с вами познакомиться. Наслушалась…
– Про меня плетут много небылиц. Слыхал, князь, что про меня болтают?
– Не глухой.
– И не боишься за свою жену- красавицу?
Феликс усмехнулся.
– Пусть дураки боятся. А я хорошо знаю вас как глубоко религиозного и порядочного человека.
– Иди, коли так.
Князь быстро побежал по скользким мраморным ступенькам лестницы вверх. В кабинете его дожидались остальные непосредственные участники заговора: Пуришкевич, Великий князь Дмитрий Павлович, доктор Лизаверт и поручик Сухотин.
– Князь! – Дмитрий Павлович икнул. – Где вы болтаетесь? Мы уже всё вино выпили. Я совсем было собрался послать лакея за новой порцией, да вот этот господин, – Великий князь мотнул головой в сторону Пуришкевича, – не позволил. Велите принести вина!
– Как можно, ваше высочество! – Пуришкевич вскочил с кресла, сделал два заплетающихся шага, покачнулся и благоразумно ретировался на место. – Никто не должен видеть нас у князя. Ведь мы приехали сюда ин, – он запнулся, – ког – ни-то! Для чего, спрашивается, мы подъезжали к боковому подъезду?
– Но я попал через парадный подъезд. И меня видела масса людей.
– Что с того? – не сдавался Пуришкевич. – Кто подумает на вас? Кто посмеет подумать на вас?!
– Господа, – Феликс Юсупов раздражённо выругался. – Хватит браниться. Лучше бы позаботились о том, как будем избавляться от трупа? Или вы передумали?
– Что значит передумали? – Дмитрий Павлович вновь икнул. – У нас просто нет иного выхода. Государь до такой степени верит в Распутина, что если бы произошло народное восстание, народ шёл бы на Царское Село, посланные против него войска, разбежались бы или перешли на сторону восставших, а с Государем остался бы один Распутин и говорил ему "не бойся", то он бы не отступил.
– Я давно занимаюсь оккультизмом, – сказал Феликс, – и могу вас уверить, господа, что такие люди, как Распутин, с такой магнетической силой, являются раз в несколько столетий… Никто Распутина не может заменить, поэтому устранение Распутина будет иметь для революции хорошие последствия.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе