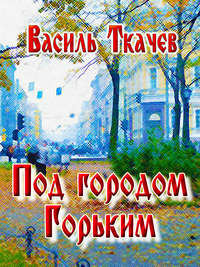Читать книгу: «Под городом Горьким (сборник)», страница 2
РАБ ШМЕЛЯ
Антон Подканавский попросил своих домашних, чтоб ему перво-наперво принесли в больничную палату пушечку, – она лежит в самом конце выдвижного ящика стола. Там – шмель. «Подержать его хочется, в глаза ему, окаянному, взглянуть». Сперва он, шмель, лежал в белом стареньком мамином платке, сразу впопыхах завязанном на простенький узелок – пусть и поползает там, пока не угомонится. Извини, шмель, у тебя судьба такая… Извини…
Было это еще задолго до войны, когда Подканавский прожил на этом свете всего ничего. Потом, когда он начал курить, вспомнил о шмеле и определил его, сухого, легенького, как пушинка, но все еще по-прежнему красивого – с желтыми подпалинами под крылышками – в спичечный коробок: лежи здесь, почтенный. Еще позже, когда в деревенскую лавку завезли монпансье в жестянках, то, опорожнив их, дети звенели медью и другой мелкой монетой, а взрослые приспособили те жестянки, или, как называли их некоторые, пушечки, под самосад, нитки, иголки и пуговицы. Антон же, тогда уже начинающий колхозник, переложил в одну из них все того шмеля: а теперь полежи здесь… здесь тебе более просторно…
Пока жила мама, шмель всегда лежал в одном месте – в сундуке, где была спрессована вся, можно сказать, одежда и разные простыни-пододеяльники. Мамы давно нет, неизвестно куда задевался и сундук, однако Антон Подканавский, невысокого роста и щуплый старичок, с прямым и чуть заостренным носом, хорошо помнит, как она, загнав шмеля в уголок оконной рамы, радовалась: «Держи его!.. Лови!.. Лови, шкодобу!.. Убежит!.. Ага, попался, тута-а!..» А тогда, завязав шмеля в тот белый старенький платок, счастливо улыбаясь, говорила сыну: «Запомни, Антон: если первого шмеля, что весной залетит, засушить и держать все время в доме, то счастье не обойдет тебя сторонушкой, будешь богатым и счастливым. На, сам спрячь этот узелок. Он твой…»
Тогда же, как только мальчик уснул, ему приснилось: будто попал он в шмелиное царство. Рыжевато-желтые шмели беспрерывно и невыносимо громко жужжали в садах и на подворьях, тяжело, беспорядочно и бесцельно, казалось, летали, словно перегруженные собственным весом, над головами людей и домашних животных, над всей зеленой и пахнущей цветами землей. Держались шмели чрезвычайно гордо и властно, как хозяева, как самые главные: ничего и никого не боялись.
Как раз в то время над деревней появились бомбардировщики: сперва вражеские, потом – наши. Появились – и исчезли. А шмели остались. И кое-кто из сельчан подумал, что шмели эти, чтоб им погано сделалось, накликали беду. Никогда ж раньше столько много этой мелюзги не было, а здесь – как из лукошка кто насыпал, да широко размахнулся – вон их, паразитов, сколько!.. Хоть ты прикажи детворе, чтобы те половили их да уничтожили. Только справятся ли? Уйма их, уйма!..
Один только отец Авгей, нахмурив брови, сказал:
– Не мы прислали к нам шмелей, непрошеные они, потому надо их уничтожить. А то, ишь ты, перевоплотились во вражьи самолеты… Поставить на свое место надо их…
И рванула первая бомба!..
На этом месте и проснулся Антон. Однако он хорошо помнил, что проснулся после того, как угрожающе крикнул в сторону отца: «Своего шмеля я не дам уничтожить!..»
Шмеля, как и просил, Подканавскому принесли. Поставили пушечку на тумбочке, немного поговорили, да и пошли: дел, говорят, дома много. Некогда. А старик лежал на спине, нацелив глаза в потолок и собирался встать, а как сделать это – не совсем знал: в последнее время силы почти целиком оставили его, тело сделалась непослушным, перестал ходить даже в столовую. Еду приносят в палату, санитарка помогает яму приподняться, топчет за спину подушку, и Подканавский кое-как справляется с ней, с едой-то.
А сегодня ему обязательно надо встать. Воскресенье, все легко больные и городские отпросились домой, и он один в палате. К тому же принесли, не забыли, и шмеля. Самое время посудачить с ним, с глазу на глаз. Будет ли еще когда такой подходящий момент? Давай, давай, Подканавский, собери всю свою энергию, всю свою волю и страсть в кулак, стисни зубы – и на ноги, братка!.. Шмель ждет. Ты же хотел поговорить с ним, неслухом, так – пожалуйста!..
И Подканавский приподнимается, приподнимается… морщится от боли… кряхтит… стонет… выругался даже матом, хотя в этом плане он человек сдержанный… и, опершись на локоть, повернулся на бок, свесил ноги… Как ни старался, как ни приспосабливался, однако стать на ноги не стал: удачно, решил, повезло, что и так получилось. Сидеть – не лежать: все же полегче разговаривать будет…
– Ну где ты, шмель? – дрожащей рукой Подканавский взял пушечку, раскрыл ее, затем дрожащими пальцами развернул бумажку, в которой был сухой – страшно подумать, как только сохранился! – шмель: без бумажки он бы, конечно, рассыпался в пыль, катаясь в своей металлической усыпальнице. – Это я, Антон. Из-под Канавы. Узнал? Не прикидывайся, что нет…Все ты знаешь, все ты помнишь… Потому как – святой… А теперь послушай меня, поговорить с тобой жажду! – Предательский ком, подступивший к горлу, спер дыхание, он никак не мог его проглотить, поэтому образовалась пауза; заодно вытер и влагу на глазах: – Так сказать!.. Что это ты, шмель, не выполнил своего предназначения, роли?.. Юлил, устранялся, а?.. Нет, ты не подумай, что я целиком положился на тебя, доверился… мол, пусть оно горит все синим пламенем, пальцем не пошевелю, ибо мне шмель денег заработает и каши наготовит, примет в партию и теперь вот положит пенсию по случаю возраста, чтобы я мог не только крякнуть-кашлянуть. Если бы так! Старался жить, все соки выжимал из себя, надеясь и на тебя, конечно, а получился из всего этого круглый пшик, сказать по правде. Ты погляди, погляди на меня, на кого я похож?.. А начиналось же все так хорошо… Видать, там и ты подмог. А после не больно старался, капризничал. Что факт, то факт. Как бы там ни было, а на тебя я сильно в обиде, шмель. Спасибо-о!.. Не оправдал ты маминых надежд, напрасно она тогда поймала тебя, а я носился с коробочками-пушечками, как с писаной торбой, и всю жизнь, дай памяти, был твоим рабом. Напрасно. И в армию брал, но даже до ефрейтора не дослужился, а вот гауптвахты не избежал. Даже, когда новую открывали, так совпало, что я ленту перерезал… и сразу порог переступил, первым, а ножницы возвратил тут же… Тогда я с командиром поспорил, за казаха Шакира заступился: он его узкоглазым обозвал… и чем еще – не помню… давно было… А ты говоришь!.. Не возражай, от своих слов я не отрекаюсь, шмель… И уже, пожалуй, никогда не отрекусь: нет на то времени…не осталось…
Кто-то резко открыл дверь в палату и тут же быстренько ее притворил. Тот кто-то наверняка знал, что в комнате должен быть только один человек – больной Подканавский – и вроде ему не с кем разговаривать, а он, гляньте, раззадорился – трещит больно уж чересчур, не умолкая. А когда тот кто-то увидел в палате одного старика, ретировался и притворил дверь: с ним все понятно!.. Сидит и сам с собой ведет беседу – не может, поди, унять все разбушевавшиеся в нем страсти. В его годы бывает. Лучше не задевать!..
Подканавский же, откашлявшись и восстановив дыхание, продолжал исповедь. Далее шмелю небезынтересно было узнать про его жизнь, запутанную и непростую, и подбирал для него из множества эпизодов и фактов, что роились в голове, как раз те, которые не украшали его, тропки-дорожки были пройдены-проеханы совсем не так, как виделось и хотелось, и в тех прорехах, на думку старика, был виноват и шмель. Получай, неслух!.. А может, он просто хотел исповедаться перед шмелем, потому что более не было перед кем. А ему так хотелось этого! И, пожалуй, здесь соединились, слились воедино два желания.
– А тогда же, сразу после войны, когда с нее начали приходить сельчане, пили за победу, и мне налили в кружку. Проглотил, и так понравилось, и так полюбил я это дело!.. Если бы я знал, что мне совсем пить нельзя… по наследственному. Гены, ити их мать!.. Так, сдается?.. С годами разобрался, что к чему. Но к тому времени много чего потерял из-за нее, холеры… В деда удался, а он тоже сопротивления алкоголю не имел… и у меня такой организм – без педалей на тормоз: попала капля в рот – еще давай, еще… пока ночь не наступит. Это трудно объяснить, как хотелось: спал и видел только водку… Ни баб, как некоторые, а водку… Она и стала моей бедой. Тем временем женился на соседке Ольге, она уже выучилась на учительницу, в Обидовичах детишек учила. Сошлись, значит, начали жить. А когда я деньги у нее украл, чтобы выпить, она обнаружила пропажу и сказала, чтобы убирался… негоже, дескать, учительнице с пьяницей жить. По тем временам – да-а, конечно!.. А уже сынок был у нас, Васька… брат мой на фронте погиб, под Ленинградом, так чтобы помнить его… в честь брата назвали… Вот так, шмель!.. А ты говоришь!.. К бабке в Зимницу меня мать сводила, после ее шушуканья пошла светлая полоса: на шофера выучился, полуторку дали… в основном солому свозил с поля и за хлебом ездил в Журавичи… и Ваську брал иной раз с собой, когда за хлебом… Он больно крошки хлебные любил подбирать, что оставались в кузове на теплой от хлеба-то бляхе. Соберет их в кучку ручонками, и в рот, и в рот… А сам смеется, ты б видел!.. Тут Ольга молодец: и со стариками моими, и со мной хорошо вела себя… как ничего и не произошло… А тогда беда у меня случилась: посадили. На семь лет. Колесо для колхозной полуторки я перекинул в тех же Журавичах, около хлебозавода, из чужой машины в свою… Да хотелось мне, чтоб имелось у меня запасное колесо!.. А что получилось? Посадили… Не пойму и сегодня, кто подтолкнул. Судили в Журавичах. Выездной был. Показательный. Ольга Ваську на суд привела, а когда меня в «воронок» вели, сынок плакал – жалел… родная же кровь, что ни говори. Так умерла последняя надежда снова сойтись с Ольгой, а я любил ее, хоть она была и с конопатым лицом… А для меня самая красивая: глаза горели, как у цыганки. И душа хорошая. Как чувствовал, так и получилось: Ольга замуж вышла – за учителя, его на мою беду прислали в школу. Без руки был, правда, но и у нее же Васька… Баланс. Из тюрьмы вернулся раньше, попал под амнистию, собирался поехать куда-либо в шахты, однако Васька не отпустил: единственное светлое пятно, что у меня имелось на то время – хоть и на расстоянии… Да хоть когда увижу его, на колени посажу… Тяжко мне было тогда, ох и тяжко!.. Завел новую семью – жить не получилось, подала на развод баба, отсудила гумно у отца… Потому я, если и женился, больше не расписывался в сельсовете. А женился, надо сказать, часто. Пока Марусю не встретил, та родила мне двух дочек и сына… Появлялись дети и у Ольги… Здесь такая катавасия, братка шмель, получилась… Ваську записали в школе на Трофимову фамилию, нового, значит, мужа…Учителя же: захотели – и записали… А когда сын школу заканчивал, восемь классов, и ему надо было выписывать свидетельство, то кинулись: он же, Васька, на моей фамилии значится… без моего согласия не могут поменять фамилию… Ему нет шестнадцати… Несмышленыш, дескать, что с него взять-то… И ко мне, значит: напиши, Антон, что не против. Так для Васьки лучше будет – ты же сидел… Проклятая водка, проклятое колесо!.. Ну, если только ради Васьки. Сдался, хоть сперва и топырился: ни за что!.. А Васька потом стал писателем, его часто по радио читают, а когда объявляют, то называют его фамилию, понятное дело, а я-то знаю, какая она у него настоящая… И хоть плачь мне, откровенно скажу… Могла б прославиться наша фамилия, Подканавские мы, а прославилась другая, и когда передают, что Васька родился в нашей деревне, то много кто, в особенности из соседних деревень, ничего не могут понять: там же, в Гуте, таких и фамилий нету будто? Откуда там взялся писатель?.. От кого он там родился?.. В капусте, что ль, нашли?.. Или, в самом деле, аист тот принес?..
Отклонился я. Извини, шмель. О детях. Я начал своих детей называть такими же именами, какими называла своих и Ольга. По ним, правда, она меня переплюнула, хоть я и больше раз женился, а все потому, что она сразу двойню дала. Ну и благодарить Богу!..
Капитала, шмель, как ты понял и знаешь, я не нажил. И как наживешь, с кнутом ходивши за колхозным, а потом и людским стадом? Эх, да что там!..
А Васька приезжал несколько раз. С женой, с сыновьями. Жена у него красивая – откуда-то с Урала, что ли. Шапка у Васьки была, как у Брежнева. Если еще и не лучше. Книгу подписал. Дал денег на вино, это я помню хорошо, такое не забывается, и так бутылку белой привез. К нему в город, правда, я никогда не выбирался: не приглашал, собственно говоря. Раз у него два отца, то уж тот пусть ездит, фамилию которого он носит. По мне так. Алименты на Ваську, во, чуть не забыл сказать тебе, шмель, с меня не брали. А с чего ж было брать, с чего, шмель, ты вот скажи мне? С трудодней? Они тогда, учителя, хорошо жили. На мое не замахивались. Хоть в одном повезло, ты слышь!.. Так вот у тебя, шмель, и спросить должен, не отлагая: где оно лежало, то богатство? Где оно было спрятано, то счастье, на которое так надеялся? Не скажешь? Молчишь, язык проглотил, да-да!..
Я же, шмель, жил и верил: завтра заживу лучше, вот увидите!.. Наступало завтра, ну и что с того? А ты говоришь!.. Слышу, утешаешь: так Васька же у тебя… на виду все время… Утюг включи – и его увидишь и услышишь… Это, может, и единственная радость… кроме той, что алименты не платил… Но и у меня же, черт побери, должна была быть, если верить матери, своя, личная жизнь!.. Богатая и счастливая! Тьфу-у!..
Не получилась.
Хотел я упрекнуть тебя, шмель, отчихвостить по первое число, но испустил, как видишь, дух.
И здесь не получилось…
Хотя понимаю, отчего же: был бы у меня не мягкий, не такой доверчивый характер, тогда бы, может, и ты мне подмог, шмель… Ошибаюсь, скажи?.. А ты говоришь!..
* * *
Через неделю Антон Подканавский отошел в мир иной. На деревенском кладбище людей было не густо, похоронили его тихо, без речей. Кое-кто всплакнул. Кто-то полушепотом припомнил, что покойник со всеми, кому был должен, рассчитался. До копейки. Из всех его детей не было только Василия – ему даже не сообщили: посчитали, что отец тот, кто кормил и поил. Не заслужил, дескать, Антон.
Когда деревенские могильщики взяли прислоненную к березе крышку, чтобы закрыть гроб, подала, встрепенувшись, голос соседка Петушиха:
– Подождите! Я ж забыла!.. Вылетело!.. И как же я?!.
И она достала из кармана кофты пушечку, впопыхах засунула ее в карман покойнику, и, стоя у гроба, перекрестила его тремя пальцами:
– Прости, сосед!.. – а потом старушка окинула быстрым взглядом земляков, тихо сказала: – Просил, когда умирал… Может, хоть там ему повезет, Антону Авгеичу?..
ПРО ВОЙНУ
1
Нет, я тогда даже не ходил еще в школу, когда в нашей Искани сделали братскую могилу – как и надлежит, с памятником солдату, который крепко сжимал в руке автомат. Я, похоже, был еще в то время совсем несмышленышем: не помню вовсе даже того дня. Помню только, что памятник тот появился перед моими глазами как-то сразу, неожиданно, не было не было его, и вдруг – вот он перед тобой: смотри, малыш, это – солдат. Почему он такой большой и суровый – узнаешь позже. Это теперь я понимаю, что в жизни человека настает тот момент, когда он что-то всегда познает и запоминает впервые.
Ходил, конечно, у того памятника я и раньше, когда, наверное, мама водила меня еще за руку, а может, я сам держался за ее подол. Хотя памятник и был, но я не видел его – не видел так, как надо было видеть: не дорос. Всему, действительно, свое время. А уже когда был школьником, мы ежегодно приходили к памятнику в День Победы, кто-то из ветеранов обязательно рассказывал про войну, а мы читали стихотворения – также про войну. Доверили и мне однажды прочесть на память стихотворение, однако я сплоховал, не дочитал его до конца: расплакался. Меня успокоила учительница Ольга Кондратьевна и вытерла своим носовым платком мои слезы. Я дал себе слово никогда не пускать слезу, если буду читать стихотворение на следующий год, но мне не дали его больше ни на следующий год, ни позже. Были у нас чтецы, которые не плакали. Они и декламировали. Пускай. А я тем временем, пока они рассказывали, читал фамилии солдат, выбитые на памятнике, и мне так их было жалко, что я плакал еще крепче, но все смотрели на того, кто читал стихотворение, и меня не замечали. Это и хорошо, что не замечали: нечего выставлять слезы напоказ.
Памятник хорошо был виден из окна нашего дома, и я иногда подолгу смотрел на солдата. И хотя он отвернулся от меня и я видел только его широкую спину, все равно видел его глаза, и так жалел, что смотрит он вниз, себе под ноги, а мне очень хотелось, чтобы оглянулся он на нашу новую школу, на наш дом, который построили мои родители взамен того, который сгорел в войну. Да много чего мог бы увидеть солдат, если бы повернулся: и ферму, и мельницу, и кузницу…
«Он, сынок, все видит, не переживай, – утешала меня мама, когда я сказал ей о том, что беспокоило.
Хотя я и не понимал, как он видит, если стоит спиной ко всему, но соглашался с мамой: мамы все знают. Да и не только мамы – папы тоже, а послушав моего, то без него и совсем не было бы братской могилы. Не раз и не два рассказывал он мне, когда немного подрос, как они, сельчане, собирали кости где только можно было и свозили на пригорок, где должна была быть братская могила. За деревню был тяжелый бой, много полегло солдат, и сами же солдаты хоронили тех, кто погиб. У них, оказывается, была своя похоронная команда. Но где там было им тогда глубоко рыть ямы-могилы, и когда прошло время, дожди и весенние воды кое-где размыли захоронения.
– У нас тогда спор вышел, – вспоминал отец, – по такому вопросу. Попадались и лошадиные кости, их свозили вместе… И хотели также зарыть с солдатскими: дескать, и они же, лошади, воевали, как и люди… Пусть рядом спят люди и лошади. Чуть, было, не подрались. Но победили те, кто был только за солдат. Лошадиные кости похоронили отдельно, за деревней. Правильно, конечно, сделали. А ты как думаешь?
Я тогда, видать, только пожалел, что погибшим лошадкам не ставят памятников… Или, может, они где-то и есть?..
2
– Ховошка и Наталья идут уже к своим хлопцам, – мама посмотрела в окно и увидела на дороге, тянувшейся под горку, женщин, которые с узелками неторопливо поднимались к памятнику. На свидание. Нешто сегодня раньше, чем всегда? Они каждый год на девятое мая приходят. Утром, перед школьниками…
Я приехал из города, где сегодня живу и работаю, и мама угощает меня картофельными оладьями – драниками. Уже прошло много времени с того дня, когда я читал первый и последний раз стихотворение у памятника. Памятника из окна уже давно не видать, его укрыли деревья. Умер папа. Про войну он мне ничего так толком и не рассказал, хотя я и просил его: он, похоже, был такой же плакса, как и я, а только как-то признался, что ему, когда вернулся домой, было стыдно ходить по деревне: из всех его одногодков один он остался жив, и поэтому ему казалось, будто матери и вдовы смотрят ему всегда вслед с укоризной, с осуждением: «Как же так?! Наших нет, а он, гляньте, прогуливается! Не иначе, в кустах где-то прятался?» А может, отец ошибался? Скорее всего, так. Хотя люди, конечно, завидовали моей маме: без мужчины после войны ой как тяжело, ой как горестно было женщинам в деревне!..
Я также посмотрел в окно, Ховошка (она любила, когда ее так называли; в детстве картавила: я ховошая?) и Наталья были уже у памятника. Так стояли они и тогда, когда я, совсем еще пацан, проскользнул вслед за ними к памятнику, спрятался в кустах сирени, сидел и не дышал: мне хотелось знать, что будут делать там женщины. Они же разложили на платке еду, запомнил только, что были там красные яйца, сели перед платком на траву, налили в стопки понемногу самогона из какой-то, не иначе, трофейной зелено-синей бутылки: две для себя, две – для своих мужей, которые не пришли с войны. Подняли свои стопки.
– За вас, хлопчики, – сказала Ховошка. – Слышите вы там нас хотя или нет?
– Конечно, слышат, – более уверенно промолвила Наталья. – Как это не слышат? Слышат, они обязательно слышат нас, девка!..
Ховошка ничего не ответила, а продолжала говорить дальше:
– Пришли вот мы с Натальей вас навестить. Заодно и поговорить, о своей жизнь рассказать.
– А может, о нашей жизни не надо? Пускай спят они спокойно там… под звездочкой, – нахмурилась Наталья.
Ховошка на этот раз не согласилась:
– А кому же нам еще рассказать, если не им? Да и зачем тогда притопали сюда? Слезы свои показать разве что?.. Зачем им наши слезы?..
Наталья ничего не ответила, лишь надкусив губу, отвернулась, а сама, похоже, с трудом сдерживала себя – не расплакаться бы. А потом, вздохнув, прошептала:
– Живем мы хорошо…
– Да-да… – эти слова Натальи понравились Ховошке, она закивала головой, подбив прядку седых волос под черный платок. – Живем мы хорошо. Вот и Наталья подтверждает…
– Подтверждаю. А как же.
– В этом году разжились на кабанчиков, я и Наталья. Без жиров тяжело, одна бульба в рот не лезет. Если б еще коровка была, то и вовсе горя бы не знали. Нам бы хоть одну на двоих…
– Скажи, скажи моему, что Василек уже прошлым летом трудодни зарабатывал в колхозе… коня водил на окучке, – попросила Наталья.
Ховошка надулась:
– А сама разве не можешь? «Скажи, Ховошка, попроси, Ховошка». Я помолчу, говори ты.
Наталья не сразу решилась, но уже когда набралась смелости, решительности, сказала громко и гордо:
– Микола, а Василек наш коня, коня водит, хлеб зарабатывает!..
И расплакалась. Ховошка начала ее успокаивать, но потом, махнув рукой, продолжала далее:
– Жито в этом году кустится хорошо, стебли должны быть толстые, то найму людей, пускай хату перекроют. Печь еще та, что при тебе сделана была, Петро. А что с ней, печкой, станется? На нее не капает, течет только та крыша, со двора которая. Сыночка нашего назвала Петькой, в честь тебя…
– Ты ему уже об этом говорила сто раз, – заметила, но не с упреком, Наталья. – У меня уже рука закаменела стопку держать. Давай, скажи что-нибудь, да выпить пора. Заждались ведь они, соколики…
– Скажу. Как не сказать? За вас, парни. Чтобы мягкой была вам чужая земелька.
Женщины выпили, помолчали.
– Ты, Наталья, как шилом в одно место…
– Чего-чего?
– Перебила меня, я ж не сказала, что Петька не сопляк какой – учится уже в третьем классе, – тихо промолвила Ховошка. – В третьем… Тот раз говорила, что во втором… Сколь время прошло, а!..
– Ну если только так… Уточнение серьезное…
– Не повезло нам, девка: без мужиков остались.
– Да, да. Без них, – вздохнула Наталья и прослезилась. – А так все хорошо начиналось. Ой, чего ж это мы?! – Вдруг она встрепенулась. – Не говори больше про мужиков – ну их!.. А вдруг услышат… наши, а?..
– Наши не услышат. Э-хе-хе-хе… Ни чужих, ни своих… А надо как-то карабкаться… жить. Хочется жить…
– Иной раз, тебе признаюсь, я Николашкину сорочку нюхаю, она его потом пахнет. Густо так вся пахнет. Терпко. Не постирала тогда, сразу, так и лежит, как будто бы только снял с себя. Хорошо, что не дотронулась до нее тогда, как на войну забирали. Все руки не доходили. И хорошо.
– Тогда все валилось из рук, – поддержала Наталью Ховошка, огляделась по сторонам. – Ну что, девка, не пора ли нам? А то вон – слышишь? – школьники в горн дуют и барабанят… Скора будут… Убрать надо скатерку… Да постоим, послушаем школьников… Там и Петька мой…
– И мой Васенька прифрантился в новые штаны и сандалеты… Сам на себя заработал… Давай, давай, девка, прибирать… Заткни бутылку, заткни, чтобы не вылилась смола та. Может, Митрофан с гармонью придет, как тот раз, составит нам компанию. Тогда опять посидим после ребятни, песни попоем для своих соколиков…
Когда подрос, мне было стыдно, что я сидел в кустах и подслушивал солдатских вдов. А тогда я просто радовался, что слышал еще что-то про войну… Слушал и радовался… Ну не постреленок ли!
3
На школьном дворе было многолюдно. Девочки старших классов рвали цветы на клумбах, делали букеты и вручали их каждому желающему. Желающих нашлось много. Иван Иванович, директор школы, больше занимался тем, что не отпускал от себя руководителя группы пионеров, приехавших на праздник из Эстонии: здесь, в братской могиле, покоится их земляк. Приехали они вчера, засветло, поэтому успели познакомиться с деревней, побывали и у памятника, а ночевали по домам: желающих принять «иностранцев» нашлось немало. Однако на второй день поползли слухи, что эта приезжая малышня ведет себя высокомерно, брезгует едой, фыркает, не нравится им даже постельное белье; хотя белье как белье, еда как еда.
Однако на школьном дворе было не до гостей, каждый занимался своим делом. Учитель истории и создатель музея боевой славы Николай Кириллович показывал место каждому классу, где тот должен стоять, интересовался, все ли, кому надо выступать, готовы. Убедился: все. Чуть в сторонке от школят стоял, ссутулившись, Митрофан с гармонью, ему как раз от дома ближе через школьный двор к памятнику, поэтому задержался, решил понаблюдать за жизнью. А тут и команда: «На пра – ву! Шагом – арш!..» Команду подал историк, он был за главного на прохождении, а директор и гость из Эстонии пошли к братской могиле чуть впереди, неся в руках цветы. За ними – горнист и барабанщик, а там и все.
Николай Кириллович где отставал от колонны, где ускорялся и подбегал, – следил, одним словом, чтобы колонна не растянулась, хотя колонной назвать учеников этой небольшой, умирающей школки, которых собрал в это шествие историк, можно было только с большой натяжкой: в классе осталось по семь-восемь человек, однако все мальчики и девочки шагали к братской могиле с большой гордостью, с ощущением своей значимой причастности к этому празднику, к которому готовились они не один день.
– Поднятуться-я! – попросил голосом ротного старшины историк, и когда дети кое-как выполнили эту команду, подобрали ногу, то было видно, что Митрофан со своей неразлучной гармошкой заметно поотстал…
Однако он старался, как мог, топать вслед за всеми в стареньких, разношенных донельзя кирзовых сапогах.
4
Топот детских ног был далеко слышен. Колонна шла под звуки горна и мелкую дробь барабана.
– Уже близко, – подняла голову в сторону дороги, которая вела от школы, Ховошка. – Где это нам, девка, тут стать так, чтобы никому не мешать? Чтобы не путаться под ногами… Давай выйдем за оградку, а?
– Ага. Давай. Услышим, что будут говорить. Не глухие.
Вскоре колонна была уже около памятника, не заставил себя долго ждать и Митрофан, он стал рядом с Ховошкай и Натальей, поздоровался, а потом, как бы невзначай, одним глазом заглянул в матерчатую сумку, которую держала Наталья: там заметил горлышко бутылки, удовлетворенно крякнул и попросил тех не расходиться после всего. Хотя о том же самом его намеревались попросить и вдовы. Желания совпали, и они, присмирев, начали следить, что делается у памятника. Хорошенько рассмотрели гостя из Эстонии: обычный мужик, разве что белоголовый, имеет даже и белые усы. Таких сильно белых у нас нет. А когда его представили и дали слово, то он начал говорить с большим акцентам.
– Не шевелись, а то не разберешь, что он говорит, – попросила Наталью Ховошка.
– Какая-то мелюзга за ногу укусила… Вон, гадость!.. Вон!..
– Терпи. Не то терпели.
А гость из Эстонии, хотя и с акцентом, говорил трогательно; он похвалил сельчан, что те хорошо, бережно досматривают братскую могилу, в которой нашел вечный покой и их земляк, затем приглашал в гости. В ответ выступил Иван Иванович, поблагодарил, что приехали они из далекой республики, что помнят своего земляка. От местных ветеранов слова держал Михаил Севченко, тот каждый раз, выступаая перед детьми в школе или здесь, у братской могилы, обязательно рассказывает, как он, совсем еще юный солдат, попал в окружение, долго пробирался к своим или, в крайнем случае, к партизанам, а, подчеркивал это он особенно, когда перед самым носом появлялись нежданно-негаданно фрицы, то приходилось по нескольку часов тогда сидеть в болоте по самое горло, да в рыжей и вонючей воде, а на голове были обычные срезанные лопатками купины: так маскировались. Не шевельнуться. Не кашлянуть…
Иван Иванович посмотрел на людей, а их собралась уже довольно много, отыскал взглядом Митрофана, подал знак рукой, чтобы тот подошел к нему. Гармонист послушался.
– Товарищи! – Иван Иванович выдержал паузу, как бы подбирая слова. – Все вы знаете нашего Митрофана Демьяновича, отличного гармониста, чудесного человека. В войну он был совсем мальчуганом, только-только поехал в город учиться в ремесленное училище… на сварщика… Да, Митрофан Демьянович? На сварщика?
Митрофан кивнул.
– А там его застала война. На фронт не берут – возраст не тот, надо подрасти чуток. И по дороге в свою деревню парня поймали немцы. Так он оказался в концлагере…
– Извините, Иван Иванович, я не в концлагере был, я работал на руднике, – поспешил поправить директора Митрофан.
Стало как-то совсем тихо, даже можно было услышать ту мелюзгу, что гудела – звенела на всю мощь, которая, видать, и причиняла минутами раньше Наталье лишнюю заботу.
– Вы про войну расскажите нам, Митрофан Демьянович, – наконец-то нашелся директор школы.
Митрофан, как показалось, совсем растерялся. Да, да, не ослышался. Ему – про войну? Нет, никогда. Он же не видел войны. О чем же рассказывать, когда не о чем? Зачем же хвастаться тем, чего не было? Наплести, конечно, можно бочку арестантов, как некоторые делали, но где же тогда совесть? Нет, нет, не в его характере такое, и не просите, люди хорошие!..
Набравшись мужества, так и ответил директору:
– Я же не был на войне… Простите… Извините… Если что не так…
Как и минутой раньше Митрофан, растерялся сам директор. Он посмотрел сперва на людей, и те не могли не заметить, что почувствовал себя Иван Иванович неловко, однако потом быстро нашелся и просто попросил Митрофана исполнить для всех фронтовую мелодию. На выбор. Услышав эту просьбу, Митрофан слегка улыбнулся, и вскоре пальцы побежали по пуговицам гармошки… Он играл и пел:
– Ты ждешь, Лизавета,
От друга привета,
Ты спишь до рассвета,
Все грустишь обо мне.
Одержим победу,
К тебе я приеду
На горячем боевом коне.
И незаметно Митрофану начали подпевать. Сперва директор, потом гость из Эстонии, историк, колхозники, школьники…
Ховошка легонько, словно развлекаясь, ткнула пальцем в Наталью, а когда та глянула на нее, сказала серьезно и требовательно: – А ты чего? Не отставай!.. Над деревней плыла песня:
Приеду весною,
Ворота открою,
Я с тобой, ты со мною
Неразлучны навек,
В тоске и тревоге
Не стой на пороге,
Я вернусь, когда растает снег!..
То ли от того, что женщины перед этим выпили по капле, то ли по какой другой причине, но их голоса выделялись в этом стихийно образовавшемся людском хоре… Даже Митрофан придержал свой баритон: бежите, бежите вперед, девки, пускай знают все, что вы есть, что живете, что не покорились всем невзгодам и напастям… Я уже за вами как-нибудь. Так и быть.
Начислим
+3
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе