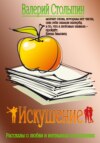Читать книгу: «Компромисс», страница 12
Хроники призрачных грёз
Превратила слёзы в инеи –
Перевыплакала – всё.
И от чувств, когда-то, сильных
Только холодом несёт
Не ищи со мною встречи,
Не заигрывай натужно.
Я любовью – не отвечу.
Мне тебя уже не нужно.
Аня Тет
Генка Салазкин – прыщавый шестнадцатилетний подросток, которого с некоторых пор одолевали странные фантазии, связанные с девчонками, в школе и в среде сверстников во дворе был обречён на обидное одиночество.
Мальчишки считали его маменькиным сынком и плаксой, девочки сторонились по причине крайней застенчивости и чрезмерной робости.
Преодолеть болезненное стеснение самостоятельно Генка не мог. Отца у него никогда не было, а мама – особа неприкаянная, практически сирота, с плохим здоровьем и очень сложной судьбой, зациклена на единственной цели – выжить, во что бы то ни стало.
Единственной родственницей у неё была двоюродная тётка, живущая на краю земли в глухой деревушке. Помочь Глафира Терентьевна ничем не могла – сама жила одиноко натуральным хозяйством, но Генку на каникулы принимала с охотой, даже денег за питание и проживание не спрашивала.
В деревне было пять изб, в которых обитали старики да старухи. Только у одних соседей, четы Головановых, крепких ещё стариков, жила девочка, Рената – поздний, неожиданно зачатый на склоне лет ребёнок.
Генка по привычке избегал и её, тем более что выглядела девочка не по возрасту зрелой – спелой ягодкой с оформившейся грудью и рельефной фигурой. Да и занята была Рената постоянно: воду носила, огород обихаживала, коров да овец на пастбище отгоняла. Забот у деревенских жителей невпроворот.
Юноша ещё в прошлый приезд заприметил соседку: наблюдал за ней, когда получалось проследить за Ренатой скрытно от всех: как грациозно девчонка несла коромысло с огромными вёдрами, как, подоткнув за пояс юбку, полола сорную траву в грядках, как загорала в купальнике на крыше сеновала. Однажды застал её нагую в речном затоне.
Вполне естественно, что соседка произвела на юношу неизгладимое впечатление. С тех пор Салазкин только о Ренате и думал: представлял, как знакомится, как разговаривает. Много чего сочинил, а заговорить стеснялся.
Познакомиться помог случай. Генка совсем не умел плавать: научить было некому. День знойный, душный. Со стороны запада наползали чёрные кучевые облака, вдали грохотали раскаты грома. Для деревенского паренька приближающаяся гроза была бы сигналом гулять ближе к дому.
Горожанин беспечно забрался на утлый плотик, поплыл к зарослям кувшинок и лилий. Ураганный ветер, следом ливневый дождь, налетели внезапно, застав врасплох, когда берег уже был далеко. От неожиданности юноша выронил шест. Страх сковал мышцы. Генка лёг на брёвна, вцепился в металлические скобы, разревелся. Помощи ждать было неоткуда.
Рената видела, как сосед уходил, а обратно не вернулся. Интуиция подсказала девочке, что соседский мальчишка мог попасть в беду, или любопытство заставило надеть плащ и отправиться на реку. Бесстрашная девчонка вплавь отбуксировала незадачливого мальчишку к берегу, отвела в баню, высушила.
На следующий день Генке казалось, что знает Ренату всю жизнь. Девочка учила его обходиться с домашней животиной, следить за огородом. Вдвоём справлялись с ежедневными обязанностями быстро. Времени на общение оставалось довольно.
Юноша сам не заметил, как в нём благодаря подруге поселилась уверенность. Оказалось, что общаться с девочкой совсем не страшно.
– Геночка, мне только шестнадцать, – застенчиво краснея, вяло отбивалась спустя месяц от неуверенной чувственной атаки возбуждённого близостью друга Рената, разомлевшая, полностью утратившая способность сопротивляться от сладких поцелуев на сеновале, – может, не торопиться нам, может, лучше подождать, когда взрослыми ставнем? Ты же и на следующий год приедешь. Я буду ждать. Мамочки, что я творю, глупая!
– Наверно лучше подождать, наверно торопимся, – затыкал её сахарный рот припухшими от горячих ласк губами юноша, вибрируя от нахлынувшего, не вполне осознанного, но очень сильного желания, впервые осмелившись прикоснуться к обнажённой коже ног выше коленок, под тонкой тканью сарафана, – конечно подождать. Я лишь дотронусь. Одним пальчиком. Вот здесь, – неуверенно исследовал он неожиданно влажное пространство, сокрытое малюсенькими трусиками. И нечаянно провалился вглубь.
Рената оцепенела. Проникающая в каждую клеточку тела нежность обволакивала, разливалась искристым сиянием, сладко сводила судорогой бёдра; что-то немыслимое, странное происходило в голове, временами исчезала потребность дышать, видеть и слышать.
Новые ощущения хлынули бурным потоком, затопили нежностью, лишая способности мыслить и двигаться.
Генке казалось, что в такт его дерзким движениям качается не только душистый сеновал и сумеречное, с мерцающими снежинками расцветающих на стремительно темнеющем небосводе звёзд, что весь мир постигла странная участь – изгибаться, искриться и кружить в резонансе с изумительно вкусными пульсирующими движениями очумевшего от вседозволенности, от ощущения полёта в невесомости тела.
Лето снаружи и весна внутри благоухали свежими цветочными запахами и затухающими закатными красками, звенели перекличками цикад. Рената стонала, плотно сжав глаза и губы, вцепившись мёртвой хваткой в Генкину рубашку, от которой одна за другой отлетали пуговицы, словно боялась провалиться в неведомую бездну.
Настоящее интимное волшебство, мистический чувственный экстаз, длился считанные секунды, за которые тот и другой успели прожить не одну жизнь.
В самый ответственный момент Генка почувствовал себя почти взрослым, но всё равно дрожал, то ли от напряжения, то ли от страха за то, что нечаянно случилось, за что возможно даже придётся отвечать.
Он крепко обнимал Ринату, расслабленно распростёртую теперь под ним в позе морской звезды, с задранной до самого подбородка юбкой, смотрел то на её испуганно-счастливое, с медленно набухающими слезинками, лицо, то на удивительно звёздное небо, думая о том, что теперь они непременно поженятся.
Его возбуждала, радовала и одновременно страшила мысль о том, что этим, если не пришибёт за подобное своевольство её папаня, можно будет заниматься сколько угодно, – хоть каждый день. Ничего, что они несовершеннолетние. Главное, что любят друг друга.
– Геночка, милый, – жалобно скулила Рината, – что же теперь будет, что мы натворили, какая же я глупая! Мамочки родные, а если тятька узнает, если ребёночек будет?
Мужчина дипломатично молчал, как и положено будущему главе семейства. К чему пустые обещания? Завтра он придёт и твёрдо скажет Петру Евгеньевичу своё веское слово.
Не пришёл, не сказал.
Сначала испугался, потом старательно убеждал себя, что сделает это завтра, тем более, что пришла телеграмма от мамы, что пора возвращаться, что осталось лишь несколько дней, когда они могут быть по-настоящему счастливы.
Рената была такая родная, такая податливая, такая нежная. Ночи напролёт они любились на сеновале, теряя голову. Девочка просила Генку остаться, хоть ненадолго, всего на несколько дней, просила настойчиво, жалобно, как дети, когда просят новую игрушку или мороженое.
Билет на поезд уже был куплен, отсрочить отъезд было невозможно.
Рената уплывала в чувственной неге от мальчишеских ласк, хотя понимала – ненужно, нельзя поддаваться сиюминутному настроению. Возможно это последняя ночь, даже последняя встреча. Она была юная, но всё-таки женщина. Интуиция не давала повода для оптимизма, хотя верить в превратности судьбы не хотелось.
– Не бросай меня, Геночка, – ревела девочка в голос, позволяя любимому нескромные вольности, вспыхивая как порох от ненасытно бесстыдного влечения, забывая об осторожности, – я буду хорошей женой, я всё-всё умею. Переезжай к нам. Или меня к себе забери.
– Конечно, заберу. Мы обязательно поженимся, не сомневайся. Ведь я люблю тебя!
Он был уверен, что говорит искренне. Фейерверк иллюзий и слов, в которых неожиданно появилась семья, родились и выросли дети, наполненные любовью и согласием, был неиссякаем. Как можно ему не верить, как!
Генка готов был обожествить подругу. Важно было то, что она, первая и единственная женщина в его жизни, научившая любить жизнь, существует в самой настоящей реальности, а он, он готов её щедрые дары съесть целиком, без остатка.
Беда в том, что в формуле, уравнении или теореме (неважно, как назвать расчёты, планирующие судьбу, координаты счастья, алгоритмы взаимодействия людей, не созревших для взрослых отношений), изначально заложена фатальная ошибка. Обнаружить и устранить досадное недоразумение, когда капризным оркестром искушающей соблазнами судьбы дирижирует вездесущий гормон, когда в крови бурлит безразличный к будущему концентрат необузданной страсти, а в головах свистит сквозняком проносящийся ветер – почти невозможно.
Юноша неузнаваемо изменился, вернувшись в привычный городской мир.
Это заметили одноклассники, увидели и почувствовали девочки. Новые отношения ошеломили, заставили замолчать совесть, стереть память о Ренате.
Яркие впечатления, романтические симпатии, самоуверенность, нежность, ловкость в обхождении, рождённые успехами у эмоциональных мечтательниц-подруг, позволили запросто знакомиться с девчонками, легко добиваться влюблённости, значит, согласия на интимную близость.
Рената писала письма каждый день. Генка неуверенно, почти равнодушно отвечал на одно из десяти. Некогда было отвлекаться на деревенскую девчонку, живущую где-то там, в забытом глухом захолустье, когда совсем рядом приветливо улыбались и сладко чирикали игривые синички. Тем более, что самого неприятного не произошло: тётка обязательно написала бы, случись у Ренаты беременность.
Девочка, влюбившаяся впервые в жизни, не в силах была понять – почему её забыли, за что бросили. С некоторых пора стала ненавидеть тишину, избегала одиночества, беседуя как с друзьями, жалуясь им на судьбу, с козами и телятами.
Потом случилось непоправимое несчастье: внезапно умерла мама Гены, сгорев в пламени раковой опухоли за несколько месяцев. Комиссия по делам несовершеннолетних настояла на опеке. Глафира Терентьевна согласилась, чтобы племянник не попал в приют, оформить попечительство до совершеннолетия, но переменить место жительства отказалась. Пришлось Генке переехать в деревню.
Смотреть в глаза Ренате, объясняться, знакомиться вновь было невыносимо страшно.
Девочка пришла сама.
– Я ждала тебя, Гена! Почему не писал?
– Можно, я не стану отвечать?
– Можно. Тогда скажи, только честно – ты меня ещё любишь?
– Не хочу врать. Не знаю. Это было так давно. Предлагаю дружить.
– Спасибо, это без меня. Терпеть не могу предателей и обманщиков. Ты обещал, клялся, что не бросишь, А сам…
На следующий день Рената уехала в город – учиться на кулинара.
Генка загрустил, – зачем я так сказал, – причитал он, неожиданно ощутив, что ничего на самом деле не забыл, что скучает, что любит. Но было поздно. Девочка оказалась последовательно непреклонной, извинений не приняла. Салазкин ушёл в армию, сам напросился в горячую точку. Там и сгинул.
Через год Рената вышла замуж. Но Генку она любила по-настоящему, а супругу была благодарна за то, что стал хорошим отцом её детям, разделил судьбу и всегда был примерным мужем.
Генка по глупости испортил жизнь Ренате, она по причине смертельной, как тогда казалось, обиды, и упрямства – ему. В результате несчастны оба.
Про первую любовь и странные интимные игры
Мужик тугим узлом совьется,
но, если пламя в нём клокочет,
всегда от женщины добьется
того, что женщина захочет.
Игорь Губерман
Дарья, жена Евгения Семёновича, привыкла относиться к любви во всех её проявлениях, к мужу, предельно добросовестно, но довольно равнодушно, как к вынужденной, навязанной рамками семейной морали и прочими условностями утомительных супружеских обязанностей.
Так деловито, как вела она себя в минуты интимного общения, обычно несут от крутого бережка тяжёлое коромысло с водицей на плечах – предельно аккуратно, стараясь не расплескать драгоценную влагу и не оступиться, но без огонька. Кому захочется спускаться после за тяжёлой ношей лишний раз?
Что ни говори, устала она от однообразия и предсказуемости потускневшей за долгие годы супружеской жизни, да и не чувствует уже прежнего жара, больше испытывает неловкость и стыд.
Семёныч старался раззадорить жену, напомнить ей, как славно они проводили время в постели ещё недавно, но только умаялся, так и не разбудив у супруги ответных чувств. Пыхтел, как паровоз, сползая бочком с рыхлого, расползающегося как перестоявшаяся квашня тела супруги, так и не сумев закончить деликатное интимное общение, – пошто ты такая-то ноне, как рыбина снулая, неужто я кавалерист какой, чтобы скакать на тебе часами незнамо зачем… сложно подмахнуть?
– Так я, мил человек, жеребятиной лет пять, как не интересуюсь. Тебе нать – ты и старайся. Не девица поди, чтобы ноги выше головы задирать да охать притворно, словно блаженная. Мне от того процесса, Женечка, ни горячо, ни холодно. Если забыл – меня уже внуки бабушкой кличут.
– О себе только и думаешь. А мне каково, спросила? Мужик – он до той поры в силе, пока бабу свою хочет. От недостатка любви всякие мужские болезни случаются.
– Ой, ли! Неужто и впрямь заскучал, застоялся, соколик? Не боишься, что кондратий в гости припрётся в самый неподходящий момент, что ногу или поясницу на финише судорогой скрутит? Оргазм ему подавай, охальнику! Не смеши мои коленки, они и без скачек болят – обхохочешься. Коли невтерпёж – найди себе кралю, какая без мужского догляда мается, её и обихаживай.
– А и найду! Скажи ещё, что не шутишь. Всю жизнь ревновала и вдруг сама на грех толкаешь. Я ещё ого-го, между прочим! Психану и…
– Вот туда и иди, извращенец престарелый. Кого таперича ревновать-то, а? Спи уже, горе луковое. Сердечко-то бьётся, словно не мужик, а канарейка какая. Побереги себя, поэкономь. Отстрелялся уже поди, до скончания века, сколько можно людей смешить! Пусть молодёжь энтим недостойным делом промышляет, им греховное бесстыдство в самый раз, чтобы детишек настрогать поболе, и вообще – для тонуса.
– Приземлённая ты, Дарья Степановна, бесчувственная, и ленивая. Нет, чтобы мужа в классической манере, чтобы дух вон, обслужить. Так нет – на промискуитет подбивает.
– Это ещё что за птица?
– Это блуд, любезнейшая, на стороне. Это когда никто никого не любит, но все совокупляются и делают вид, что им хорошо.
– Да ты орёл, как я погляжу… токмо без крыльев таперича. Скажи спасибо, что доселе пёрышки летательные не обрезала. Думаешь, не ведаю ничего про прежние твои любовные похождения!
– Ну-ну, о чём это ты?
– Да про Лизку хотя бы. Маманя твоя всю жизнь меня упрекала – мол, скрала тебя у самой достойной, а сама не сдюжила. А ты расскажи, милок, покайся про грехи свои окаянные.
– Лизку не трожь, она… святая! Первая она, потому лучшая. Сравнивать с ей, гадости говорить – никому не позволю!
– А женился всё одно на мне. Что так-то? Ну-ну, психани, поведай, что со мной не так, где у ей сочнее да слаще. Молчишь!
– Доведёшь, сковородина… вот возьму и расскажу всю правду… не в твою пользу. Потом не ной.
– Ужо интересно. Жуть как люблю про блуд и бесчинства на стороне слухать. Ну, как ты её… чем?
– Не блуд, а любовь! И не твоё собачье дело рассуждать на такие серьёзные темы.
– Ага, завёлся! Значит, было. Так и знала. Сказал “А” – говори всё остальное. Сперва про неё, после про всех остальных, кого огрызком своим пужал.
– Дура ты, Степановна. Слушать противно. Можно подумать сама недотрога. Что-то не припомню, когда я твою девственность оприходовать успел. Дёржаная ты мне досталась. Так я ведь не в обиде. Дело житейское. То было в другой жизни, о которой я ничего не помню. По акту и факту я тебя в неполной комплектации на баланс принял. Деталька одна отвалилась невзначай.
– Зато я помню, как ты на Лизку уже после нашей свадьбы смотрел, козлина мохнорылая, как взглядом облизывал да раздевал.
– Показалось тебе. Мы с ней по-доброму расстались, без скандалов и претензий.
– С этого места подробнее. На горячем небось поймал. С неё станется.
– Вовсе нет. Я в том виноват. Окрутила меня одна, хмельного… ты её не знаешь. Ничего о том не помню – не в себе был. Часто тот дрянной день вспоминаю. Сомнительно мне, что действительно на её прелести позарился. Возможно, ничего и не было. Я в том дому на вечеринке был, перебрал малёхо. Она мне и наливала, змеюка-разлучница. Лизку кто-то туда уже затемно привёл, словно намеренно, а я с той кралей голышами валяюсь. Оправдания она не приняла.
– Ты чего, старый дуралей, до сей поры жалеешь, что не до конца распробовал?
– Сама-то как думаешь? Любил я её пуще жизни. Не простила.
– Разнылся-то чего? Жизнь – процесс соблазнительный, но разный: когда сладко, порой тошнёхонько. Нет в ней системы, нет смысла, нет и предназначения. Вода, к примеру, течёт себе и течёт, потому, что иное природой не предусмотрено. Представь на секундочку, что она взяла и задумалась – почему да зачем просто тк течь, к кажному камешку приспосабливаться? То-то и оно – бардак и неразбериха выйдет. Думаешь, у меня всё гладко по жизни было? Всякое случалось. И любовь первая тоже, между прочим, очень даже проблемная была. На, смотри, вены себе резала, потому, как дурёха была.
– А то я не понял, когда женихался, что ты за меня как за соломинку ухватилась. Только я не любопытный.
– Ах ты, шпычок недоделанный. Соломинка, твою девизию! Ладно, проехали. Дальше сказывай.
– С той поры всё под откос. Думал – не выживу, так она мне люба была.
– Не перескакивай. Про любовь давай. Ревновать не буду: позднёхонько метаться. Да и не соперница она мне ноне. В моей постели почиваешь, мои титьки мнёшь. От судьбы не уйдёшь.
– А как обижусь… да уйду? Брошу всё, отпущу себе бороду…
– Ой, испужалась! Кому ты облезлый кобель надобен, коли ни одного дела до конца довести не могёшь! Рога-то и те еле носишь.
– Какие такие рога!
– С дуру брякнула! Не было ничего, не бы-ло. Не томи. Про Лизку дальше сказывай. Меня интимные подробности интересуют. Чем она тебя взяла… как она в постели-то, сладкая была девка, сочная, али нет?
– Не чета тебе. С ей у меня всё как нать получалось, с первого разу. И деталька та редкостная на нужном месте оказалась.
– Были когда-то и мы рысаками, – хохотнула Дарья, смачно чмокнув супруга во вспотевшую от недавнего возбуждения лысину, – не то, что нынешнее племя. С давлением и одышкой.
– Не сумлевайся, были. И окромя тебя кобылицы водились. Не одну тебя объездил да стреножил. Никто не жалобился. Я завсегда с аппетитом жил. Водочку любил… женщин… красивых и разных.
– Про полевых жён и случайных любовниц опосля расскажешь. На выдумку ты мастак.
– Ну, слушай, коли так. Колючая она была, точнее, неприступная. Год с лишком я за Лизаветой хвостиком бегал. На людях она меня подпускала, а чтобы наедине остаться – ни-ни. Я её измором взял. Разбирался тогда со всеми, кто бы к ней не подступался, мордобоем. Видно привыкла ко мне помаленьку, освоилась. Под руку брать позволяла, за талию держать.
В тот раз, только не смейся, коли хочешь, чтобы как было, без утайки рассказал. Мне самому тот груз носить в себе тяжело и больно. Хоть тебе исповедуюсь.
– И то верно. Должна же я понять, что это было. Может, ты со мной живёшь, а её любишь.
– Остались как-то раз мы наедине. Вечерело, сумерки спускались, но ещё видно было. Мы за зернотоком гуляли в дубовом перелеске. Прижал я Лизку к деревцу, хоть и робел.
– Вдул-таки!
– Не хами. Мы тогда дитями были: чистыми, непорочными.Не представляешь, что творилось со мной. А как она на меня смотрела! Сложно сказать, чего в том взгляде было больше – любопытства, тревоги, любви, желания, страха. Я сам дрожал как осиновый лист.
Шелковистые волосы цвета майского мёда, невесомо рассыпанные по плечам, краса её выразительного облика и девичья гордость, при попытке приблизиться щекотали мой нос и нервы. Подобраться к губам сквозь густые кудряшки было так сложно. Я же ещё никогда, ни с кем не целовался. Первая Лизка у меня была. Первая.
Как я боялся, что что-то может пойти не так, что я неловок, а она не готова вполне к такой близости. Вдруг рассердится, вдруг убежит!
У неё влажно блестели глаза, на шее выразительно пульсировала трепещущая жилка, просвечиваясь сквозь прозрачную кожу…
– Понятно! Не то, что я, квашня. Лизка твоя – тонкая и звонкая, принцесса прямо. Так и мне не семнадцать лет. Посмотреть бы на неё сейчас. Небось, та ещё моделька – поперёк себя вдвое шире. Или глиста в скафандре. Ты какую предпочитаешь?
– Всё, дале ничё не скажу. Я ей про романтику, про первую любовь, она мне про целлюлит и обвисшие титьки.
– Ладно, молчу. Выкладай уже свои мемуары. Прозрачная, так прозрачная. Не удивил. Сама такая была, только тебе в ту пору не досталась. Другой парубок первую пробу снял. Может я того слаще была. Всё, больше ни слова поперёк не скажу. Хочу про большую любовь.
– Короче, пульс у меня ламбаду танцевал, руки-ноги тряслись. Пробный поцелуй – то ещё испытание. Лиза чувствовала, понимала, что должно произойти. Она и дышать перестала в пугливом ожидании. Если со мной творилось такое, представляю, какие эмоции пережила она.
– Ну…
– Чё, ну-то! Я, если честно, чувствовал себя не охотником, а жертвой. Лизка напряглась, глаза зажмурила, выдохнула, словно нырять надумала, губёшки сжала, дрожит. А я не знаю, как пристроиться, как голову повернуть, чтобы куда нать попасть.
– Это чё было-то? Ну-ка целуй… чего тут мешать-то может? Губы – они и в африке губы. Чего втираешь-то мне! Не изображай мальчика одуванчика. У меня тоже был первый раз. Ничего такого не припомню. Правда, мне сразу не особо понравилось. Облизал, обслюнявил. Потом распробовала. Ты к каким губам-то пристраивался, болезный?
– Дура глупая, какое мне дело до того, как тебя соблазняли и облизывали! Меня там не было, и слава богу. Хотя, судя по всему, не он тебя – ты его испортила. Представь себе – я не такой как у твоего отца дети, вот!
– Надо же – обиделся! А ничего, что я про твою любовницу сказку слушаю, что это как бы диверсия, шантаж и провокация в одном флаконе? Тоже мне, чудак на буку М нашёлся. Всё у тебя не как у людей. Губья найти не может, а туда же.
– Да пошла ты!
– Прости, прости, Женечка. Не хотела тебя обидеть. Продолжай. Я слушаю, внимательно слушаю.
– Настроение пропало.
– А вот я тебе его сейчас подыму. Ох-ох, живёхонек солдатик: шеволится. Да какой важный-то. Сейчас мы тебя реанимируем, жизнь вдохнём. Вот так, вот так…
– Не тронь, чучело похотливое! Это не про любовь, это… как бы принуждение.
– Знаю, знаю, хорошенький мой. Не бабье это дело. Расслабься, мужчинка моя. Лежи, не барахтайся, сама всё как нать сделаю. Ты у меня самый сильный, самый сексуальный. Вот и чудненько. А ты говоришь купаться. Мастерство не пропьёшь.
– У-у-у!!!
– Потерпи, любый мой. Сейчас мы его и стрелять заставим. Вот и молодечик, вот и умничка. Рыба снулая… какая же я рыба. Горлица я, сирена. Ну-у-у… понравилось?
– Не скажу!
– Хватит дуться. Про Лизку хочу слушать. Без утайки. Сама подружака раскрылась или уговаривать пришлось? Я так понимаю, что под тем дубом ничего интересного не было. А когда было-то?
– Догадливая! Знамо – было. Целовались… часа два без передыха. Может боле. На следующий день мне ейный батька чуть ноги не выдернул. Зато Лизку словно подменили. После того свидания не я за ней – она за мной как цыпа за курой бегала. А целоваться я научился. Ещё как.
– Целоваться, целоваться. Баловство одно. Расскажи как в первый раз того… по взрослому.
– Не хочу. Это интимное, личное, о таком грех трепаться.
– Всё же было!
– Было – не было… быльём поросло. Мне вот тоже любопытно, тебя-то кто распробовал, как это случилось, с картинками или без?
– Сперва ты колись. Уговор дороже денег.
– В следующий раз.
– Не расскажешь – следующего раза вообще не будет.
– Ага, можно подумать, спрашивать стану. У меня в паспорте штамп стоит – ты по жизни обязана ноги раздвигать… по первому требованию. У меня абонемент… бессрочный.
– Покажи!
– Чего именно?
– По какому такому закону я тебе чем-то обязана? Я женщина свободная.
– По семейному кодексу.
– Облезешь! Нет у тебя такого права. Захочу – дам, не захочу – пошлю куда подальше.
– Рискни, попробуй.
– На что это ты намекаешь! Сильничать будешь?
– Коли и так! Кто мне запретит бабе своей по самую маковку вдуть!
– Рыбу что ли снулую? Ну-ка показывай как, хвастайся. Чем иметь-то будешь, не этим ли сдутым приспособлением… я валяюсь!
– Давай на спор! Обработаю как бог черепаху, со всех сторон. Пощады не проси!
– На интерес не буду.
– Пенсию на кон ставлю… и мужское достоинство.
– Жрать-то чё будешь, болезный? Я тебя голодранца кормить не нанималась. С достоинством и вовсе беда.
– Удочки продам. Нет… Маньке, соседке, по хозяйству помогу. Она добрая – накормит.
– И усыновит, и приголубит зараз. Ловлю на слове – обедов не спрашивай. Сильничай, маньячина. Пенсию на стол!
– На кой леший столько деньжищь тратить-то собралась?
– Сапоги куплю… бельё интимное, дикалон-духи.
– Насмешила! Кружева размером с парашют. Кому предъявлять такую красоту собралась? Мне ты и без трусов нравишься.
– Сам сказал, за язык не тянула. А то – Лизка, Лизка. Приземляйся уже. Я твоя Лизка с мокрой пи…
Тьфу, раззадорил-таки, старый развратник, разбудил во мне зверя. Ну, держись таперича!
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе