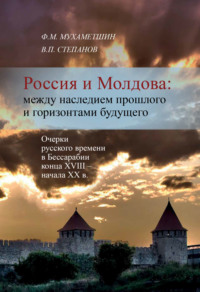Читать книгу: «Россия и Молдова: между наследием прошлого и горизонтами будущего», страница 6
Обращает на себя внимание статья А. Защука «Этнография Бессарабской области», опубликованная на страницах одного из первых научных журналов юга России – «Записки Одесского общества истории и древностей». Эта статья по праву заслуживает называться первой комплексной этнографической публикацией, написанной в середине XIX столетия. В статье была дана краткая характеристика народов, населявших Бессарабию, а именно: молдаван, болгар, армян, греков, немцев, швейцарцев, евреев, цыган и украинцев.
Предприняв попытку разобраться в этнических истоках разноплеменного населения Бессарабии, исследователь высказал справедливое предположение о взаимовлиянии древних даков и славянских племен221. Там же он обратил внимание на тему естественной ассимиляции представителей других национальностей, которые в ходе переселения в Пруто-Днестровское междуречье на протяжении XIX в. предпочитали записываться молдаванами.
Данному явлению имеется несколько пояснений. Пояснение религиозного характера уходит корнями еще в седое Средневековье. Так, по результатам Брестской унии 1596 г. часть русинского православного населения из Закарпатья переселилась к единоверцам, в православную Молдову. Как подчеркивал в начале XX в. В. Доманицкий, окруженные единоверцами «буковинские украинцы начали звать православную веру – “волошскою верою”, а “русская вера – это у них вера униатская, та, что у галицких украинцев”. Любопытен результат подобной расстановки понятий, приведший к тому, что «некоторые коренные украинцы начали называть себя “волохами”»222.
После 1812 г. на религиозную составляющую наложились еще и социально-экономические обстоятельства. Ссылаясь на изыскания Е. Дружининой, В. Стати подчеркивает, что представители населения левобережья Днестра и Буго-Днестровского междуречья, быстро увеличивавшегося, в ходе событий XIX столетия «заявляли, что относятся к “молдавской нации”». Объяснялось это стремлением сохранить личную свободу. Продолжая данную мысль, историк ссылается на своего коллегу В. Гросула, писавшего, что «многие русские и украинцы, чтобы не стать крепостными, объявляли себя молдаванами, закрепощение которых было запрещено. Однако чтобы записать себя молдаванами, нужно было знать этот этноним. И если беженцы из России и Украины его знали, ясно, что он был очень распространен»223.
В контексте нашего анализа Пруто-Днестровское междуречье предстает как тесная этноконтактная зона. Не случайно ее в некоторых средневековых источниках именовали «Русовлахия» и «Молдославия»224. Добавим, что левобережное Поднестровье (в ряде источников, в основном румыноязычных, – Транснистрия) длительное время, с легкой руки приближенного Екатерины II Григория Потемкина, именовалась «Молдова Ноуэ» (Новая Молдова). Данное название, впрочем, не выдержало испытания временем, возобладало наименование «Новороссия»225. Но тем не менее на данный аспект необходимо обратить внимание.
А. Шмидт. Если уж зашла речь о приднестровских молдаванах, думается, не будет лишним привести результаты изысканий еще одного офицера Генерального штаба – А. Шмидта, оставившего подробное описание Херсонской области в двух томах. В нем он критически рассматривает данные своих современников А.А. Скальковского, П.И. Кеппена и др.
Говоря о восточнороманском населении края, А. Шмидт разделяет его на молдаван и волохов. Хотя со вторым этнонимом в литературе того времени происходит еще заметная путаница. На середину XIX в. автор обозначает молдаван и волохов вторыми после наиболее многочисленных малороссиян – 75 тыс. д.о.п.226
Любопытно отношение украинцев к представителям других народов, проживающих по соседству, в том числе к молдаванам: «Замечательно также какое-то особое озлобление, обнаруживаемое украинцами в отношении евреев и немцев, колонистов, которым не хотят помогать в несчастии, но даже как будто радуются, когда кто-либо из них поставлен в бедственное положение. Эта постоянная вражда объясняется замкнутостью частной жизни немцев и евреев и исключительностью их интересов. Болгар точно также не любят малороссияне, хотя к ним менее строги, как к единоверцам. К молдаванам они более снисходительны, хотя часто смеются над ними; в селениях, где они живут, малороссияне говорят по-молдавски, и там, где их достаточно, уславливаются между собою, в какие дни должна быть в церкви служба на молдавском и на славянском языках. Это встретить можно почти во всех селениях государственных крестьян Тираспольского и Ананьевского округов. К русским хохол чрезвычайно недоверчив, особенно к солдатам, которых он называет по преимуществу москалями. Подобно тому, как великороссиянин утвердил за ним название хохла, так и он называет его кацапом, т. е. козлом»227.
Выше приведено очень точное описание межэтнических отношений, исторически сложившихся в регионе. Как уже понял читатель, отношение украинцев к молдаванам было снисходительно-терпимым. Обращает на себя внимание то, что в смешанных селах украинцы начинали использовать и молдавский язык, что свидетельствует об устойчивой этноязыковой идентичности молдаван в полиэтническом окружении.
В книге приводится подробное описание молдаван, их внешнего облика, характера, культуры повседневности. Подчеркивается, что молдаване живут на левобережье Днестра «в большем числе против валахов». Как и другие современники, А. Шмидт отметил сходство национального характера молдаван с украинцами. «Сам же ум его как бы погружен в дремоту, хотя присутствия способностей нельзя отвергать: его остроумие тяжело, замысловато, ум не прям, не силен, а изворотлив и скрытен, не всегда даже хитер, как явное следствие всеподавлявшего ига»228. Как и другие исследователи окраин империи, Шмидт смотрит на молдаванина Херсонщины свысока: «В характере молдаванина заметна еще какая-то дикость и склонность к предрассудкам и суеверию. Они покорны, по привычке повиноваться, но скрытны, скупы, склонны к пьянству, в особенности тираспольские крестьяне, <…> ленность есть отличительная черта их характера, <…> все домашние занятия возложены у них на женщин, которые вообще весьма трудолюбивы. Хозяин, если можно, сидит дома, в совершенной праздности»229 (подобное автор писал и об украинцах Херсонщины)230.
Показательна характеристика языка молдаван, данная Шмидтом: «Язык свой молдаване и валахи в Херсонской губернии сохранили до сих пор. Он есть смесь славянских слов с латинскими и итальянскими; самая азбука была принята ими славянская, а теперь заменяется русскою. Молдаване знают русский и малороссийский языки, но только по необходимости; менее всего они чуждаются малороссиян, так что между ними случаются иногда брачные союзы, хотя и редко»231.
Благодаря работе А. Шмидта читатель знакомился с различными сторонами культуры и быта молдаван левобережного Днестра, их основными занятиями, особенностями традиционной кухни и вкусовых предпочтений, одежды.
Трудно согласиться с мнением молдавских коллег В.С. Зеленчука и О.С. Лукьянец о том, что в работе А. Шмидта не содержится анализа собранных статистических и этнографических материалов232. Комплексный подход в описании полиэтничного населения Херсонщины середины XIX в. делает работу А. Шмидта ценным этнографическим источником по изучению «Новой Молдовы», не утратившим своего научного значения и сегодня.
Обращает на себя внимание цитата из книги этнополитического характера, написанной Львом Аристидовичем Кассо233, – «Россия на Дунае и образование Бессарабской области» (2013), в которой автор, сам бессарабский помещик, указывает на слабое представление об этом крае «в центральных управлениях». В качестве примера он приводит следующий: «“Ежегодник России”, издаваемый центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел, за 1910 г., перечисляя народности, заселяющие Бессарабию, не называет молдавскую, хотя она составляет больше половины всего населения Бессарабской губернии; а несколько лет тому назад Гражданский Кассационный Департамент признал Бессарабию вместе с Молдавией бывшими составными частями Византийской империи, не взирая на то, что власть константинопольских императоров никогда не простиралась севернее Дуная»234.
Данный отрывок красноречиво подчеркивает то, что спустя 100 лет со времени включения Бессарабии в состав России некоторые граждане страны, в том числе просвещенные, не особо отдавали себе отчет о том, кто живет на этой окраине империи.
П.П. Семенов-Тянь-Шанский и В.П. Семенов. В дело изучения истории, географии, статистики и этнографии народов России заметный вклад внесли отец и сын Семеновы.
Петр Петрович Семенов-старший (1827–1914) – крупный путешественник и естествоиспытатель, закончил философский факультет Петербургского университета. В 1849 г. был избран членом РГО, а в 1851 г. стал магистром ботаники, много и плодотворно путешествовал по Азии, в связи с чем в день пятидесятилетия первого путешествия П.П. Семенову было присвоено почетное имя Тянь-Шаньский. Ему принадлежит заслуга в организации проведения первой Всероссийской переписи населения в 1897 г. За выдающиеся заслуги перед человечеством именем Семенова-Тянь-Шаньского были названы многие местности в Европе, Азии и Северной Америке.
П.П. Семенов-Тянь-Шаньский оставил после себя богатое наследие. Еще в начале 60-х годов XIX столетия под его руководством было начато издание «Географическо-статистического словаря Российской Империи», продолжавшееся до 1885 г. Словарь заключал в себе «собрание географических и статистических сведений о России в форме, наиболее доступной для изучения и справок»235.
Остановим внимание уважаемого читателя только на одном издании: «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества: настольная и дорожная книга для русских людей»236. Книга вышла под редакцией сына Семенова-Тянь-Шанского – Вениамина Петровича Семенова, под общим руководством П.П. Семенова и В.И. Ламанского.
Четырнадцатый том этого издания посвящен описанию Крыма и Новороссии. В последнюю включались Херсонская, Таврическая, Екатеринославская, Ставропольская губернии, области войска Донского и Бессарабия.
Это была так называемая большая Новороссия, и включение в ее состав Бессарабии отнюдь не было ошибкой. Следует предположить, что это была своего рода реакция на формирование общего славянизированного, а точнее сказать – русифицированного пространства, в которое включалась и Бессарабия, с ее полиэтническим составом населения, в том числе – восточными романцами – молдаванами.
Как подчеркнул В. Семенов-Тянь-Шанский, «населенная, по приглашению Потемкина, самыми разнообразными этнографическими элементами, во главе с великороссами и малорусами, Новороссия начала сгущать свое население и разрабатывать под земледелие свои действенные степи со сказочной быстротой»237.
Допустимо предположить, что активизация промолдавских сил в первом десятилетии XX в. (открытие национально-демократической газеты «Басарабия», в 1907 г. – газеты «Басарабия Реынноитэ», в 1912 г. – журнала «Луминэторул», в 1913 г. – журнала «Кувынт молдовенеск» и т. п.) могла способствовать опасениям властей в связи с возможными национальными возмущениями в крае. Поэтому губерния оказалась включенной в огромный новороссийский анклав, где молдовенизм был, по-сути, растворен. Любопытно, что при презентации этноса авторы Словаря используют его название «молдаво-влахи или румыны», подчеркивая, что они составляют большинство жителей Бессарабской губернии. А далее в тексте уже применяется этноним «молдаване».
Согласно прозучавшей характеристике, «нравственность, честность, трезвость и, наконец, уважение к старшим и заветам прошлого составляют отличительные черты характера молдаванина»238.
В тексте представлены антропологические характеристики представителей молдавского народа, описаны их занятия, традиционная одежда, желище, пища, прокомментирована свадьба, семейные отношения, основные формы фольклора.
При подчеркивании православного вероисповедания молдаван одновременно обращается внимание на то, что «малоруссы дразнят молдаван: “Эй ты, тринадцатой веры” (кличка эта объясняется религиозной обособленностью и необщительностью молдаванина). С 1876 г. богослужение у всех молдаван совершается на церковно-славянском языке». При этом констатируется сохранение множества дохристианских представлений: «Все еще существуют у них домовые “стахии”, ведьмы – “стригои”, тени умерших, встающих из могил в день св. Андрея, против которых всесилен один чеснок, спрятанный в дверях и окнах, <…> молдаванин, прежде чем прикоснуться к напитку, дует на него, чтобы отогнать мертвецов»239 и т. п.
Вместе с тем следует констатировать, что отдельные сведения о молдаванах, как и о цыганах, приводятся в словаре как явно устаревшие. Например, в тексте говорится, что «проводы покойника, по-старинному – непременно даже летом на санях, запряженных четырьмя волами с рогами, перевязанными белыми холстяными полотенцами»240.
Вполне допустимо, что подобного рода практика могла иметь место, но на момент выхода словаря в свет немалое число авторов не указывали на подобного рода традицию. Одновременно, примерно в то время как начал издаваться словарь, увидела свет статья известного этнографа Д.И. Анучина «Сани, ладья и кони как принадлежности похоронного обряда» (1890)241. Вряд ли авторы Словаря позаимствовали подобную информацию из данной публикации, но категоричность их утверждения о том, что похороны осуществлялись только таким образом, не выдерживает критики и аргументов при сравнительном анализе.
Завершая рассмотрение данного источника, хотелось бы обратить внимание читателя на то, что словари на тот период представляли весьма серьезный источник информации. Основная масса людей, находившихся вне Бессарабии и незнакомых лично с ее населением, порой именно через подобные издания узнавали определенные подробности, касающиеся истории, культуры и положения того или иного народа.
Л.С. Берг. Работа Льва Семеновича Берга «Бессарабия. Страна. Люди. Хозяйство» впервые увидела свет в Петрограде в 1918 г. Это своего рода книга-протест в связи с событиями 1918 г., когда Румыния ввела свои войска в Бессарабию242. Напрямую в монографии об этом не говорится, но зато подробно представлены общие географические сведения, краткий исторический очерк, который завершается разделом «Бессарабия под русским владычеством». Имеются сведения об основных сельскохозяйственных занятиях населения, путях сообщения и главных населенных пунктах. В отдельной главе представлены этносоциальные сообщества, проживающие в крае, где наряду с социологическими и демографическими сведениями представлены достаточно подробные данные из этнографии каждой этносоциальной группы края.
Молдаванам, как наибольшему этнокультурному сообществу, Берг уделил немалое внимание. В его работе представлены материальная, духовная и соционормативная культура народа. Как уже отмечалось, монография Берга не случайно вышла в 1918 г., автор четко подчеркивает уникальность молдавского этноса.
Книгу Берга можно назвать энциклопедическим изданием. Он немало позаимствовал у предшественников. Но позаимствовал творчески, во многом домыслив и доведя до обобщений найденную информацию. Подводя некоторые итоги в разделе, посвященном описанию русскими авторами молдавского народа и его культуры, следует констатировать следующее:
– в первой половине XIX в. Россия получила возможность патронировать Дунайские княжества – Валахию и Молдову. Она была заинтересована в сохранении контроля над ними и содействии ослаблению Османской империи. Подобная политика создавала дополнительные условия для унификации этнического имени населения Дунайских княжеств;
– дальнейшие процессы интеграции в единое румынское государственное образование способствовали распространению этнонима «румын» на население запрутской Молдовы и консервации этнонима «молдаванин» в границах, контролируемых Россией;
– при анализе состояния этнической идентичности немалое значение имеют гетеростереотипы. На эту сторону вопроса, в частности, обратил внимание А.И. Защук, подчеркнувший, что русские «называют румынов – молдаванами, по названию княжества…»243. Здесь же следует добавить, что в рассматриваемый период еще было распространено именовать восточных романцев волохами;
– одной из причин сохранения молдавской идентичности в Бессарабии и Левобережном Поднестровье можно назвать сохранение русско-украинского культурного влияния, усиленное государственной границей Российской империи. Отдельно следует отметить политику русификации, направленную на унификацию бессарабской окраины в составе Российской империи;
– важно обозначить роль православной религии в процессах сохранения молдавской идентичности в регионе. Причем процесс влияния церкви осуществлялся зачастую опосредованно. Например, только одна независимая политика упомянутого в тексте митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в немалой степени способствовала отдалению молдавской православной кафедры от греческой церкви и ее сближению с русской церковью. Напомним, что в рассматриваемый период в среде основной массы безграмотного населения слово пастыря играло особую мобилизационную роль;
– важным моментом, на который обращается мало внимания (в контексте рассматриваемой нами тематики), является разделенность Бессарабии на три условные части: северную, центральную и южную. Историческая судьба населения названных региональных сегментов Бессарабии различается. Несмотря на экономическую интеграцию края в общероссийский рынок и процесс унификации региона в составе империи, подобное разделение в немалой степени способствовало консервации культурных особенностей этносоциальных групп населения Бессарабии;
– нельзя сбрасывать со счетов и многотысячные внедрения в состав молдавского населения края славянского элемента. Во-первых, это часть русинов, которые зачастую идентифицировали себя как носители «волошской веры» и тем самым ассимилировались в молдавском единоверческом пространстве. Во-вторых, несмотря на то что факт миграции беглых в Новороссию и в Бессарабию фиксируется во многих источниках, до сих пор мало внимания уделяется искусственной ассимиляции беглых, записывавшихся вместо умерших молдаван в Аккермане, Бендерах, Кишиневе, других крупных поселениях края (там тяжелее было их выявить). При этом новоявленные «молдаване» привносили в молдавскую культуру славянскую составляющую, что дополнительно способствовало отдалению молдаван Пруто-Днестровья от своих румынизируемых соэтников из-за Прута;
– отдельно следует остановиться на характеристике молдавской интеллигенции и элиты. Во-первых, она была немногочисленной. Часть ее, в силу нахождения Бессарабии в составе России, была естественным образом ориентирована на Санкт-Петербург, другая часть включилась в процессы интеграции румынского пространства, что дает основание сторонникам отсутствия молдавского этноса утверждать, что у молдаван не было своей интеллигенции. Ну о том, что это не так, в частности, свидетельствует недавно увидевшая свет фундаментальная двухтомная монография В.В. Морозана «Бессарабия и ее дворянство в XIX – начале XX века» (СПб., 2018. Т. I, II. 616; 592 с.).
Образ молдаванина в творчестве русских писателей
А.Ф. Вельтман, И.С. Аксаков, А.С. Афанасьев-Чужбинский, О.Е. Накко
А.Ф. Вельтман. Говоря о научном и художественном наследии Александра Фомича Вельтмана, следует отметить его большую эрудицию и тонкое внимание к деталям (у читателя еще будет возможность в этом убедиться).
На страницах романа «Странник» А. Вельтмана можно встретить отдельные художественные описания Бессарабии и тонкие зарисовки бессарабской жизни.
Поэтически образно писатель говорит о расположении края, сразу давая понять, что Бессарабия представляет собой часть исторических земель Молдовы: «Если я буду писать, например, о Бессарабии, что она лежит между такими-то и такими-то градусами широты и восточной долготы, что она граничит с такими-то и такими-то государствами, лесом, дорогами и т. д., что ее населяют такие-то жители, что в ней столько-то цынутов, или уездов, то, мне кажется, подобным описанием я отобью хлеб у географии – этого я не хочу делать: я скажу только, что Бессарабия лежит на земном шаре в виде длинной фигуры, склонившей главу свою на отрасль Карпатских гор и призывающей в объятия свои родную Молдавию»244.
Следует напомнить, что А.Ф. Вельтман обладал тонким поэтическим чутьем. Его стихи и писательский талант высоко оценивал А.С. Пушкин. Так, в «Страннике», делясь своими впечатлениями о Бессарабии и Кишиневе, автор удачно вкрапляет в прозу свои стихотворения, создавая особую образную картину южного края, наполненную точными мазками художника, передающего нравы молдаван, красоту их женщин и специфику быта, еще находящегося под влиянием турецкого наследия (особенно в среде бояр)245.
С конца XVIII в. и вплоть до революционных событий 1917 г. русские войска в ходе сражений с турками практически постоянно находились на территории края. Во время самих военных баталий их численность, естественно, увеличивалась. В связи с этим В. Стати, изучая творчество Вельтмана, сделал любопытное наблюдение. Считаем целесообразным привести его целиком: «В “свободном романе” А. Вельтмана немало печальных романтических драм, характерных, по сути своей, для этнической истории края:
В Молдавии, в одной деревне
Я заболел…
…Лишь хозяйка,
Все целомудрие храня,
Ходила около меня…
И исповедовалась:
– У нас здесь полк стоял пехотный…
Меня любил фельдфебель ротный…
Уж кажется, прошло два года,
Парентий (отче, священник) нас благословил
И вот до самого похода
Со мной Илья Евсеич жил.
………………………………..
много слез по нем лила…
………………………………..
С полгода, как я вышла замуж.
Мне молдаванская земля
Мила: хоть здешняя я родом,
Но вылита я в москаля,
Поручика, который взводом
В деревне нашей с год стоял…246
…Не счесть, сколько только в XIX в. взводов, полков, сколько фельдфебелей, поручиков, майоров, полковников, бесчисленное количество солдат благословил, а еще больше не благословил священник Парентий, после чего сотни тысяч (так в тексте. – Прим. авт.) Марвелиц (Маргьолиц) подолгу или понемногу лили слезы и качали красивых русоволосых Ванюшек и Марусь, которых в Молдавии и сегодня многое множество. В этом шутливом, но в то же время и грустном поэтическом экспромте А. Вельтмана своеобразно отражается особая сторона этнодемографических процессов в Молдавии XIX в.»247.
Внимательный читатель может заметить, что похожая ситуация могла складываться и при турках. В какой-то мере – да. Но нельзя забывать, что когда речь идет о конце XVIII–XIX в., то подразумевается время, когда религиозная принадлежность продолжала играть далеко не последнюю роль. Конечно, и турки сманивали или увозили силой молдаванок, при этом, за исключением райя, турки бывали в крае эпизодически, а русские находились в нем практически со времени начала военных кампаний.
Мозаичность подачи информации характеризует беллетристические описания молдавской повседневной культуры: «В котором-нибудь из этих селений мы остановимся. Садитесь, гости мои, под акацию; она разливает на нас благоухание свое; столетняя липа заслонила нас от солнца. Хозяин мазил уже заботится, чтоб угостить вас. Земфира и Зоица выносят приданое свое, разноцветные ковры своей работы, стелют на траву. Они не смотрят на вас, но очи их быстры и пламенны, темно-русые волосы завиты в косу, румянца их не потушит и время, груди их пышны, все они – свежесть и здоровье!
Вот несут вам кисти прозрачного винограда, волошские орехи, яблоки, сливы, груши, дыни, арбузы, едва только снятый сот, душистый, как принесенный ореадой248 Мелиссою. Домашнее вино легко и здорово. Чу! раздались скрыпка и кобза; два цыгана запели мититику249; старшие дочери-невесты собираются на джок; молодые молдаване лихими наездниками толпой подскакали к ним, слезают с коней, и все становятся в кружок. Здесь вы видите, как безмолвствуют уста их, как их взоры прикованы к земле и как движутся руки, ноги и весь кружок.
Долго продолжается мититика, и наконец следуют за ней сербешты, булгарешти и чабанешти250. Это веселее и живее»251.
Вельтману удается в одном предложении продемонстрировать полиэтничность края, с его экзотикой, добрым расположением к таким, как он, «странникам», а с другой стороны, тонко подчеркнуть, что для него, приезжего, носителя другой большой культуры, молдаване, цыгане, евреи и другие народы, мелькающие в его зарисовках, лишь экзотическая мишура русской окраины: «Устал я с дороги!.. Есть, пить, спать!.. Эй! Мой, циганешти, молдовенешти, румунешти, гречешти, формошика! ди грабе! мынкат!252».
Образы Вельтмана аллегоричны, потому они воспринимаются столь образно, оставляя в душе четкий отпечаток авторского видения предмета. Этот момент еще важен в контексте нашего разговора в том плане, что анализируется творчество носителя другой культуры, пытающегося интерпретировать культуру изучаемого народа.
В.П. Горчаков, один из близких друзей А.С. Пушкина, во время его бессарабской ссылки приводит в своих воспоминаниях описание кишиневского базара. В нем, уже в другом жанре, передается атмосфера базара Кишинева того времени, о котором писал Вельтман: «Проехав таким образом с версту, мы повернули налево мимо собора, и вскоре очутились на Старом базаре, или точнее, на образцовом для меня рынке, какого мне еще не случалось видеть.
Вся небольшая площадка самого базара и прилегающие к ней улицы были загромождены небольшими, полутемными лавками и пестреющею толпою разноплеменного народа. Тут были: молдаване и греки, итальянцы и немцы, болгары и армяне, турки и жиды, малороссияне и русские крестьяне-переселенцы, сохранившие исключительно во всей свежести свой наряд и приемы»253.
Весьма образно рисует Вельтман вступление русских войск в Молдавию в ходе Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. «Однако ж войско перешло уже границу. Отряд ген. – лейт. барона Крейца вступил в Яссы. Бым-бешлы-ага исчез, а диван-эффенди254 и владетельный князь предались покровительству России255.
Народ обступил полки уланские, благословляя знамена русского царя. Восторженный этерист256 в черной одежде и клобуке кричал: “Виват, император Николай!” Руки его подняты были к небу, в правой была развернута книга предсказаний. “Лети, России светлый ангел!” – кричал он по-гречески.
“Лети, России светлый ангел!
Твой пламенник нам в помощь дан,
То предсказал нам Агатангел,
То прорицал нам Иоанн!”
“Venit, venit Moscal! Venit cavaleria di Imperat! slava luy domnodseu257! XaXarve258! халоса! халоса! ши ey259 слузил государски!” – кричало одно греческое существо, тощее, как остов человеческий, служившее при князьях молдавских и видевшее на своем веку много чудес, и, между прочим, еврея-колдуна, который вызывал заклинаниями всю нечистую силу в стакан, наполненный водою… Пир горой в стакане, шум, визг и крики; <…> но вот является старшой <…> садится нечистая сила за браный стол <…> судят и рядят <…> про судьбу гадающих, про клады, про пропажу, про виноватого, про вора… Стоит еврейский колдун над стаканом с огромным Талмудом, читает молитвы, заклинания и повторяет речи нечистой силы, предсказывает и – все сбывается!..»260
В данных очерках просто нет возможности анализировать все произведения А. Вельтмана, написанные по молдавской тематике: «Радой», «Джок», «Два майора», «Костешские скалы», «Урсул» и другие, как подчеркивают исследователи, наиболее этнически насыщенные творения автора о Пруто-Днестровской Молдове261.
Творчество Вельтмана является дополнительным ярким свидетельством значительного влияния России на общественно-политические и культурные процессы в Бессарабии и в Дунайских княжествах.
У нас еще будет возможность остановиться на освещении вклада авторов художественных произведений, отразивших в своем творчестве отдельные стороны традиционной народной культуры, вопросы идентичности и межкультурного диалога. Но здесь хотелось бы отметить роль литературного слова как популяризатора знаний или по меньшей мере представлений об определенной территории и ее населении, нравах, идентичностях последнего.
Заметим, что художественные произведения читает намного большее число людей, нежели специальную (научную) литературу, поэтому трудно не оценить ее значение при формировании представлений об истории и географии определенного региона.
Время пребывания А.Ф. Вельтмана в Бессарабии совпадает с нахождением в ней А.С. Пушкина262. Читатель уже имел возможность убедиться в том, что писатели были знакомы и что Пушкин симпатизировал творчеству Вельтмана.
Период специфической пушкинской ссылки в Бессарабии263 оказался насыщенным новыми творческими замыслами264 и произведениями, вышедшими из-под пера писателя. В них он делился впечатлениями о местных народах (молдаванах, греках, болгарах и др.).
Можно сказать, что с легкой руки поэта образ жителя Бессарабии стал ассоциироваться у обывателя России с цыганами. Всем известна фраза, начинающая повествование в его поэме «Цыганы» фраза «Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют…»265.
В творчестве русских писателей А.Ф. Вельтмана, дружившего с ним А.С. Пушкина и других четко прослеживается идея, формирующая у читателя представление о том, что Бессарабия является русской землей, обагренной кровью ее воинов. Приведем знаменитое стихотворение А. Пушкина, адресованное Е.А. Баратынскому из Бессарабии (1822):
Сия пустынная страна
Священна для души поэта:
Она Державиным воспета
И славой русскою полна266.
Последующие события 1848 г. – революционного европейского года – лишь ускорили дальнейший процесс духовной интеграции Валахии, Трансильвании и Молдовы. Сами результаты революций в Дунайских княжествах носили относительный характер. По сути, провалившаяся революция в Молдавии (кстати, не без участия русских войск267) способствовала формированию отрицательного образа России в среде части местных интеллектуалов, недовольных вмешательством иностранного государства в судьбу страны.
Главный итог событий 1848 г. в Валахии и Молдавии заключается в смещении акцента с борьбы за национальное освобождение (чего удалось добиться частично) на формирование идеи объединения двух княжеств268.
Русское правительство серьезно опасалось распространения революционного пожара 1848 г. в Бессарабии, которая и без того прослыла вольницей269. Но действия «Южного общества» декабристов не могли не сказаться на ограничительных мерах в крае после 1828 г.
И.С. Аксаков. В ноябре-декабре 1848 г. в Бессарабии побывал писатель, этнограф, издатель, славянофил по взглядам – Иван Сергеевич Аксаков270. У нас еще будет возможность познакомиться с его наблюдениями в разделе, посвященном русскому населению, для изучения которого (а вернее – раскольнического движения) он и был направлен в командировку.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе