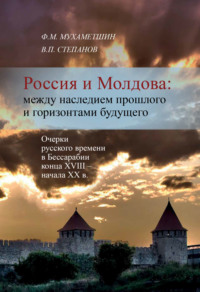Читать книгу: «Россия и Молдова: между наследием прошлого и горизонтами будущего», страница 5
Отмечая распространение славянского влияния на молдаван, А.И. Защук одновременно констатировал отличие в других регионах, населенных волошским населением: «…Трансильванские волохи в наречии своем имеют менее славянских слов, а приняли много венгерских; волохи же, обитающие за Дунаем, в Румелии, смешали язык свой с простым греческим наречием, на котором писаны и церковные книги»160.
В заслугу А.И. Защуку следует отнести его подход к рассмотрению Бессарабии не как единого целого, а как нескольких составных частей единой Бессарабии, коей она стала в ходе ее включения в состав России. Но уже будучи единицей в составе Российской империи, она сохраняла внутри себя условное разделение на северную, центральную и южную части. Что уж говорить о левобережье Днестра, которое, как отмечалось выше, в отдельные периоды тоже носило название «Бессарабия».
Это историческое обстоятельство, вместе с активным пополнением населения края (особенно на юге) новыми поселенцами, сохранило определенную регионально-этническую разрозненность населения, говорившего на разных языках и объединяемого (в большинстве своем) в XIX – начале XX в. официальным православием и русификаторской политикой, что больше ощущалось местным аппаратом управления, нежели основной крестьянствующей массой полиэтничного населения.
Подобный расклад в немалой степени способствовал консервации этнической идентичности этносоциальных групп населения. В среде молдавского большинства (особенно) этому благоприятствовала и массовая безграмотность.
«С распространением княжества Молдавского и с появлением здесь турок, жизнь народов, обитающих в некоторых местах Бессарабии, делается более оседлою. Но вся Бессарабия, до присоединения ее к России, никогда не составляла ни независимой, ни даже одной общей области; она заключала в себе три части, бывшие совершенно отдельными:
1. Большая часть нынешнего Хотинского уезда была Райею, т. е. христианскою провинциею молдавского господарства, исключительно принадлежавшего туркам. Это была страна пограничная, где поляки вели постоянную войну с турками и молдаванами за Буковину, туркам принадлежали также Бендеры и Аккерман.
2. Нынешние уезды: Ясский, Сорокский и Оргеевский, большая часть Кишиневского, до Траянова вала, были не что иное, как запрутская часть Молдавии.
3. Наконец Буджак, т. е. нынешние уезды: Аккерманский, Бендерский и часть Кишиневского, были искони степью, большая часть обитателей которой до конца минувшего столетия не изменяла кочевому образу жизни. Последние из скитавшихся здесь племен были ногайцы, подвластные крымскому хану и Оттоманской Порте»161.
А.И. Защук достаточно подробно анализирует количественный состав населения края, обозначив численность молдавского населения в количестве шестисот тысяч лиц обоих полов162, одновременно обратив внимание на то, что точные сведения о народонаселении в Бессарабии собрать труднее, нежели во внутренних губерниях. Объясняет это он еще и тем, что «население области не совсем и не все оседлое». Продолжая свою мысль, исследователь приводит следующий пример: «кроме переходов царан от одного землевладельца к другому, здесь есть места, где население увеличивается в ущерб населению соседних и даже внутренних губерний России. Так, например, в посадах города Аккермана в иные годы не бывает умерших. На место каждого покойника является пришелец из других губерний, принимающий имя и прозвание умершего, и таким образом население этих посадов и соседственных с ними мест Аккерманского уезда, кроме естественного приращения числом родившихся, еще увеличивается косвенным образом.
Примеры подобной населенности можно бы было указать и в других местах Бессарабии, но в официальных отчетах и таблицах найти этого нельзя…»163.
Исследователь подчеркнул значительное увеличение числа жителей края, произошедшее с 1837 по 1843 г. По сведениям, приводимым А. Защуком, в течение шести названных лет общая численность населения области увеличилась на 165,660 душ о.п., и в 1843 г. народонаселение уже составляло 719,120 душ о.п.164 Причинами столь быстрого увеличения численности жителей он называет следующие: 1) различные льготы, высочайше дарованные и выхлопотанные графом Воронцовым для насельников края; 2) основание поселений вольных матросов; и, наконец, 3) попечительство и заботливое управление областью губернатором Федоровым. «Все это увеличивало наплыв населения, <…> несмотря на то, что из области было выселено в течение этого времени до 35,000 бродяг»165.
В научной литературе (в том числе) немало ссылок на поговорку, получившую распространение в крае в рассматриваемый период: «Мама рус, тата – рус, а Иван – молдаван»166. Это требует пояснения: несмотря на то, что русская администрация боролась с так называемым бродяжничеством, отлавливала и высылала беглых в другие губернии, их приток в новороссийские земли и в Бессарабию был велик167. Представители других этносоциальных групп зачастую записывались молдаванами, не имея никакого отношения в данному народу. Учитывая, что речь шла о беглых, число которых, как успел убедиться читатель, исчислялось тысячами (на примере выселенных), их растворение в том числе в среде молдавского населения также способствовало дальнейшему отдалению от запрутского населения и формированию региональных особенностей, в условиях, отличных от запрутской Молдовы. Причем в небольшой по размерам Бессарабии региональные особенности складывались по-разному на юге, в центре и на севере края.
Тут необходимо обратить внимание на еще одну деталь, подмеченную Защуком. Говоря о бродяжничестве как о форме преступления, он подчеркнул, что оно пользуется народным сочувствием: «…Здесь, пожалуй, бродягу не примут в дом, но никто из лиц, не обличенных полицейской властью, не будет преследовать бродягу. По статистическим выводам, в Бессарабию прибывает более 20000 беспаспортных в год168»169.
Но раз уж зашла речь о беглых, было бы несправедливо не упомянуть еще одну страницу в истории Бессарабии, особенно ее южной части, о чем тоже писал А. Защук. В крае было принято «голосовать ногами»170, прежде всего в своих интересах. Описывая ситуацию, связанную с Южной Бессарабией, перешедшей, согласно Парижскому миру в 1856 г. к Молдавии, контролируемой Турцией171, автор давал следующую характеристику местному населению: «Часть отошедшего населения возвратилась и продолжает до сих пор еще возвращаться в наши пределы; но вместе с тем, некоторые из местных жителей Бессарабии, пользуясь возможностью легко переходить сухую пограничную черту, отправляются в Молдавскую часть, более для того, чтобы опять явиться сюда, под видом переселяющихся выходцев из отошедшей части, и воспользоваться некоторыми правами и льготами»172.
Подробные сведения о сословиях края, вероисповедании населения дополнительно формируют общую картину идентичности последнего, в том числе молдаван. В этом контексте обращает на себя внимание замечание Защука, заимствованное им у Надеждина: «В Молдавском и Валахском княжествах сохранилась постоянно длинная-предлинная “табель о рангах”, питавшая несметное множество дармоедов, под бессмысленными большею частию наименованиями: логофетов, вестиаров, спатарей, ворников, постельников, стольников, пагарников, ключеров, медельничеров, служеров и так далее… Румынам понравилась идея наследственного облагораживания потомков через отцов, идея, развившаяся в течение средних веков на Франко-Германском западе Европы и укоренившаяся с особенною силою в соседних с ними державах: Венгрии и Польше, таким образом произошло у них то разнообразие “привилегированных классов”, которое существует теперь и в области Бессарабской»173. В словах А. Защука проскальзывает определенная ирония, в связи со сложной социальной иерархизацией молдавского сообщества, которая под турецким влиянием только приумножила «эту чиновную череду новыми степенями и знаниями: аг, сардарей и т. п.»174. Исследователь подчеркивает, что, хоть и медленно, но тем не менее название сословий подгонялось под общероссийские стандарты. Так, резеши – в основной своей массе царане (крестьяне) или свободные хлебопашцы и однодворцы – назывались до 10 марта 1847 г. мазылами и рупташами175.
Обстоятельно А. Защук демонстрирует общинное устройство резешских поселенцев176, что делает представителей этого сословия похожими на общинников центральной России (конечно, со своими региональными особенностями).
Обращают на себя внимание прогрессивные взгляды автора книги, подчеркивающего необходимость наделения царан землей, что дало бы им «возможность заняться устройством на ней собственного хозяйства»177 и обеспечивало бы их существование.
В книге достаточно подробно представлены основные виды хозяйственной деятельности населения края с подчеркиванием, насколько это возможно, этнической специфики хозяйственных предпочтений народов, в нее вовлеченных.
Здесь же можно встретить отдельные зарисовки национального характера молдаванина: «Местное население области – чисто земледельческое; плодородие земли, благодатный климат и легкий, скорый заработок делают здешнего селянина ленивым и беспечным. Ему незачем трудиться постоянно, как селянину северной и средней России, где земля малоплодоносна и где она замерзает более, чем на 6 месяцев в году. <…>
Здешний молдаван любит делать кейф178 и привык, с небольшими усилиями, собирать только то, что дает ему сама природа»179. Эту мысль исследователь продолжает при описании возделываемых в Бессарабии зерновых культур: «Кукуруза (ble de Turguie, mais) составляет для молдаван Бессарабии то же, что картофель – в Ирландии, хлебное дерево – на островах Тихого океана, conditio sine qua non180. Ежели резешь засеял и собрал две-три фальчи (фальча – 2800 кв. молдавских сажень) кукурузы, сделал запас ее так, что хватит мамалыги (polenta, род саламаты) на круглый год, он счастлив, и довольно к этому бочки вина из собственного сада, брынзы (овечий сыр) – и все его желания исполнены: он может восемь месяцев в году делать кейф, который молдаване так успешно привили к себе от своих прежних властителей»181.
Через год после выхода в свет анализируемого двухтомника из-под пера А. Защука вышла объемная публикация, помещенная в разделе «Статистика» на страницах «Записок Одесского общества истории и древностей» под названием «Этнография Бессарабской области». Это была доработанная часть большого раздела первого тома «Материалов для географии и статистики России», посвященного освещению внутреннего и внешнего быта жителей Бессарабии.
В силу ракурса темы нашей монографии обойти вниманием этот раздел было бы ошибкой. Конечно, мы не собираемся пересказывать подробные описания, сделанные автором полтора столетия назад. При желании любой интересующийся сможет это осуществить. Но на картинах отдельных сторон культуры повседневности молдаван, сказывающихся на формировании идентичности, нельзя не остановиться.
Подчеркивая превалирование молдаван над остальными жителями края («% ее жителей состоит из молдаван»), Защук пишет: «Если не в характер, то в домашнюю жизнь всех названных народностей вкрались кое-какие обычаи молдаван, а последние в свою очередь заимствовали многое от своих соседей и преимущественно от русинов, с которыми молдаване почти перемешались в северных уездах области. Таким образом, бессарабские молдаване, называя себя румынами, стали во многом отличаться от своих запрутских собратий, жителей соединенных княжеств, которые в последнее время силятся доказать свое чисто Римско-Дакское происхождение»182.
Небезынтересны рассуждения А. Защука о специфике местного молдавского населения. Не желая перезагружать текст цитатами, все-таки считаем необходимым выделить некоторые мысли автора, дабы передать дух времени и логику рассуждений исследователя. Говоря о привилегированных сословиях Бессарабии, Защук констатировал, что они «благодаря своему образованию, стоят почти наравне с теми же сословиями других мест России, тем не менее необходимо упомянуть о прежнем составе высших молдавских сословий, для того чтобы разъяснить себе характер простолюдина, который образовывается под влиянием исторических событий и отчасти под влиянием высших сословий страны»183. Далее автор отмечает продажность элиты в Дунайских княжествах, обращая при этом внимание на то, что система фанариотского режима способствовала появлению в них выходцев из разных стран: «Входя в связи с богатыми румынами или грабя их, они произвели высший слой общества, с особенным типом и характером, в жилах которого можно найти разве атомы крови властителей древнего мира». Подчеркивая специфику формирования местного элитного общества, А. Защук сделал ремарку об отношении запрутских молдаван к «бессарабским собратьям»: «…Молдаване в княжествах считают себя румынами более чистой крови, чем своих бессарабских собратий, и на это имеют, кажется, полное право»184. Далее автор поясняет, почему он пришел к подобному выводу и в чем заключалась специфика бессарабской элиты. Понимая субъективность взглядов А. Защука, тем не менее, полагаем целесообразным привести его описание местного дворянства, дающее объяснение многим специфическим чертам, резонирующим и сегодня в молдавской элите. Так, А. Защук констатировал, что с присоединением Бессарабии к России местное правительство вначале выказало излишнюю снисходительность в приеме и причислении к высшим сословиям края разных лиц, часто темного происхождения, «и через то, рядом с знатными молдавскими боярскими фамилиями, принявшими подданство России, как-то: Балыш, Гика, Стурдза, Прункул, Россет и такими же греческими омолдаваневшимися фамилиями – Псиланти, Мурузи, Катакази, Калимахи, Кантакузен, Панаиоти и еще весьма немногими другими185, признанными в дворянстве империи, вкрались разные искатели счастья, преимущественно из Австрии и Польши, с чужими или подложными документами, купленными в Молдавии и дававшими право на причисление к дворянству. Этого последнего рода дворяне и породили первоначально странную, разноземную, разнохарактерную и разноплеменную смесь, в которой трудно доискиваться румынской крови»186. Здесь, по ходу изложения возникает вполне естественный вопрос: а не это ли был один из механизмов, тормозящих румынизацию сознания бессарабской элиты в то время? Ведь, как справедливо отметил в своей монографии Ю. Фрунташу, бессарабская элита была разрозненной по этническому признаку. Заметим, что даже молдавская элита тоже была неоднородной. Как и во времена османов, в ее среде были симпатизанты разных этнокультурных векторов ориентации: те же сторонники великой Румынии и элита, уже сфокусированная на Россию и русскую культуру.
Далее автор продолжает: «Вначале отсутствие, а впоследствии запутанность от стечения разноземных законов послужили поводом к распространению между этой разнохарактерною толпою цивилизации, в худшем значении этого слова, выразившейся, с одной стороны, в надменности, хвастливости или низкопоклонничестве, а с другой – в развитии сильного ябедничества, тяжбе (тяжб. – Прим. авт.) и процессов. Эти ябедники-дилетанты ловили в мутной воде рыбу богатства на счет доверчивого, не знакомого с крючкотворством ближнего (мнение это основано на официальных отзывах, хранящихся в архиве областного правления: фельдмаршала Прозоровского, адмирала Чичагова, губернатора Гартинга, князя Воронцова, вошедших частию в полное собр. законов Империи, т. XXXIX, № 30, 648), и пока предметы были в полумраке, люди эти успели воспользоваться незаслуженным»187.
На фоне образа представителя элиты показательно выглядит рисуемая А. Защуком природа молдаванина-простолюдина. Описывается образ, который позже, в этнопсихологии Кардинера, получит название «основной личности»188. Прежде всего в изображении молдаванина-простолюдина прослеживается авторская симпатия к народу с одновременной констатацией того, что молдаванин-простолюдин «имеет характер, испорченный порабощением, чуждый энергии и удали, склонный к мирной деятельности»189. И далее он продолжает раскрывать свою мысль: «В молдаванине южная его натура выражается порывами пылкости, мстительности и самолюбия; последнее в нем гораздо щекотливее, чем в северном жителе; впрочем, вообще простолюдин добр и сострадателен к ближнему, с которым часто готов делиться последним»190.
Любопытно наблюдение автора над ролью женщины в жизни поселянина: «Женщина-поселянка, предоставленная в хозяйстве беспечностью мужа сама себе, всегда делается расчетливою и бережливою. Скромная, послушная и покорная мужу, как главе семейства, она, так же как и малороссиянка, неуживчива с посторонними. Вот почему здесь, как и Малороссии, женатый селянин тотчас же отделяется от родных, часто в ущерб своему собственному благосостоянию»191.
В работе А. Защука отводится место описанию жилища, занятий, одежды, пищи, обычаев молдаван, их фольклора, танцевальной культуры.
Вызывает интерес раздел книги, посвященный образованию. Особое внимание автор уделяет религиозному образованию. А. Защук подчеркивает, что «места нынешние Бессарабии имеют для России особенное значение: отсюда перешло к славянам если не первое христианство, то первые богослужебные книги и обряды»192. В историческом очерке, посвященном распространению христианства в крае, автор придерживается точки зрения об определяющей роли христианства, принятого даками и затем расширившегося среди скифов. На наш взгляд, подобные утверждения представляются слишком смелыми.
Приход готов, а затем гунов не изменил ситуации. Защук пишет: «Даки – старожилы края, смешавшиеся с победителями своими, но сохранили свою веру, а отчасти и народность»193. Автор особо не заостряет внимания на этнической истории молдаван и румын, но, судя по его реплике, приведенной выше, он разделял точку зрения о континуитете.
Исследователь отмечает устойчивость христианской веры на территории Дунайских княжеств, обращая одновременно внимание на заметное влияние славянской составляющей в местном православии: «Так, еще Феоктист, чтобы не допустить своей паствы соединиться с Западною церковью (после Флорентийского собора) и утвердиться унии, убедил молдавского господаря Александра латинские буквы заменить славянскими. С того времени все грамоты господарей писались и все богослужение отправлялось на славянском языке, до княжения Василия Лупула, который велел перевести богослужебные книги на молдавский и греческий языки и употреблять их при богослужении. Впрочем, греческий язык, еще менее понятный народу, нежели язык славянский, не мог войти в повсеместное употребление при богослужении, и заменился народным языком румынов, на котором и до сего времени совершается богослужение»194.
Мобилизационная роль церкви в рассматриваемый период была огромной. Так сложилось, что церковь в Бессарабии русского периода способствовала нескольким пролонгированным процессам: как уже отмечалось, в новоприсоединенной к России Бессарабской области создается в 1813 г. Кишиневская и Хотинская епархия. Данная епархия уже не находилась в зависимости от Валашской и Молдавской митрополий, что в перспективе способствовало отдалению от румынских православных центров, активизации русификации, особенно в последних десятилетиях XIX – первом десятилетии XX в.
Однако наряду с процессами русификации, которые в большей степени имели место на окраинах империи, в том числе и в Бессарабии, в крае протекали процессы консервации культуры и укрепления молдавской идентичности в Приднестровье посредством включения в состав Кишиневской и Хотинской епархии приходов, расположенных на левобережье Днестра. Кстати, это способствовало дальнейшему освоению молдавским населением левобережного Поднестровья: особая его активность начинается в XVI в. и наращивается в последующие века, в том числе в XIX столетии195.
А. Защук отмечал: «…Епархия учреждена в Бессарабии в 1813 году и названа Кишиневскою и Хотинскою. Но как область была тогда опустошена, а южная ее часть весьма мало населена, то по Высочайшему указу в августе 1813 года к учрежденной Кишиневской епархии причислены сопредельные с Бессарабией церкви, находившиеся в городах и селениях бывшей Очаковской степи, между Днестром и Бугом, а именно: города Тирасполь, Ананьев и Одесса, с их уездами, в которых находилось 77 церквей»196.
Процессы освоения молдавским населением левобережного Поднестровья способствовали украинско-русской аккультурации молдаван и их отдалению от запрутских соэтников, политически мобилизованных в румынскую нацию как раз в период выхода в свет книги А. Защука.
Автор обращает внимание на то, что обряды молдаван и болгар мало чем отличаются от обрядов русской церкви. Он констатирует, что, как люди необразованные, молдаване, болгары и русины «суеверны; но у них нет ни особенных религиозных поверий, ни преданий, ни даже мест, особенно чтимых народом, куда бы стекались из многих селений на поклонение197»198.
Если со сказанным выше можно согласиться, то утверждение о том, что «для русских, болгар, даже для молдаван, Бессарабия имеет мало национального, исторического интереса», звучит по меньшей мере спорно. Объяснение сказанному автор видит в том, что «племена, здесь поселенные, не искони живут в Бессарабии, служившей приютом многим различным народам»199. Впрочем, приведенный вывод Защука свидетельствует и о том, что на момент описываемого им времени этнический вопрос в Бессарабии остро не поднимался. Льготы различным этносоциальным сообществам: молдаванам, задунайским переселенцам, немцам, швейцарцам и др. одновременно снимали этническое напряжение.
Вместе с тем было бы ошибкой утверждать, что в Бессарабии того времени не существовало этносоциальной иерархии. Она была, и на ее низовых ступенях находились цыгане, евреи, старообрядцы, но никак не молдаване. При этом все этносоциальные слои населения эпизодически испытывали всплески политики русификации.
Обращает на себя внимание значительное количество белых и черных священнослужителей, называемое автором, – 8112 (один священник на 600 прихожан)200. Столь значительное их число лишний раз свидетельствует о том, какая существенная роль отводилась православной религии в крае.
А. Защук подчеркивает положение и статус сельского священника. С одной стороны, там, где он пользуется уважением, царане обрабатывают выделяемую ему землю (обычно 33 фальчи) в складчину (клакой), за что священник угощает работников. При этом автор подметил важную деталь: «Быт сельского священника в Бессарабии ничем не лучше быта простого, небогатого царанина, от которого сельское духовенство можно иногда отличить только по одежде и бороде201»202. Данное наблюдение важно констатацией того, насколько бессарабское духовенство было приближено к местному крестьянству своим социальным положением. Это делало его своим в среде местного крестьянства, еще больше приближая ценности православия. Дело в том, что у молдаван, как у земледельческого народа, хорошим хозяином («господар бун») считался тот, кто работал на земле. Всякого рода ремесло понималось как дополнительный навык, не исключающий главного – работы с землей. Те же, кто занимался, например, торговлей, автоматически выпадали из привычного у молдаван преставления о достойном хозяине, даже если они были богаче203.
Автор указывает на необходимость улучшения образования среди лиц духовного звания, обучения их основам медицины, в силу малочисленности врачей (один медик на 35 000 селян)204.
А. Защук представляет подробную картину религиозного и светского образования в крае. Религиозное образование обеспечивали семинария и духовное училище. Светскому образованию он посвятил отдельный исторический очерк. В нем он обратил внимание на роль России в распространении образования среди молдаван, указав на обучение боярских детей в греческой гимназии при Санкт-Петербургском артиллерийском корпусе, «для обучения единоверных с Россиею: молдаван, болгар, греков и сербов»205.
В первой половине XIX в. в крае начинают открываться разного рода светские учебные заведения206. Для образования низших сословий отдельные священники открывали при приходах домашние заведения для обучения грамоте207.
Таким образом, со всей очевидностью прослеживается положительная динамика развития учебных заведений в первой половине XIX в., и, тем не менее, судя по приводимой автором статистике, в середине столетия в крае обучался только 1 человек из сорока208.
Медленно и непросто шел процесс распространения книжной культуры в крае. Об этом Защук сообщает в отдельном параграфе. Исследователь подчеркнул, что в Бессарабии (на момент написания книги) находилась всего одна публичная библиотека в Кишиневе, открытая в 1830 г., ранее всех других библиотек Новороссийского края. При этом интерес к печатному слову долгое время был весьма скуден. Как писал сам Защук, «в это время в обществе еще мало чувствовалась потребность чтения, как видно из дел библиотеки, в 1833 году насчитывалось только 56 читателей, в 1837-м их было 48, а затем, в промежутках этих годов и даже в последующие годы цифра читателей не увеличивалась»209. К 1860 г. число читателей увеличилось в июле до 476 человек. Библиотека стала одним из центров проведения досуга. Ее огни стали светиться и по вечерам.
Любопытно, что из бессарабских пишущих людей А. Защук выделил лишь немногих, среди которых: протоиерей П. Куницкий, архиепископ Кишиневский и Хотинский Д. Сулима, экс-старший советник бессарабского областного правления В. Шостак, ученый-садовод Г. Денгинг, доктор Гриневецкий; из беллетристов он отмечает таких как Г. Гербановский, В. Побыванец и добавляет: «Следует упомянуть еще о г. Стамати <…> (Стамати-Басарабян) <…>, кроме Стамати-Басарабянина (так в тексте. – Прим. авт.\ в области существует еще другой г. Стамати, помещающий разнообразные статьи своего произведения по разным периодическим изданиям»210.
Данный список авторов призван лишний раз подчеркнуть, что на территории Бессарабии проживало очень мало пишущих личностей, в том числе молдавского происхождения. Кстати, этот факт во многом объясняет причину влияния пишущих молдаван из-за Прута (а к моменту выхода в свет книги А. Защука румынская идея уже получила ускорение)211 на грамотных бессарабцев, коих в крае было не так уж и много. Это замечание к тому, что на момент написания и издания книги А. Защука Россия не имела особой программы поддержки и развития молдавской идеи (это пришло позже). Причем внимательный Защук не упустил возможности констатировать отсутствие в Кишиневской библиотеке хотя бы одного «из изданных сочинений, относящихся до Бессарабии»212.
У авторов данной книги нет возможности (равно как нет и необходимости, в силу иной проблематики) останавливаться на анализе всех видов учебных заведений, который осуществил в своей работе А. Защук. Стоит лишь отметить, что сделал он это со свойственной ему скрупулезностью и вниманием к деталям.
Кстати, Защук неоднократно касался вопроса о достаточно открытых (в частности, торговых) контактах бессарабцев с запрутской Молдовой213, что в немалой степени подтверждают и исследователи более позднего времени, указывая не только на торговые, но и на культурные связи молдаван двух берегов Прута214.
Вторая часть его подробного монографического исследования посвящена освещению системы управления Бессарабией, включая ее светское, военное и религиозное направление. Здесь же рассматривается система налогообложения, приводятся сведения о состоянии городов и селений края.
Исследование А. Защука получилось объективным, подчеркивающим поэтапное аккумулирование местной власти административным аппаратом Москвы, внедрение областных органов, подведомственных министерствам внутренних дел, юстиции, финансов, народного просвещения, госимуществ, а также духовному, военному ведомствам, почтовому и путей сообщения.
По сути, население края попало под несколько административных преобразований. Первое имело место в 1812–1815 гг. Оно даровало жителям края ряд привилегий, а сама Бессарабия управлялась временным правительством, образованным главнокомандующим Дунайской армией адмиралом П.В. Чичаговым. Однако произвол местных властей и чума привели к оттоку части населения в турецкие земли, что было крайне невыгодно России. Это привело к появлению первого органического устава для управления Бессарабской областью (от 26 мая 1816 г.): «Областные правительственные места составлены из двух департаментов; советники обоих департаментов, из туземных помещиков, составляли общее собрание, под предводительством гражданского губернатора»215.
Уезды разделялись на исправничества. Исправниками избирались молдавские местные помещики. «Непосредственному управлению исправника подлежали все жители цинута (уезда). Каждый цинут или уезд, кроме того, разделялся на несколько частей или околов, которыми заведовали так называемые околоши. Низшим сословием дворян (низших однодворцев) заведовали капитаны де мазыл, а местечками управляли капитаны де тырг. Околаши, капитаны де мазыл и де тырг определялись в это звание исправниками и непосредственно от них зависели. В руках исправников были суд и расправа; суд совершался почти всегда на словах и на молдавском языке»216.
Следующий устав для управления областью утверждается Высочайшим указом 29 апреля 1818 г. Согласно ему верховный совет составляли местные дворяне, под предводительством полномочного наместника. «В нем завершались окончательно дела о жизни, чести и имуществе жителей края, и действия его продолжались до 1828 г.»217.
Очередная реформа пришлась на время правления краем новороссийским генерал-губернатором князем Воронцовым218. Как отмечает А. Защук, «князь вполне понимал невыгоды и злоупотребления верховного совета. <…> По его проекту было составлено и представлено на Высочайшее усмотрение новое положение об управлении Бессарабской областью»219, получившее узаконение 29 февраля 1828 г. В соответствии с данными преобразованиями верховный совет был назван областным и получил совещательный статус.
Из вышесказанного становится видно, как постепенно ослаблялась власть местных вельмож и централизовалось управление краем. Но это был сложный, болезненный и, самое главное, не односторонний процесс. Исследователь В. Стати в своей «истории Молдовы» подчеркивает, сколь болезненно реагировала на изменения своего статуса местная молдавская элита, пытающаяся сохранить свои привилегии в новых условиях220. Можно утверждать, что в определенной степени подобное поведение молдавской элиты способствовало сохранению чувства этнической обособленности и индивидуальности.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе