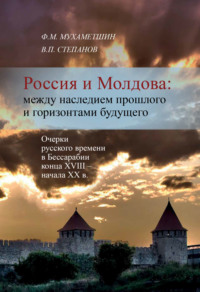Читать книгу: «Россия и Молдова: между наследием прошлого и горизонтами будущего», страница 4
Возвращаясь к воспоминаниям Вигеля, целесообразно вспомнить замечания о них И.П. Липранди104, который охарактеризовал восприятие Филиппа Филипповича как очень негативное со стороны богатейших родов Молдовы.
Вигель обладал резким стилем изложения и имел привычку давать критические характеристики тем, о ком писал, в том числе представителям молдавской элиты. Липранди пишет: «Рукопись, сделавшись известной, не могла не возбудить против него злобы, особенно лиц, как например, Рознованов, Стурдз, князей Гиков, Морузи, Суццо и других знаменитых бояр Княжеств, которые удалились временно из отечества во время гетерии, не принимали участия в управлении…»105.
Что ж, в приведенном примере с Вигелем, помимо картины непростых взаимоотношений с местной элитой, подспудно демонстрируется расхождение интересов русского наместничества и местной элиты.
Однако утверждать, что Ф.Ф. Вигель не видел в людях ничего хорошего, тоже было бы несправедливо. Вот, например, как он характеризовал Александра Стурдзу (сына Скарлата Стурдзы) в своих «Записках»: «Изобразить самого Александра Стурдзу не безделица: в этом человеке было такое смешение разнородных элементов, такое иногда противоречие в мнениях, такая выспренность в уме; при мелочных расчетах в действиях, он так весь был полон истинно-христианских правил и глубокого, неумолимого злопамятства, осуждаемого нашею верою, что прежде чем начертать его образ, надлежало бы, если возможно, химически разложить его характер. Грек по матери, он более сестры принимал участие в судьбе эллинов; молдаван по отцу, он искренно любил своих соотечественников и всегда горячо за них вступался, забывая, что они враги его любезным грекам. Едва не сделавшись в Германии жертвою преданности своей к законным престолам, он обожал ее философию и женился на немке. Желая светильник наук возжечь на Востоке, он сей священный огонь хотел заимствовать у поврежденной уже в рассудке Европы. Друг порядка и монархических установлений, он мечтал о республике под председательством Каподистрии. Друг свободы, он ненавидел Пушкина за его мнимо-либеральные идеи. Он был все; к сожалению только совсем не русский. Воспитанный в Могилевской губернии, не понимаю, как он мог приобрести запас учености, с которым вступил на дипломатическое поприще; в знании языков древних и новейших мог бы он поспорить с Меццофанти. С 1815 года сделался он известен вместе с покровителем и другом своим, Каподистрией, в 1822-м вместе с ним сошел со сцены (как где-то уже я сказал) и на покое, так же как ныне я, строил историческо-политические воздушные замки.
Мне весьма памятны его беседы со мной; ибо, вследствие их, мнения мои о делах Европы и Востока начали изменяться. Он не скрывал желания своего видеть Молдовлахию особым царством, с присоединением к ней Бессарабии, Буковины и Трансильвании. Освобождением одной Греции, по мнению его, дело на Востоке не должно было кончиться».
В других своих воспоминаниях о Пушкине Липранди дает некоторое пояснение, говоря о Вигеле: «…Он писал об этом крае (Бессарабии. – Прим. авт.) под влиянием неудовольствия за неудовлетворение безграничного своего самолюбия, и в этом случае прибегает к приписанию себе всего, что было сделано лучшего в области»106.
И.П. Липранди. Раз уж речь зашла о воспоминаниях Липранди, нельзя обойти стороной его характеристику высшего общества, которая представлена в его воспоминаниях о пребывании в крае А.С. Пушкина. В данном контексте вызывает интерес описание Липранди молдавской элиты. По его словам, «кишиневское общество слагалось из трех “довольно резких отделов”». В первом он называет «мир чиновный», во втором им выделяются молдавские бояре, состоящие из находящихся на службе и зажиточных помещиков, и, наконец, третий, «самый замечательный» отдел – из людей военных107. Учитывая специфику наших очерков, мы обратим внимание на описание автором молдавского высшего света. В нем Липранди демонстрирует великолепное знание молдавской элиты, подчеркивает ее связь с запрутской Молдовой, выходцами откуда оказались многие помещики, в частности в годы «Филики этерии».
Наблюдения Липранди вплоть до настоящего времени являются наиболее полно отражающими годы пребывания А. С. Пушкина в Кишиневе, но, одновременно, представляют подробный источник, характеризующий нравы высшего общества Кишинева 1820-х гг.108, специфику взаимоотношений представителей русской и молдавской культуры в высшем свете области109. Как и в последующие периоды, в этих вынужденных отношениях присутствовала определенная дистанцирован-ность и в культурном плане. Например, ряд молдавских домов Пушкин, пребыванию которого Липранди в данных воспоминаниях уделил основное внимание, избегал посещать во время обеда, из-за наскучивших ему плацинд110. Имели место и определенные языковые различия, хотя основная масса представителей молдавской элиты владела французским языком, который с детства изучали и русские дворяне. Тем не менее известная дистанция наличествовала. Она не могла исчезнуть спустя всего 9-10 лет (пушкинская ссылка, о которой писал И. Липранди, проходила в 1821–1823 гг.) после событий 1812 г. – включения Бессарабии в состав нового имперского содержания.
Комментируя научное наследие Липранди, целесообразно привести слова Виктора Таки «Статистические и этнографические работы Липранди о Балканах также свидетельствуют о взаимосвязи между военными и гражданскими формами знания, которая возникла в середине девятнадцатого века»111.
Уход П.Д. Киселева с должности главы администрации объединенных княжеств, в связи с завершением реформ в Дунайских княжествах и назначением Турцией112 двух господарей в Валахию и в Молдову, предопределил следующий этап в развитии этих территорий.
В Валашских княжествах наступает экономический упадок. В недрах интеллигенции возникает оппозиция113.
Как известно читателю, события 1828–1829 гг. лишь продлили многоточие в российско-турецких отношениях. Андрианопольский мир был удобен России, но обладавшая еще значительными ресурсами, хотя и слабеющая Османская империя жаждала реванша. Следует предположить, что следующая российско-турецкая компания могла бы наступить гораздо раньше, но события «европейской весны» 1848 г., прокатившейся буржуазными революциями по странам Европы, способствовали пролонгированию начала следующей Русско-турецкой войны (1853–1856).
А.Ф. Вельтман. Примерно в это же время, когда выходит в свет работа И.П. Яковенко, читатель XIX в. начинает знакомиться с произведениями Александра Фомича Вельтмана114, офицера русской армии, поначалу занимавшегося картографированием края по линии военного ведомства. В результате вышло в свет его исследование «Начертание древней истории Бессарабии»115, адресованное начальнику Главного штаба 2-й армии генерал-адъютанту П.Д. Киселеву.
В брошюре на четырнадцати листах достаточно подробно излагается видение А.Ф. Вельтманом исторического прошлого края. Анализ автором прошлого этих земель представляет Бессарабию как «коридор истории», на пространстве которого одни народы сменяли другие. Несмотря на ряд неточностей116, общая картина исторического наследия Бессарабии, рисуемая автором, отвечает той исторической информации, которая использовалась при описании края историками того времени. Отдельные положения данной работы продолжают сохранять востребованность и среди современных исследователей.
Содержательный, ненавязчивый и точечный стиль, как бы вырывающий фрагменты из бессарабской повседневности, делает чтение трудов А. Вельтмана занятием увлекательным и познавательным117.
Процесс, направленный на объединение Молдавского и Валашского княжеств, запущенный событиями 1848 г. и даже ранее, продолжался. Тут важно подчеркнуть, что он осуществлялся сверху, основная масса населения Дунайских княжеств – безграмотное крестьянство, обманутое в своих надеждах революцией 1848 г., выступало больше в качестве статиста в последующих событиях.
В данном контексте обращает на себя внимание часто забываемый документ 1858 г. Речь идет о «Конвенция относительно устройства Дунайских княжеств» (Париж, 7/19 августа 1858 г.). Принципиальность данного документа заключалась в том, что он провозглашал идею создания «соединенных Княжеств Молдавии и Валахии», которые продолжали оставаться под сюзеренной властью султана118. Обратим внимание на следующее: в названном документе была представлена идея объединения княжеств, по сути, на конфедеративных условиях, что довольно быстро стало игнорироваться.
«Притирка» двух государств в общем котле продолжалась почти десять лет. Поднялась волна неприятия со стороны части молдавской элиты, недовольной игнорированием интересов молдаван. Проблема недовольства объединительными процессами транслировалась и представителями других государств, в частности на заседании следующей Парижской конференции (Париж, 26 февраля 1866 г.), на которой представитель России барон Будберг заявил, что, по мнению российской стороны, «подавляющее большинство молдаван желают разъединения»119.
Собственно, все закончилось гораздо раньше. Вигель в своих «Воспоминаниях» дал четкую характеристику ситуации: «Осенью не осталось ни малейшего сомнения насчет намерений всемирного завоевателя, быстро к нам приближавшегося, никаких надежд не только на продолжение с ним мира, но и на кратковременную отсрочку войны. Мы с турками сделались уступчивее, сбавили спеси и, вместо двух больших княжеств, стали ограничиваться рекою Прутом и узкою Бессарабией, мне после столько знакомою. С этим делом скорее можно было поладить; прошел даже слух, что Кутузов, столько же дипломат, как и воин, успел уже подписать о том и трактат, и Марин, более царедворец, чем поэт и воин, успел уже на этот случай написать стихи, в которые вклеил каламбур, что старик наказал мусульман и мечом и Прутом»120.
Дальнейшие события, в том числе попытка протеста против объединительных процессов со стороны молдавских активистов, привели к кровавой расправе над ними, совершенной валашскими войсками121.
Опять же основная масса сельского населения оставалась просто в неведении относительно происходящего.
В первой половине XIX в., до начала процесса объединения княжеств и формирования румынского государства, Россия еще питала надежды на то, что ее влияние распространится на оба Дунайских княжества (см. ниже). Можно лишь предполагать, что на том этапе России было даже выгоднее усматривать валашско-молдавскую общность. Последующие события, в том числе формирование самостоятельного румынского государства, сопровождались этнообъединительным валашско-молдавским процессом, в ходе формирования новой этносоциальной общности румын, с сохранением самоназвания «молдовень» как регионализма (у запрутских молдаван). При этом население запрутской части Молдавского княжества испытало и этнотрансформационный процесс, когда запрутские молдаване, как уже отмечалось, оказались вовлеченными в процесс румынизации. Напомним, этнотрасформационные процессы, называемые в научной литературе еще этногенетическими, характеризуются сменой основного признака этноса – этнического самосознания. И действительно, со временем, после процесса завершения этнополитического строительства Румынии, запрутские молдаване стали осознавать себя частью румынского государства и идентифицировали свою этническую идентичность как румыны.
Дополним, что в ходе изменения этнического имени частью этносоциального организма (речь идет о запрутских молдаванах, которые, с образованием Румынии и при соответствующей политике, осознали себя румынами), та часть этноса, которая меняет этническое имя, испытывает этнотрансформационную сепарацию. Для той части этноса, которая сохраняет свое этническое имя и не меняет этническое самосознание, как в случае с бессарабскими молдаванами, этот процесс является этноэволюционным.
Для того чтобы полностью завершить характеристику этнических процессов периода становления и развития румынского государства, необходимо подчеркнуть, что этнотрансформационную сепарацию, пережитую запрутскими молдаванами, в их среде дополнял процесс этногенетической консолидации, под которой следует понимать процесс слияния нескольких родственных по языку и культуре этнических единиц в одну новую, более крупную этническую общность122. В рассматриваемом случае это румыны.
Что касается бессарабских молдаван, то они оказались в совершенно иных условиях. Самым главным отличием их от запрутских соэтников было то, что они, в силу исторических обстоятельств, были исключены из процесса нациестроительства в ходе оформления румынской государственности. На государственном уровне им никто не пытался присвоить иное этническое имя123. Таким образом, они в ходе дальнейших этнополитических процессов переживали этноэволюционные трансформации. Более того, преференции со стороны властей Бессарабия продолжала ощущать даже после 1873 г., когда она влилась в состав российских губерний124. Сохранению молдавскости способствовала и церковная политика в Бессарабии125, в том числе сохранение кириллического письма, в религиозной и светской литературе и в региональной периодике того времени.
Румыния же в ходе своего государственного самоутверждения латинизировала письменность и получила в 1885 г. румынскую автокефалию. Причем уже в 1919 г., при первом румынском митрополите Мироне Кристя, территория Бессарабии была подчинена Румынской православной церкви126, несмотря на протесты Русской православной церкви127.
Амбиции двух империй не ограничивались результатами военной компании 1853–1856 гг., ситуация подстегивалась и национальным движением, активизировавшимся за Прутом в 60-70-х гг. XIX в. Поэтому вполне объяснимым является привлечение русских офицеров для описания пограничных регионов юго-западных окраин империи. Собственно, внимание к Бессарабии со стороны военных проявляется еще с событий, связанных с 1812 г. Вышедшее в конце XIX в. «Статистическое описание Бессарабии, собственно так называемой, или Буджака» С.И. Корниловича было посвящено вновь приобретенной Россией территории и описывало ее состояние периода 1812–1828 гг.128
За 1848–1858 гг. было подготовлено порядка шестнадцати описаний различных территорий Российской империи. К концу 50-х гг. офицеры Генерального штаба охватили исследованиями большую часть губерний и областей. С 1860 г. описания стали выходить по нескольку томов в год, под общим заглавием «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба». Согласно данным крупного российского дореволюционного историка А.Н. Пыпина, к 1865 г. вышло уже более 20 описаний разных губерний и областей по общему плану129, который был составлен в 1858 г. при департаменте Генерального штаба. Кстати, до конца Второй мировой войны данные материалы были засекречены.
Офицеры Генерального штаба. Возвращаясь к трудам русских авторов, писавших о Бессарабии и молдаванах, следует назвать труды двух офицеров Н.М. Дарагана и А.И. Защука. Оба автора – офицеры Генерального штаба.
Н.М. Дараган. Книга Николая Михайловича Дарагана увидела свет в 1849 г.130 Это было начало периода осмысления царским правительством итогов революционных событий в Европе, в том числе и в ее юго-восточном направлении.
Работа включает в себя пять разделов: общий взгляд на Бессарабскую область, местность, жители, промышленность, образованность, специальные сведения.
Автор подчеркивает особое, стратегическое месторасположение края: «…Политическое положение Бессарабии, как пограничной области государства, недавность присоединения ее к России Бухарестским трактатом 16 мая 1812 года, стратегическая важность баз и операционных линий, ею представляемых, делают в ней необходимым постоянное расположение войск»131. Подобный взгляд на Бессарабскую область во многом объясняет повышенное внимание военных к данной территории.
Давая характеристику Бессарабии, Н. Дараган разделяет ее «на две совершенно разнородные половины. Северная и средняя ее часть населены преимущественно жителями молдавского происхождения, а в северо-западной части Хотинского уезда и по берегам Днестра русняками, перешедшими из Галиции, и укоренившимися здесь с давнего времени; южная составлена из новых переселенцев различного происхождения: великороссиян, казаков, некрасовцев, болгар, молдаван, волохов, сербов, армян, швейцарцев, вертемберцев, баварцев и проч., подчиненных даже разным направлениям. Города и местечки занимаются преимущественно евреями, в обеих частях Бессарабии. Кроме того, в Бессарабии, особенно южной, находится значительное число иностранцев: они занимаются управлением колониями, ремеслами и торговлею»132.
В свойственной авторам XIX в. манере автор представляет образ молдаванина: «…Молдаваны народ кроткий и ленивый, но не лишенный способностей: ума более замысловатого нежели остроумного, более хитрого, нежели смышленого; характера более спокойного, нежели предприимчивого, страстей более сильных и быстрых, нежели глубоких и продолжительных; черты лица, большею частью красивые и правильные, имеют довольно резкий, отличительный тип, напоминающий южные физиономии»133. Одновременно автор применяет этноним «румыны» и глотоним «румынский язык»134, что дает основание сторонникам румынофильских взглядов использовать слова автора в подтверждение своей концепции135.
В книге достаточно обстоятельно представлена культура повседневности молдаван136, обращается внимание на специфику сезонных работ молдаван, подчеркивается своевременность введения правового регулирования взаимоотношений между владельцами земли и «царанами» (крестьянами)137.
Весьма показательно выглядит описание Дараганом привилегированного сословия бессарабских молдаван, рисуемого в середине XIX в., в основной своей массе инертным и глубоко законсервированным. Кстати, допустимо предположить, что именно благодаря этой инертности и законсервированности основная часть молдавской элиты оказалась мало вовлеченной в процесс румынизации сознания, прежде всего внутри своего сословия: «Обращаясь к владельцам помещикам в Бессарабии, нельзя не сказать, что кроме тех лучших бессарабских фамилий, которые остались в Бессарабии с присоединением ее к России и к которым принадлежат князья Кантакузины, Гики, Балшь, Стурзы, Рознаваны, Катаржи и проч., весьма немного находится в крае древних аристократических родов. Большая часть мелких владельцев принадлежит к низшему классу, из которого они вышли, пользуясь стечением обстоятельств во время смутного времени войн, и когда еще совершенный порядок не водворился в управлении. Оттого они живут, большею частью уединенно, в прежних привычках и с прежними понятиями, не улучшая своего быта, не сохраняя должной положительности в своих делах. Их дворянские выборы еще далеки от того порядка, который начертан в законе, между тем как из 4239 дворян, числящихся в крае, только 98 человек имеют право участия в выборах. Должно однако же прибавить, что время и стройность нынешнего правления, обещают, по крайней мере в молодом поколении, и из среды мелких дворян, людей образованных»138.
Рассуждая об образовании, автор демонстрирует подход, свойственный российскому аппарату управления, который распространял принцип унификации населения на окраинах российской империи, в том числе и в Бессарабии, основываясь прежде всего на религиозной идентичности. Так, давая характеристику местному населению, автор прежде всего фокусирует свое внимание на распространении греко-российских православных обрядов среди массы поселенцев края: «Кишиневская епархия приобрела уже много новых христиан в задунайских переселенцах. Ныне под ведением ее находится более семи сот тысяч христиан разных племен, обычаев и наречий. Русские, молдаване болгары, русняки, некрасовцы, составляющие народонаселение Бессарабии, подчинены одной консистории и одному архиепископу. Обряды молдаван и болгар нисколько не различествуют от обрядов грекороссийской церкви, несмотря на столь долгое их разобщение, если исключить их неприятный напев в нос, взятый от греков, да еще некоторые, самые незначительные отступления, как, например, ударение в било, особые клобуки монахов и проч. На свадьбе, крестинах, похоронах, на святки и в некоторые другие праздники есть между этими племенами свои народные обычаи, имеющие однако же общие славянские черты. Особенных обрядов, заслуживающих здесь описания, которые бы имели влияние на нравственность народа, нет ни у молдаван, ни у болгар, ни у русняков. Как люди еще необразованные, они суеверны: но между ними нет также ни особенных поверий, ни преданий, ни даже мест, особенно чтимых народом, куда бы стекались из многих селений на поклонение <…>, это должно приписать именно тому, что племена здесь поселенные, не искони живут в Бессарабии, служившей поприщем многих различных народов. Для русских, болгар, для молдаван даже, Бессарабия имеет мало национально-исторического интереса»139.
Из приведенной цитаты видно, что автор ни на йоту не отходит от поставленной цели – дать описание местности и населения на предмет его лояльности и возможности взаимодействия в случае военных действий. Н.М. Дараган, делая упор на общую православную идентичность большей части населения края, не сильно углублялся в изучение традиционно-бытовой народной культуры. Обращает на себя внимание ошибочное отнесение молдаван к некоренному населению края, равно как отсутствие у них «национально-исторического интереса» к родной земле. Подобное голословное высказывание вызывает по меньшей мере недоумение.
Собственно мнение, прозвучавшее в книге, можно было бы рассматривать как личную ошибку отдельного автора140, другое дело, когда речь идет о серии «Записок офицеров Генерального штаба»: в этом случае подобное высказывание приобретает уже по крайней мере ведомственную точку зрения. Напомним, что в России позиция военных всегда пользовалась особым весом.
Показательны высказывания Н. Дарагана о состоянии образования в крае. К середине XIX столетия в Бессарабии уже функционировали «гимназия, с учрежденным при ней благородным пансионом, семинария, училище для детей канцелярских служителей, 6 уездных и 11 приходских и ланкастерских училищ. Частных пансионов 11, из коих “4 мужских, 7 женских и 1 еврейское”. Кроме того, в колониях и казенных селениях имеется 111 приходских училищ и 55 сельских школ и 1 учебное заведение у графини Едлинг, в котором воспитывается 30 мальчиков и 14 девочек. В этом отношении болгары и государственные крестьяне далеко опередили жителей молдавского происхождения, между которыми ни образ жизни, ни довольство не заставляют еще чувствовать необходимости грамотного воспитания <…>. Число учащихся к числу жителей области относится как 1: 80. Это чрезвычайно мало; но если исключить 500 тысяч молдаван, то выйдет, что из грамотного населения Бессарабии V учащихся в самой области141. Это показывает, что заведений для обучения, по требованию народа, весьма достаточно, и остается только желать, чтобы молдавское народонаселение достигло скорее того благосостояния, которое допускает уже систематическое умственное развитие и рождает в нем потребность»142.
Комментарии Н. Дарагана в отношении молдавского населения вполне могут вызвать возмущение у неподготовленного читателя. Но его взгляд на местное население подтверждает наш комментарий, прозвучавший выше, о пренебрежительном отношении центральных властей и отдельных их представителей к народам окраин, вне зависимости от их месторасположения. Бессарабия – не исключение. В немалой степени на подобном отношении сказывалось владение населением русским языком. Чем меньше владел народ русской речью, тем критичнее его оценивали русские чиновники. Болгары, русины/руснаки и малороссы143 находились в этом отношении в более выгодном положении, в связи с тем, что, являясь славянскими народами, легче приобщались к русскому языку. Немалое значение имел язык, на котором велись службы в церкви. В молдавских селах это был родной молдаванам язык.
В рукописных материалах Одесского общества истории и древностей, ЦНБ НАН Украины им. Вернадского хранится рукопись В. Курдиновского «Легенды в Бессарабии»144. Будучи сам богослужителем, автор подметил в ней один из конкретных механизмов ассимиляции русинов Бессарабии, или, как писал он, омолдаванивания села: «Поп-молдаванин, десятки лет священствуя в малорусском селе, не научивается говорить по-малорусски, а приход его <.. > научается молдавской речи, и дети уже часто забывают малорусскую речь родителей своих». Ситуацию подобного рода он отмечал даже «в отдаленных <…> селах Хотинского уезда».
В продолжение разговора можно вспомнить еще один показательный пример из творчества классика украинской литературы Михаила Коцюбинского145. В одном из произведений его «Бессарабского цикла», в рассказе «Пекоптьор», при описании взаимоотношений молодых людей в молдавском селе, приводится диалог юноши с его девушкой, в котором молодой человек хвастается подруге, что уже выучил армейские команды на русском языке146.
Кстати, сохранение определенных льгот, в том числе в использовании молдавского языка, способствовало сохранению языковой дистанции, особенно в общении безграмотных в основной своей массе селян-молдаван с государственными чиновниками и администрацией.
На языковом восприятии сказывалась и политика царской России. С 1828 г. ограничено хождение и использование молдавского языка в Бессарабии, а с 1873 г., после присвоения ей статуса губернии, преследования языка ужесточились. В частности, выпускавшиеся с 1859 г. «Бессарабские областные ведомости» достаточно длительное время были двуязычными, выходившими на русском и молдавском языках. Когда же они стали именоваться «губернскими», публикации на молдавском языке и вовсе прекратились. Такая же ситуация сложилась и с первым молдавским журналом «Бессарабские епархиальные ведомости» (начал издаваться с 1867 г.), первое время печатавшимся тоже на двух языках. Примерно в это время на Украине с 1863 г. было запрещено использовать «малорусский язык»147. На этом дело не остановилось, и 30 октября 1884 г. было разослано секретное распоряжение, призванное ограничить использование «малорусского наречия»148. До 1918 г. в Бессарабии не уделялось достойного внимания как молдавскому языку, так и, как мы сказали бы сейчас, языкам меньшинств149.
А.И. Защук. Еще один исследователь в погонах – А.И. Защук 150, автор двухтомного труда «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Бессарабская область». Книга увидела свет в 1862 г. Скрупулезность и глубокое вникание в суть изучаемых вопросов, а также красивый стиль изложения материала сразу обращают на себя внимание читателя. Есть еще одна важная деталь. Работу отличает научный подход, это становится видно уже по предисловию, где А.И. Защук приводит историографию печатных работ и источников, опираясь на которые он подготовил книгу151.
Описание Бессарабской области включает в себя следующие разделы: разделение области, физические свойства поверхности, гидрография, пути сообщения, климат, естественные произведения (речь идет о местных культурных растениях, животных и полезных ископемых), жители, промышленность (раздел включает в себя характеристику сельскохозяйственной промышленности, мануфактурной промышленности, торговли), образовательность (раздел «образовательность» освещает состояние религиозного и гражданского образования), отдельно рассматривается состояние нравственности местного населения (автором осуществляется анализ совершенных преступлений).
Далее автор останавливается на освещении «внутреннего и внешнего быта жителей Бессарабии», знакомя читателя с традиционно-бытовой культурой молдаван.
Последний раздел первой части «Материалов для географии и статистики» А. Защука о Бессарабской области посвящен «особым учреждениям Бессарабской области». Читатель получает возможность познакомиться с описанием положения и основных характеристик традиционной культуры и быта задунайских переселенцев, немецких колонистов, государственных крестьян.
Завершает изложение первого тома описание различных сторон жизни и повседневности Новороссийского казачьего войска.
Второй том, или, как его обозначил А.И. Защук, – вторая часть, «Материалов для географии и статистики России» подробно освещает управление краем. Рассмотрение данного вопроса автор осуществляет, давая характеристику организациям по их принадлежности к различным государственным ведомствам (Министерство культуры, Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство народного просвещения, Министерство государственных имуществ, Духовного управления, Военного ведомства, Ведомства путей сообщения и публичных зданий, Почтового ведомства).
Отдельно рассматриваются городские, уездные и окружные учреждения по ведомственной принадлежности. Представлены разделы с анализом податей и налогов.
Вторую часть второго тома А.И. Защук посвятил сведениям о городах и селениях края.
Несмотря на некоторую громоздкость и разбросанность материала, собранные А.И. Защуком сведения о Бессарабии представляли в середине XIX в. наиболее полную и, самое главное, комплексную картину состояния области.
Повествуя о молдаванах, Защук относит их к потомкам романизированных даков, излагая, собственно, теорию континуитета. Автор констатирует: «…Самое название румыны (римляне), сохраняемое молдавским племенем, дают повод считать их происхождение западным»152. При этом автор подчеркивает, что «происхождние молдавского племени до сих пор составляет предмет, не вполне разрешенный историческими разысканиями»153.
Продолжая эту мысль, он дает краткую этнопсихологическую характеристику молдаванам: «Это племя мирное, покойное, до сих пор не могущее забыть долгих веков угнетения; его грустное прошедшее равно отзывается в народных легендах, поверьях, и звучит в вечно унылых песнях, бесконечных, как века пережитого ими горя»154.
Здесь же А.И. Защук обращает внимание читателя на наличие еще одного этнонима, объединяющего восточнороманское население края – «волохи». Исследователь подчеркивает, что этим термином пользовались соседние народы (поляки, венгры) для обозначения румын «как и всех итальянцев». Говоря об аспаруховых болгарах, которые «первые придя с берегов Волги в эту часть Мезии, обозначили этим именем тех земледельцев и пастухов, с которыми входили в сношения. Это же слово, принятое всеми народами славянского корня: поляками, кроатами155, богемцами и другими и применявшееся ими без разбора к древним римлянам и к латинским племенам, в средние века сделалось производительною причиною имени влахов или валахов, присвоенного большей части обитателей Румынии»156. И далее автор продолжает: «Русские же называют румынов – молдаванами, по названию княжества. <…> Бессарабские молдаване говорят испорченным латинским наречием, с примесью слов славянских. Язык их имеет корень латинский и удержал, в своем основании, более оригинальности древнего римского, нежели италиянский»157. Автор обратил внимание на сильное славянское влияние на язык молдаван посредством контактов со славянскими народами и через православную религию, использующую славянский алфавит «со времени владения князя Александра Доброго и молдавского митрополита Феоктиста»158. Защук подчеркнул, что долгое время «все церковные книги употреблялись славянские, <…> судебные акты и княжеские грамоты также писаны были по-славянски»159.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе