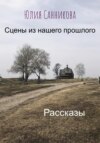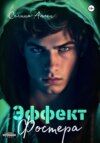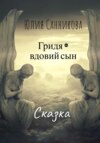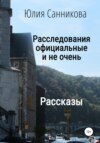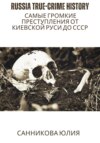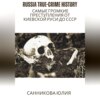Читать книгу: «Сцены из нашего прошлого», страница 5
Могилы были занесены снегом, кое-где из сугробов торчали кресты. В каждой снежинке отражалось хмурое сибирское небо.
На следующий день он посетил заречное кладбище, бывшее от Тюмени в двух верстах. Здесь было все то же самое, что и на городском кладбище – каменная церковь, караульная изба, деревянный забор вокруг. Встретившийся отцу Михаилу мужик пожаловался, что грабителей развелось много, памятники воруют.
В Тюмени, как выяснилось, кладбища на кварталы не делили, обывателей хоронили бесплатно, на том месте, которое было свободно или которое приглянулось родственникам.
Пока Лежлев ехал в Туринск по Ирбитскому тракту все время стояла великолепная погода. По краям дороги насажены были огромные рогатые сосны, любимое пристанище ворон и галок. Направо и налево тянулись ровные поля, убранные мягким пушистым снегом, отороченные словно драгоценным мехом величественным сосновым бором. На всем своем протяжении дорога была расчищена, на ней были устроены разъезды по четыре на каждую версту. Отец Михаил удивленно рассматривал эти уторопища или утолоки, то есть утоптанные места, помеченные еловыми ветками. Так их было видно издалека. Теперь каждый ехавший мог свернуть на этот съезд и дождаться, пока проедет встречный.
Вместе с Лежлевым устроенному на дороге паллиативу удивлялся и ямщик:
– Испокон веку разъезжались где придется, – философствовал он, сидя на козлах и обращаясь к серому в яблоках лошадиному крупу, – а теперь и впрямь хорошо. Фу, ты, какая простая штука и ничего не стоит главное!
В Туринске кладбище размещено было на расстоянии двухсот сажен от самого города. Церквей и часовен на нем не имелось, стало быть, покойников отпевали в другом месте.
Для особенных случаев хранения мертвых был назначен небольшой каменный дом, неизвестно кем и когда выстроенный. А еще здесь были квартальные столбы, делившее кладбище на разряды, как то было устроено в Тобольске.
О том, как распределяются места по разрядам, объяснил отцу Михаилу поп Никодим из Спасской церкви, на звоннице которой Лежлев углядел круглые башенные часы.
– А вот погоди, – сказал Никодим и прищурился, – как начнут сейчас часы отбивать.
И правда, когда на черном с позолотой циферблате исполнилось два часа пополудни, из часов раздался внушительный колокольный звон.
Места в туринском некрополе распределялись следующим образом. За участки в первом разряде положено было отдать три рубля, во втором – два, в третьем – рубль, в четвертом – полтину, в пятом, самом дешевом – двадцать пять копеек. За младенцев в каждом разряде следовало брать половину платы.
Февраль уже кончился и прошла середина марта, когда Лежлев осмотрел кладбища в Ялуторовске и Ишиме.
Ялуторовское кладбище пахло ладаном и свежевскопанной землей. В тот день из города, отстоящего от погоста на полверсты притащились на санях хоронить какого-то мещанина. Покойник лежал в гробу с оскорбленным видом, за гробом с кроткой улыбкой на устах шла бледная, заплаканная женщина, вероятно, вдова. За ней тянулась процессия песельников, их лица выражали полнейшую апатию.
Лежлев не стал долго глядеть на похороны, нарушавшие живой своей суетой торжественный покой кладбища, и пошел осмотреть каменную церковь во имя святителя Иоанна, построенную лет десять назад на добровольные пожертвования городского общества. У общества нашлись также средства на постройку караульной избы, но вот на расчистку рва, видимо, уже ничего не осталось. Ров был засыпан землей, и на его месте стоял деревянный забор.
Отличительной особенностью Ялуторовского кладбища было полнейшее отсутствие какой бы то ни было растительности.
Ишимское кладбище, находящееся в новомодной смежности от города, отличалось от Ялуторовского тем, что на нем не имелось никаких построек. Ни церковки, ни колоколенки. Порядок и чистота соблюдались на нем выборочно, можно сказать, не соблюдались вовсе. Да и то, как же их было соблюсти, если с северной стороны кладбищенская ограда была полностью разрушена.
Хоронили в Ишиме бесплатно, равно как и в Ялуторовске.
Тарское кладбище оказалось на удивление большим, но не менее запущенным, чем остальные. И вообще город Тара понравился отцу Михаилу больше других. Кажется он был чище и благопристойнее. Вокруг базарной площади словно часовые на параде стояли две церкви – Пятницкая и Успенская.
На кладбище, отдаленном от города на сотню сажен, имелась каменная двухэтажная церковь Тихвинской иконы Божьей матери, воздвигнутая в 1789 году иждивением коммерции советника Ивана Федоровича Нерпина, неграмотного и относительно рано умершего, но почитаемого горожанами за широкую филантропическую деятельность. Он не только выстроил в Таре три храма, но и вызолотил колокола на Казанской церкви, а еще пожертвовал на войну с Бонапартом пять тысяч рублей. И это несмотря на то, что уж Таре-то французский супостат никак не угрожал. Он до Москвы едва ли дошел, куда ему, изнеженному булыжными мостовыми и верховой ездой дошагать до сибирской Тары, где дороги проезжие по месяцу в году.
К церкви, усердием купца первой гильдии Кахтинского и коммерции советника Якова Немчинова, была пристроена сторожка для трапезников.
На кварталы кладбище не делилось, обывателей хоронили бесплатно. Отдельные могилы поддерживались в чистоте и порядке живыми родственниками. На остальных царила библейская мерзость запустения.
Над лицевой стороной тарского кладбища поднималась деревянная стена, с прочих же сторон тянулся забор из бревен.
Протоиерей отец Петр показал Лежлеву икону Тихвинской Божьей Матери, которую привез в Тару в 1594 году первый воевода и основатель города – князь Андрей Елецкий. Икона была в аршин высотой, украшена серебряной с позолотой ризой, весом в 25 фунтов.
В Кургане, куда отец Михаил добрался к началу апреля, кладбище отстояло от города на сотню сажен. Был тут караульный дом, состоящий из двух комнат, который выстроили на собственные деньги горожане. Восемь кварталов отделено было межевыми столбиками на курганском погосте, однако же плата за пользование землей не взималась, и назначение квартального обособления осталось невыясненным.
Березовское городское кладбище славилось тем, что на нем покоились бренные останки ссыльных вельмож времен Елизаветы и Петра II, процарствовавшего, как известно, всего три года и умершего четырнадцати лет от оспы, – Остермана и Меньшикова. Могилы птенцов гнезда Петровых были заброшены и провалились, большие деревянные кресты на них истлели. Забором, как и чистотою березовского кладбище похвастаться не могло.
В жалком неприглядном состоянии находилось и Сургутское городское кладбище. Случившийся в ту пору дьякон Свято-Троицкого собора Андрей Павлович Скопищев объяснил отцу Михаилу, что деревянную ограду зачали строить еще в 1879 году, и до сих пор еще не окончили.
– Кто ж денег на постройку дал? – спросил отец Михаил, вспоминая об епархиальном инспекторе и ста пятидесяти рублях, которыми он попрекал отца Иоанна.
Выяснилось, что финансировала забор все та же Тобольская епархия. Приезжал ли в сургутское кладбище проверяющий отец Михаил так и не дознался, Скопищеву о том ничего известно не было, не знал он, сколько конкретно денег было выделено на строительство.
– Рублев пятьсот, а может и больше, – просипел отец Андрей, простудившийся где-то еще третьего дня.
До Тюкалинска отец Михаил добрался к маю. Уже на подъездах со стороны города потянуло в воздухе кислым спертым запахом. Погода стояла теплая. Когда подъехали ближе и впереди замаячили бревенчатые остовы казарменных помещений, отец Михаил понял, откуда доносилась нестерпимая вонь.
Толстый слой навоза, разного рода мусора и нечистот окаймлял Тюкалинск словно древний крепостной вал и портил своим гнилым видом всю декорацию. Жители не нашли ничего лучше, как вывозить скопившийся во дворах мусор на выгон и сваливать его там, где придется.
В некоторых местах кольцо нечистот вплотную примыкало к убогим жилищам тюкалинцев, к их дворам и изгородям, увязанных большей частию из мелкого хвороста.
С наступлением весны химический процесс разложения веществ ускорился, продукты распада выбрасывались в атмосферу, что зловредным образом влияло на окружающую обстановку и явно не способствовало здоровому климату.
Во всем Тюкалинске, казалось, не было другого цвета кроме навозно-коричневого. Даже висевшее над городом небо окрасилось в цвет тюкалинской грязи. Ни прозрачных окон, ни беленых заборов, ни зеленых крыш, ни одной мало-мальски капли цвета. Все утонуло в зловонной бурой гнили. Смотришь, смотришь и ничего не видишь, точно сам ты увяз в болоте… Дождь хлещет как из ведра… Грязь везде непролазная…
По проселочной дороге на почтовых клячах дотащился отец Михаил до Тюкалинска, финальной точки его путешествия. Вымок насквозь. Ямщик был пьян в стельку и по временам засыпал. Коренной на полдороги захромал, зафыркал, потом принялся вздрагивать, и от этого вздрагивал весь тарантас, а вместе с ним и Лежлев. Пугливая пристяжная все время спотыкалась и норовила броситься в сторону. Дорога отвратительная. Что ни шаг, то колдобина, рытвина, размытая ямка.
За место на Тюкалинском кладбище, существовавшем с 1879 года, брали от рубля до двух. Это в перворазрядных кварталах. Во втором классе хоронили бесплатно, здесь было много могил, городские жители умирали помногу вследствие частых пожаров и других бедствий, которые город терпел с завидной регулярностью.
Неподалеку от нового лежало старое кладбище, увенчанное деревянной часовней, куда складывали мертвецов, ожидающих погребения.
Со священником Троицкой церкви отцом Сергием у Лежлева состоялся весьма примечательный разговор на тему того, сколько и отчего умирал народ в Тюкалинске.
Смертность в Тюкалинске совершенно закономерно превышала рождаемость. Отец Сергий полагал, что это связано не только и не столько с пожарами, но и с укоренившейся практикой обращения с навозом. По логике вещей навоз, который производило натуральное хозяйство горожан, следовало сжигать, но то возможно было, если материал сохранялся чистым и находился далеко от жилья. Тогда к лету он успевал просохнуть и хорошо горел. Но так как помимо конского и коровьего помета в его составе имелись инородные частицы, и свален он был слишком близко к городской застройке – все это препятствовало гигиенической процедуре.
– Навоз – это первое, – сказал отец Сергий, угощая Лежлева чаем в трапезной тюкалинского собора. – Расстояние – это второе. Я не канцелярист, но молодость свою провел среди конторщиков, сам в письмоводителях служил и многое понимаю… Я не чинодрал какой-нибудь, но у меня есть нюх. И сердце есть! Сразу вижу, что дело тут паршивое. Да ты чего ж не ешь? Гляди, потом не останется.
– Пожалуй, возьму еще кусочек. А что беда от навоза приключается, это верно! А вонища какая!
– Конечно! Вот гляди, кладбище от города насколько отстоит? На сто сажен! Много это или мало? Мало, брат, конечно мало! По регламенту надо бы не меньше 250 сажен, но кто ж про регламент помнит? Авось и так сойдет. Вечный этот наш авось!
Отец Сергий сел на своего любимого конька и без устали его пришпоривал.
– В Тюмени есть такое кладбище на 250 сажен от города, – вспомнил Лежлев. – Затюменским называется. Да постой-ка, там же и заречное кладбище есть, то вообще в двух верстах. И часовня на нем имеется, и караульная изба. Да одна беда, памятники воруют.
– Воруют? А кто это ворует? Стрелять в таких из ружья для острастки! Или собак спускать. Ишь, что удумали, церковный инвентарь воровать! Анафемы!… В прошлом году, – продолжает отец Сергий, от возбуждения переходя к видимому спокойствию и подливая в чай клюквенного морсу, – страсть сколько народу померло. Теперь скажи мне: отчего их так много?
– Откуда же мне знать? Разве догадаться только… Изволь, – Лежлев задумался. – Ну-с, скажем от моровой язвы или от другой какой болезни.
– Да, верно говоришь, а болезни в Тюкалинске отчего происходят?
– Этак, любезный нельзя! – воскликнул отец Михаил. – Откуда ж я знаю, почему в Тюкалинске болезни? Стало быть, есть на то причина.
– Так я тебе о том и толкую, расстояние – вот главная причина! А еще могилы не глубоко роют. Умре какой-нибудь Иванов или Петров от сибирской язвы, или от тифа, или, скажем например, от холеры, зароют его неглубоко, глядь через месяц половина тех, кто были на похоронах от того же и померла. Да еще и те, кто в соседних с кладбищем домах живут. Эпидемия – одно слово! А вот еще, брат, история… Слыхал ты про летаргический сон?
– Как не слыхать? Слыхал, конечно. Да нешто про такую штуку, да не слыхивать. Известное дело!
– А раз так, то знаешь, что летаргический сон заключает в себе все условия естественной смерти и продолжается иногда до четырнадцати суток, а когда и более. В кругу сельского населения, да, Бог бы с ним, и в городе тоже, нередко принимается за факт настоящей смерти. В газетах, небось, читал о случаях мнимой смерти, когда несчастные страдальцы, заживо погребенные в могилах, кончали там жизнь в ужасных муках.
Лежлев, не читавший ни газет, ни книг, и не ведавший ни сном ни духом до сего времени о летаргическом сне, с замиранием сердца слушал отца Сергия. Он во всех красках представил себе участь мнимого мертвеца, проснувшегося ото сна в тесной могиле. Сильнейший испуг сжал его сердце и волной холодных мурашек пробежал по спине.
Отец Михаил зажмурился. В воображении его промелькнул перевернувшийся в гробу труп со скрюченными пальцами, заходил образ умершего два года назад кривого мельника, одного повесившегося крестьянина, утопленницы Маланьи, которую утащило под лед в прошлом году.
– Как же сие зло отвратить? – голос отца Сергия вернул Лежлева из мира грез, и он раскрыл глаза. – А вот как. На городских кладбищах следует устроить особые помещения для приема мертвых тел, на которых, так сказать, имеются признаки не угасшей еще окончательно жизни. Верно я говорю? Непонятно, почему до сих пор до такого никто не додумался?! И расход незначительный. Два небольших покоя – один для мертвецов, другой – для сторожа. К сторожу провести звонок на проволоке, другим концом примотанный к руке сомнительного мертвеца. Да дров в сторожку на обогрев. Вот и все!
После чаю и дружеской беседы Лежлев потянулся и встал… Ему захотелось выйти наружу. Походив немного по горнице, попрощавшись с отцом Сергием, он отворил скрипучую дубовую дверь и вышел. На улице давно уже кончились сумерки и наступил настоящий лунный вечер. Дождем не пахло, но с реки тянуло холодом. В домах светились огни.
Лежлев вернулся на постоялый двор. Там он собрал свои пожитки, помолился на ночь, спросил, когда назавтра отправляется почтовая телега, лег и забылся тихим непробудным сном.
Если придерживаться строго летописного порядка, то не дальше, как через четыре дня после отъезда из Тюкалинска, отец Михаил, сидя за чаем на заезжем дворе не то в Чумашкине, не то в Абатском, вспоминал свое путешествие. Состояние у него было блаженное, словно он выздоровел после тяжелой болезни, ум замирал от смутных предчувствий, он смотрел по сторонам и улыбался без всякой причины.
Он вспоминал посещенные им разные кладбища, ольховые заросли, седые от инея на кладбище в Таре, гробовую тишину Ишимского погоста. Белые поля от леса до горизонта, сменившиеся непролазной грязью, по мере его путешествия. Кресты покосившиеся, стоящие ровно, деревянные, металлические, с облупившеюся краской, с железными табличками, украшенные гирляндами цветов. Гранитные памятники, гладкие, с щербинами, расколотые на две, на три части, в застарелых ржавых пятнах, с позолоченными буквами. Провалившиеся могилы и мавзолеи, насыпанные холмы свежей красно-серой земли. Стада коз, бродящие по Тобольской губернии словно паломники по Святой земле. Священников и дьяков, величавых и кротких, истасканных и чахоточных. Храмы, соборы, церкви, часовни, сторожки, трапезные, караульные избы, просвирни, ограды, заборы, стены из бревен. По временам среди воспоминаний слышались ему церковное пение и тихий плач. Эта картина привиделась ему теперь. Помнился и мужик, застрявший с возом в снегу. Выбрался ли, нет, мужичина? Али стоит по сию пору в сугробе.
«Вестимо, выбрался. Чай, и сугроб-то уж тот растаял, – подумал про себя отец Михаил. – Эх, скорей бы домой».
Когда он ложился спать на постоялом дворе или просыпался от того, что его укачало в бричке, приходили на память различные моменты из знакомства его с тобольскими кладбищами. В основном они были светлые, от них щемило радостью сердце, поэзия прошлого держала его в своем сладостном, безоблачном плену. Ему хотелось ехать и ехать, но в то же время хотелось скорее попасть домой.
Не будем доле держать читателя во мраке неизвестности. Не суждено было отцу Михаилу вернуться в Вагай и поведать кому бы то ни было о своих приключениях. На седьмой день обратного пути он во время остановки поел вяленой рыбы и на следующий день слег. У него начался жар, открылась рвота, через шесть часов после этого его разбил паралич. Вызванный к больному доктор осмотрел горло, выслушал пульс и развел руками. По его мнению, больному ничем нельзя было помочь.
Тело новопреставившегося раба Божьего Михаила было выслано в Вагай с наказом уплатить за перевозку по установленной таксе. Похоронили отца Михаила на Вагаевском кладбище, вблизи церкви, бесплатно, ибо в Вагае за похороны денег не брали. На могиле поставлен был гранитный обелиск и высечена надпись «Спи спокойно, дорогой друг». На помин души Лукерья Ильинична пожертвовала пять рублей.
Коммунистический суицид
Игнат Горелов, бывший партиец, пустивший себе пулю в лоб 28 апреля 1925 года, так объяснил свой жест в предсмертной записке: «Я безусым восемнадцатилетним юнцом с беззаветной преданностью добровольно бросился защищать революционные завоевания, меня никто не гнал. Партия потребовала массовые расстрелы – расстреливал. Потребовала жечь целые деревни на Украине и в Тамбовской губернии – сжигал, аж дым коромыслом. Потребовала вести в бой раздетых и разутых красноармейцев – вел, когда сами шли, а когда и под дулом нагана. Теперь из партии выгнали за пьянство, мать-старуха умерла, и жизнь запущена. В моей смерти прошу винить тов. Ветрянского, который ходатайствовал о моем исключении».
Тело без признаков жизни, с валяющимся на полу пистолетом, обнаружила соседка Горелова по коммунальной квартире – гражданка Бабаева. Услышав хлопок, она опрометью бросилась в комнату Горелова, вторую слева по коридору от входной двери, и, войдя, увидела печальную картину. Она же показала милицейскому дознавателю, что всю неделю до смерти бывший член ВКП(б) беспробудно пил, на кухне почти не появлялся, а малую нужду справлял в окно, из-за чего жильцы нижних этажей приходили жаловаться. Мать Горелова, проживавшая с ним на одной жилплощади, умерла за месяц до сына, то ли от старости, то ли от болезни.
Новая экономическая политика, провозглашенная ВЦИКом, была в самом разгаре, когда коммунистическую партию захлестнула волна самоубийств. На 1925 год пришелся самый пик, в отдельных ячейках самоубийства носили характер морового поветрия, желающих расстаться с жизнью имелось предостаточно. Каждый такой случай, завершился он смертью или нет, вызывал массу обсуждений и толков. Устраивались собрания, на которых парторги клеймили суицидентов позором, называли пораженцами и предателями революции, отказавшимися от активной борьбы, не справившимися с трудностями.
Участники собраний, слушавшие партийного секретаря, который изрыгал проклятия, испытывали смешанные чувства. Внутренне они сострадали покойнику, смерть знакомых, особенно насильственная смерть, причиненная себе намеренно, вызывает даже в самом жестком и загрубелом человеке определенное нравственное потрясение. На словах же вынуждены были изобличать и обвинять самоубийцу.
С настороженностью выслушивали вожди рапорты о коммунистических суицидах, стекавшиеся к ним из всех уголков необъятной Страны Советов. Вождей пугала не смерть – первые годы советской власти были насыщены кровавыми, безжалостными событиями – пугал одиночный, индивидуальный протест, выраженный в форме ультиматума. Люди, прошедшие революцию и гражданскую, строчившие очередями из пулеметных тачанок, рубившие шашками белогвардейцев, отказывались жить так, как требовала от них партия.
Мир изменился, и и многие не вписались в новую реальность. Они оказались бессильны бороться с источником страданий – режимом. Что оставалось? Пуля в лоб, веревка на шею, так кончает с собой полководец, потерявший армию и проигравший битву, не в состоянии принять поражение.
Федор Кубяк был назначен инструктором ЦК ВКП(б) для обследования статистики самоубийств среди членов партии в четырех региональных отделах. У него имелся некоторый политический опыт, приобретенный в Пермском облсовете на должности секретаря парткома. Кубяк, однако, назначению не обрадовался и попытался избавиться от него, написав письмо с просьбой снять его с должности, ссылаясь на недолеченную грыжу. Начальству обращение показалось надуманным и неубедительным – кто ж в здравом уме отказывается от места в Москве или Ленинграде? – поэтому письмо осталось без ответа и назначение состоялось.
Кубяк попробовал еще перевестись в другой отдел и написал два письма, в которых уговаривал повысить его, мотивируя просьбу язвой двенадцатиперстной кишки, но снова потерпел неудачу. Пришлось погрузиться в работу.
Кубяк прямо подошел к делу, сказалась выделенная ему персональная квартира на Тверской улице и повышенная норма керосина. Доктор Верхоглядов, которого назначили в помощь, консультировал его по вопросам физиологии и психопатологии самоубийц.
В 1921 году отдел моральной статистики, который входил в Центральное статистическое управление, утвердил листок регистрации самоубийств вместе с правилами по его заполнению. Каждый суицид дóлжно было записывать и подшивать в архив. В анкету включались графы: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, национальность, родной язык, вероисповедание, образование, постоянное место жительства, семейное положение (здесь следовало привести разъяснения причин, если брак не был зарегистрирован), наличие и количество детей, профессия, занятие до революции, занятие на момент совершения самоубийства, способ совершения (в мельчайших подробностях); место и время, где произошла смерть; причины поступка с обязательным упоминанием о предшествовавших попытках; примечания и дополнения обо всех лицах, кто сообщал сведения.
В 1926 году, когда Кубяк уже год занимался вопросами самоубийств в СССР, графа «вероисповедание» была заменена на «партийность», тут-то и выяснилось неожиданное обстоятельство. Коммунистическая прослойка в среде самоубийств составляла в 1925 году как минимум 7%, а в Красной Армии и Флоте – до 15%. Цифры, для тех, кто разбирается в предмете, огромные!
Всплеск самоубийств, хотя и начался в 1925 году, на самом деле продолжался дольше, в этом Кубяк убедился лично, прослужив инструктором вплоть до мая 1930 года, после чего был арестован по статье о вредительстве и спустя три дня после вынесения приговора казнен. Через него прошли сотни конкретных фактов самоубийств, предсмертных записок и результатов обследований. Кубяк даже написал пару статей обобщающего характера, которых хватило бы на средних размеров брошюру, где высказался о мотивах самоубийств.
В половине случаев причину, побудившую уйти из жизни, выяснить, впрочем, не удавалось. Кубяку вспомнился характерный эпизод. Гагулов Иван Тихонович, тридцати двух лет, русский по национальности, атеист, кандидат в члены партии, закончивший начальную школу, проживающий вместе с женой и тремя малолетними детьми в комнате коммунальной квартиры, и работавший автомехаником, повесился ночью в мастерской, когда рабочие разошлись по домам. Предсмертной записки не оставил. Жена была настолько удивлена происшедшим – Гагулов никогда ни на что не жаловался, не пил, и не распускал руки – что не поверила в смерть мужа, пока не увидела его мертвого, и сначала хлопала его ладонями по щекам и ушам, думая, что он в отключке. Каким мотивом объяснить самоубийство Гагулова, Кубяк решительно не знал. В графе «причины суицида» в регистрационном листке стояло красноречивое «Не установлены», а далее следовали подробности опознания трупа женой.
Оставалось загадкой, из-за чего погиб Колтунов Петр Петрович, 1888 года рождения шагнувший с моста в Москву-реку через неделю после того, как устроился извозчиком на хлебозавод. Предсмертной записки, как и Гагулов, он не оставил. Семьи у него не было. Всю неделю, пока работал, Колтунов ночевал на заводском чердаке вместе с двумя другими работниками без определенного места жительства. Новоиспеченные сослуживцы Колтунова говорили, правда, что он в тот день был странный, вроде как пьяный, но медицинское освидетельствование, проведенное доктором Верхоглядовым post mortem (лат. «посмертно»), подтвердило, что утопленник, всплывший практически в том же месте, где упал в воду, был трезв как стеклышко.
У парадокса с мотивами имелась и обратная сторона. В каждом случае, где мотив читался явственно, причин самоубийства было несколько. Этот факт Кубяк неоднократно подчеркивал и в отчетах, которые он посылал во ВЦИК, и в статьях, которые он писал для внутренней партийной прессы. Читатель, если найдет их в архивах, может ознакомиться с ними и убедиться, что все, сказанное здесь, чистая правда. Имеются еще свидетельства доктора Верхоглядова, тоже, смеем надеяться, сохранившиеся в архивах. На некоторых, правда, стоит гриф «Совершенно секретно», как, например, на деле Идольского Павла Кузьмича, ответственного партийного работника, который, как было записано в деле, наложил на себя руки, поскольку на фоне болезни, ослабившей организм, подвергся влиянию непартийных элементов. Эти элементы вовлекали его в неправильные действия, одновременно спаивая. Для такого человека как Идольский, «годами жившего с партией» (здесь и далее прямые цитаты из отчета мы приводим в кавычках) такое разлучение «оказалось трагическим». Что сделалось последней каплей, заставившей нажать на курок товарища Идольского, в гражданскую воевавшего, между прочим, с Деникиным, оставалось не выясненным. Верхоглядов полагал, что к самоубийству привело систематическое пьянство, гибельный выстрел прозвучал, когда покойник третий день находился в запое. Кубяк возражал, что идеологический мотив – первичен. Отрыв от партии и идейная пустота, образовавшаяся в результате влияния уголовных (да-да, вы не ослышались) элементов, с которыми Идольский связался, вынудили его к антисоциальному поступку.
При наличии нескольких причин, одна все же являлось основной или, как выражались любители казенного слога, доминантной. Среди мотивов самоубийств в среде партийных работников выделялись: тяжелое материальное положение; недовольство жизнью и службой; семейные неурядицы; должностные преступления; тяжелые болезни различной этиологии, по большей части нервные и венерические; романтическая подкладка; моральное разложение, пьянство, разврат и разного рода случаи супружеской неверности, которые ВКП(б) именовала почему-то «половым извращением»; травля и наплевательское отношение со стороны вышестоящих органов и их отдельных представителей.
Сотрудники политуравления Красной Армии, выполнявшие те же самые функции, что и Кубяк в Верхоглядовым, называли несколько отличные поводы, впрочем, довольно близкие по сути: нервные расстройства и переутомления; боязнь наказания за преступления, совершенные в прошлом и будущем; раскаяние и стыд за преступления на романтической почве, за которые не полагалась уголовная статья, проще говоря за измену и склонение к аборту; материальная нужда; разочарование в жизни; семейные неурядицы; недовольство службой или своей должностью; болезнь и пьянство; исключение из партии.
Если бы читатель бегло просмотрел статистику отчетов по самоубийствам, совершенных в СССР в 1920-х годах, то мог бы заметить, что для гражданских лиц характерны были самоубийства на нервной почве и от переутомления, вследствие исключения из партии и романтических разочарований, а также в результате болезней и пьянства. Красноармейцы чаще страдали от жизненного разочарования и семейных раздоров. Самоубийства по вопросу «преступления и наказания» и на фоне неурядиц на службе случались с равной частотой в обеих группах.
Как было сказано выше, и как товарищ Кубяк убедился на собственном опыте, причины самоубийства в каждом отдельном случае переплетались столь тесно, что разделить их было решительно невозможно. Тяжелое материальное положение, необходимость содержать семью и невозможность сделать это, тянули за собой нервные заболевания, а за болезнями в свой черед, как капли дождя из тучи, лилось недовольство службой и разочарование жизнью. Большевики были издерганы и измотаны, срывали зло на домочадцах, пили горькую, а те, что побогаче, проматывали жизнь в ресторанах и борделях.
Взять хотя бы случай Жабрушвили Гиви Георгиевича, члена партии, из Звенигородского уезда Московской губернии, повесившегося 9 января 1925 года на перекладине дома, где проживал с женой, ребенком и престарелой матерью. Из отчета, составленного старшим уездным милиционером, следовало, что Гиви Георгиевич, работавший в трудовой коммуне ОГПУ младшим надзирателем и получавший 48 рублей оклада, испытывал значительные материальные трудности и не мог содержать семью. Десять рублей из зарплаты уходило на аренду дома и пользование коммунальными услугами, 36 рублей в месяц – на еду семье. Оставшиеся два рубля следовало как-то разделить между баней, стиркой, купить керосин, прессу, одежду, обувь, лекарства матери, а также заплатить членские взносы в несколько общественных организаций, в которых состоял глава семьи.
В результате Жабрушвили влез в долги, которые росли от месяца к месяцу. Семилетний сын отправлен был просить милостыню, супруга, Наталья Дмитриевна под пологом ночи занималась проституцией. Гиви Георгиевич от «позорного промысла» жену не отговаривал, просил только не вдаваться в подробности.
От расстройств и непосильной работы – Жабрушвили старался брать на себя повышенную нагрузку – он в один прекрасный день надорвался, слег и пролежал две недели, после чего был уволен со службы, но, к счастью, не из партии, и лишился последних средств к существованию. Вся надежда была теперь на заработок жены и милостыню, которую довольно нерегулярно приносил сын Алексей.
Через два месяца Жабрушвили, наконец, принялся искать работу, но ничего достойного не подворачивалось. От безнадежности своего положения бывший надзиратель запил, причем деньги на водку брал у жены. В пьяном виде труднее вести поиски и совершенно логичным образом Жабрушвили работу так и не нашел.