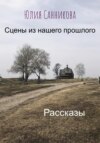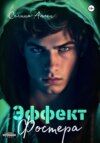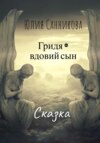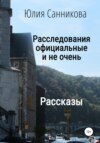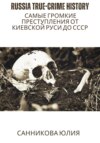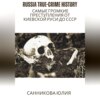Читать книгу: «Сцены из нашего прошлого», страница 4
Вера Ивановна Чайковская была непосредственной свидетельницей всего, наблюдая за трагедией через высокое окошко в гостиной. А кроме нее драку видели дворовые и слуги, находившиеся в то время близ усадьбы.
Послали за исправником, он приехал со своею командою, взял виновных под стражу, заперев их в хозяйском погребе, и начал следствие. Результаты следствия были переданы в уголовную палату, председателем которой и был Александр Александрович Благоев.
Сын Чайковский промучался всю ночь с 28 на 29 июля, беспрестанно просил пить и укрыть одеялом, так как его, по его же словам, бил озноб. На утро он затих, а через два часа после этого посланная проверить его служанка, прибежала сказать барыне, что Сергей Алексеевич умер совсем. Таким образом, убийство сделалось двойным.
Перечитывая дело из раза в раз, Александр Александрович Благоев не находил достаточных оснований для обвинительного приговора. Он был согласен, что крестьяне – преступники, но ведь сделались они таковыми, спасая собственную жизнь. Или в случае с Евдокимом Аксеновым, жизнь своих соплеменников. Ни у кого не было сомнений, что Алексей Ильич выстрелил бы, не останови его безжалостный порыв импровизированное копье. Этот факт подтвердила и Вера Ивановна: «Супруг мой упрямый характер имел. Я думаю, убил бы обоих: и кузнеца, и кузнецова сына. Раздразнили они его тогда не на шутку». После чего, как мы знаем, попыталась дать взятку и замять дело.
Теперь вот во второй раз явилась она к Благоеву, рассчитывая разжалобить его и подмазать. Какие дела в наше время совершаются без того, чтобы деньги, бумажные или серебряные, переменили свое местоположение и перетекли из одного кармана в другой? Но в случае с Благоевым Вера Ивановна, что называется, просчиталась.
И ныне ей не удалось добиться желаемого. Александр Александрович объяснил ей, что ему тоже не нравится идея с осуждением и каторгой, но он человек подневольный и будет делать, так, как прикажут, а вернее так, как требует закон. Уточнение о законе он сделал для того, чтобы не выглядеть в глазах госпожи Чайковской совсем уже холуем, который без оглядки на начальство не может решить ни одного мало-мальски серьезного дела. Проговорив все это, он выпроводил всхлипывающую Веру Ивановну и приготовился идти к губернатору.
На улице был дождь и ветер. Александр Александрович проворно вскочил в стоявший у крыльца экипажа, ловко затворил дверцу и крикнул ехать.
Губернаторский дворец слепил белизной наличников и всеми печными трубами испускал густой кадильный дым. В приемной толпилось много народа. Александр Александрович не знал, всегда ли у губернатора было так многолюдно, он не хаживал, как он это называл, в «безрассудные поклонения» к начальству, или же виной всему организованный праздник. Лакей приметил его и поспешил доложить о приезде Благоева.
Никита Иванович вышел из кабинета и сразу же направился в ту сторону, где стоял Александр Александрович. При появлении генерал-губернатора все глаза оборотились на него, а кружки из людей, стоявших и говоривших о чем-то, разомкнулись и вытянулись в неровную шеренгу. Господин Рылеев знал, что внимание сосредоточено на нем и на том, что он сейчас будет говорить, и пользовался этим, вышагивая картинно и со значением для пущего эффекта. Он был уверен, что Благоев человек слабовольный и посредственный, и вознамерился сыграть на этих его недостатках.
Никита Иванович атаковал с места в карьер. Он легко кивнул головой господину Благоеву в качестве приветствия, после чего громко, чтобы всем было слышно, заявил, что не позволит, пока жив, поощрять убийства и вредные мнения, потому что от этого пострадает домашняя сохранность, а помещик в деревне не сможет спать спокойно, ежечасно опасаясь собственных крестьян. Если веления господина, распинался Никита Иванович, не будут исполняемы, а ослушники не наказанными останутся, то наступит паки хаос, как было то в первобытных обществах, где отсутствовали закон и порядок. В какой-то момент прочувствованной речи губернатор даже назвал Александра Александровича сообщником убийцов, посягнувшим на неоспоримость помещичьей власти над крестьянами, но потом опомнился и поправил, что выразился в фигуральном смысле слова.
Рассуждая о строгости наказания, господин Рылеев нарисовал перед собравшимися безрадостную картину будущего государства, в котором с пренебрежением относятся к верховной власти, не берегут ее и необоснованно порицают, распространяют о ней ложь и небылицы, дискредитируя таким образом в глазах граждан. Умрет все, пророчил губернатор, поля и нивы запустеют и порастут сорняками, жилища разрушатся, а крестьяне, не имея над собой прилежного надсмотрщика, разленятся, разбредутся и будут паразитировать на государственном теле, словно тараканы и мокрицы. Разрушатся города, покинутые жителями, забудутся торговля и ремесла, богатство иссякнет, все поголовно станут нищими, дворцы и усадьбы обветшают, а закон, неисполняемый никем, не сможет более защитить граждан от произвола. Общество развалится на части и издохнет, как рыба, выброшенная на песок, царский престол, этот бастион и твердыня, на котором зиждется общество, сокрушится и падет, а владычица его сделается простою гражданкою, Никита Иванович чуть было не добавил как «гражданин Луи Капет», но сдержался, решив, что незачем мешать сюда еще и французов, и так уже слишком он сгустил краски.
Картина общественной гибели, нарисованная генерал-губернатором словно адской кистью, произвела на всех сильное впечатление. Дамы и кавалеры, набившиеся в приемной, стояли словно громом пораженные и переводили недоумевающий и злой взгляд с Рылеева на Благоева.
Александр Александрович застыл перед оратором весь красный, яростный огонь пылал в его глазах, руки непроизвольно сжались в кулаки. Он не смел перебивать начальника, пока тот говорил, а теперь, когда он кончил, не знал, как отвечать: гневно или хладнокровно. Тысячи мыслей проносились в его голове, но ни одна не казалась ему способной передать всю гамму чувств, которые он испытал в продолжении губернаторской речи.
Тем не менее нужно было отвечать. Господин Благоев набрал полную грудь воздуха и хотел было уже начать возражения, но в этот момент в груди его что-то оборвалось, он качнулся всем телом вперед, схватился за сердце, запрокинул назад голову и упал, лишившись чувств, прямо на руки Никите Ивановичу.
Послали за надворным медиком, который, по счастью, в то время как раз находился во дворце. Александра Александровича уложили в задней комнате, дали ему нюхательную соль, после того, как он очнулся – обильное питье, а на голову положили холодный компресс. Доктор выслушал пульс, пожурил за то, что господин Благоев себя не бережет, прописал постельный режим как минимум в течение месяца и курс пиявок. Через два часа председателя уголовной палаты доставили в специальной медицинской карете к себе домой, где уложили на постель и приставили сиделку.
Чувствуя себя отчасти виноватым в припадке господина Благоева, генерал-губернатор решил не продолжать предмет с Чайковскими и убрать его в насколько возможно долгий ящик. Приняв это единственно разумное в сложившихся обстоятельствах решение, господин Рылеев с легким сердцем отдался празднованию девяносто первой Шлиссельбургской годовщины и был на вечере, по заверениям знавших его людей, «совершеннейшим очарованием». Ужин удался на славу, осетрина была необычайно нежной, жаркое удивительно сочным, паштет особенно сливочным, а фрукты на редкость сладкими. Дождь к ночи перестал, и фейерверки выстрелили почти все и с первого раза. Дамы после бала были enchantées, а господа, по их же словам, passés une excellente soirée tout simplement.
В уголовной палате дела шли своим чередом, и на место господина Благоева, покамест он будет отсутствовать, заступил Владимир Алексеевич Васьковский, бывший до этого в должности товарища председателя уголовной палаты, назначаемым, как известно, губернатором. На время болезни Александра Александровича господин Васьковский намеревался совмещать свою должность товарища и должность Благоева.
О новом назначении стало известно госпоже Чайковской и она, не откладывая дела до греческих календ, приехала в дом к господину Васьковскому на Мойке и, облобызав ему и супруге его, Дарье Петровне, тут же по случаю присутствующей, руки, слезно умоляла не губить ее и не казнить ее крестьян. Господин Васьковский был тронут речью Веры Ивановны и даже, говорят, прослезился, но отвечал, сам того не ведая, практически теми же словами, что и господин Благоев, что он человек подневольный, и что над ним стоит закон, а закону противиться он не может.
Вера Ивановна тот час же поняла, что от нее требуется, и вытащила из кошелька ассигнацию в сто рублей, которую отдала почему-то не господину Васьковскому, а Дарье Петровне. Та по-хозяйски спрятала ее в шкатулку на каминной полке.
Владимир Алексеевич пожал плечами и повторил, что закон един для всех, и кто он такой, чтобы его ослушаться, после чего в руках у Дарьи Петровны оказалась еще одна сторублевая бумажка, которая, как и ее предшественница, упокоилась в ореховой шкатулке.
На это господин Васьковский сказал, что постарается сделать все, что в его силах, и что пусть, мол, Вера Ивановна не переживает, он похлопочет о деле елико возможно.
Через три дня Семана Ельесова, Андруса Ельесова и Евдокима Аксенова выпустили из Ямбургской темницы, и они вернулись на мызу, а дело Чайковских господин Васьковский закрыл, начертав на нем собственноручно: «неумышленное убийство группой лиц».
Кладбищенская поэма
Дьякон отец Михаил, в миру Михаил Николаевич Лежлев, совсем еще молодой человек лет 20-25, был послан разведать состояние кладбищ в Тобольской губернии. Откомандировали Лежлева не на казенный счет, а на собственные деньги, затем что происходил он из зажиточной купеческой семьи и располагал достаточными средствами.
Поездка имела серьезные основания.
В вагайский храм, где подвизался на своем поприще отец Михаил, приезжал недавно инспектор от епархиального собрания. Сунул нос во все дела, рассмотрел дотошно каждый угол в церкви, пять или шесть раз прошел вдоль кладбища, потрогал церковную ограду, отчего ветхий забор угрожающе зашатался, и инспектирующий принужден был отпрянуть, опасаясь, как бы тот не обрушился прямо на него.
Произведя осмотр и найдя состояние церковных дел неудовлетворительным, проверяющий долго беседовал с отцом Иоанном, в миру Иваном Даниловичем Дроботеньковым, священником вагайского храма во имя апостола Иоанна (любопытное получилось совпадение), построенного на средства сержанта Абарина еще в 1778 году. Главный вопрос заключался в том, на что пошло 150 рублей казенных денег, выделенных епархией в прошлом, 1881-ом году на обустройство кладбища.
Лежлев не был допущен до беседы, и, соответственно, не мог знать, о чем говорилось. Очутившись совершенно случайно рядом с ризохранилищем, где происходил конфиденциальный разговор, он расслышал только, как инспектор на повышенных тонах говорил что-то о Римской империи, погибшей от роскоши.
– Роскошь и излишества ведут к падению нравов, – восклицал контролер, – а епископ Василий желает, чтобы в нашей епархии все были нравственны.
После разговора отец Иоанн, высокий, худой мужчина с массивной головой, которая из-за узких покатых плеч казалась еще больше, выглядел растерянным, прямоугольное лицо его приобрело страдальческий вид, способный потрясти чувствительного человека до слез.
Он кликнул отца Михаила и голосом хриплым от волнения произнес:
– Ты вот что, отец Михаил… Гм… Постой тут… Это самое, – он не знал с чего начать, мысли скакали у него в голове одна через другую, наконец он кажется собрал их в охапку. – Михаил Николаич, друг любезный. Сделай милость съезди по церквам в губернии, погляди, как там кладбища обустроены.
– Стало быть на что же там смотреть? Известно как оне устроены, как и везде – могилки, да кресты на них…
Отец Иоанн посмотрел куда-то в сторону и потер руки, словно они у него озябли:
– Мороз какой окаянный, мочи на него никакой нет. Сущее бедствие!
– Хуже собаки всякой! – подтвердил Лежлев, переступив с ноги на ногу и ожидая пояснений.
– Господь в наказание посылает, – сказал отец Иоанн, шевеля пальцами и стараясь улыбнуться, – Летом грешим, зимой за грехи расплачиваемся. Ну да Бог с ним с этим морозом. Вот что, поезжай по губернии, – забормотал он, – и погляди, как там кладбища того… Это самое… Ну как тебе сказать. Значит смотри, как там у них все налажено… Как у нас или лучше что ли… А, может, того, хуже? Сам поймешь, в общем, как оно что…
«Вот привел Бог дельце, – думал Лежлев, – Поездка не беда, сиди себе в санях и ехай, беда в том, что непременно упущу чего-нибудь важное. Не доложу об нем, а потом оно и вызнается. Мерзко! Осрамлюсь на весь приход».
– Боюсь, не справиться, отче, – жалобным голосом проговорил он и повернулся, чтобы побыстрее утечь долой.
Но священник простер десницу с перевязанной ладонью – с утра он варил ладан и обжегся – и удержал дьякона.
– Не время теперь в противоречия вступать. Стыд надо иметь, – прикрикнул не него отец Иоанн, но так, беззлобно. – Тут серьезное происшествие. Инспектор из епархии, вишь, считает, что казенные деньги небрежно нами растрачены, – он сделал ударение на слове «нами». – Все это, конечно, чепуха. Это, должно быть, нас оговорили. Нет за нами такой вины, которая бы заслуживала внимания властей. И деньги потрачены на дело, а не то, что это самое…
– А меня-то за что? – спросил Лежлев, все еще надеясь уклониться.
– А за то. Одному мне что ли за всех отдуваться? Да и нет времени разговоры разговаривать. – тут он неожиданно перешел на «вы», хотя доселе все время тыкал отцу Михаилу. – Знаю, что вы сочувствуете всяким благородным начинаниям и деяниям и будете содействовать оправданию нашего прихода в глазах начальства не словом только, но и самым делом. А потому не медлите доле и поезжайте. Вы молоды, сильны и здоровы, и деньги у вас на дорогу есть, была бы охота.
Спорить с отцом Иоанном было невозможно. На всякое возражение у него готов был весомый аргумент.
Деньги у Лежлева действительно имелись, правда, это были деньги не его, а его матери – Лукерьи Ильиничны Лежлевой, в девичестве Бутряковой. Лукерья Ильинична была женщиной деловой и сама заправляла сетью рыбных лавок, где продавались лещи, судаки и налимы, выловленные в Иртыше. Супруг ее Николай Петрович выполнял исключительно декоративную миссию, торговое предприятие было записано на его имя, на чем его участие в деле кончалось.
Поездку по кладбищенской надобности Лукерья Ильинична посчитала делом богоугодным, поэтому выдала отцу Михаилу, бывшему старшим ребенком в семье, неограниченный беспроцентный кредит, который, впрочем, и кредитом-то нельзя назвать. Пожалуй, назовем его финансированием.
Отправиться в командировку à l'impromptu, то есть без предварительной подготовки Лежлев не захотел. И решил, во-первых, перечитать все брошюры из читальни церковно-приходской школы, касающиеся устройства кладбищ, дабы выяснить, как вообще дóлжно вести подобные дела. Таковая брошюра оказалась одна-единственная, да и то была написана совсем на другую тему. Слово «кладбище» было употреблено в содержании, отчего Лежлев и соблазнился на чтение. Однако, в тексте брошюры автор к кладбищенскому предмету не возвращался, уточнив только, что это места, где хоронят мертвых. И, во-вторых, расспросить еще раз протодьякона, отца Иоанна, чьим посланником ему вскоре предстояло сделаться.
Отец Иоанн поведал ему, что с незапамятных времен на Руси места упокоения дорогих и любимых родичей считались священными. Могилы наши предки выдалбливали в пещерах, позже завели обычай хоронить покойников, закапывая их в землю рядом с жилищем. Над усопшими ставили часовенки или памятники разнообразных форм и размеров, разбивали цветочные клумбы, сажали деревья.
Обыватели на пасхальной неделе, а иные еще и после нее по традиции устремляются на кладбища, на могилы родных и близких.
– Ибо церковью намеренно установлены, – вещал отец Иоанн, довольный, что уговорил-таки Лежлева на поездку, – дни для поминовения умерших в том самом месте, где они упокоены, а именно: вторник Фоминой недели, семик, оный же четверг перед Троицей и троицкая суббота.
Лежлев с восхищением слушал протодьякона. Ему всегда было удивительно, какая бездна сведений по древней и новой истории помещалась в голову отца Иоанна. Да что там история! Протодьякон знал наизусть всю Псалтирь и церковный календарь, а также почти всех своих прихожан в лицо и по имени-отчеству. Не память, а бездонная бочка.
– На могилах совершается скромная тризна, – продолжал протодьякон, подрагивая от холода и мысленно переносясь из студеной ризничей – в вагаевской церкви, как читатель успел заметить, самые важные сцены разыгрывались именно в ней – к себе домой, представляя, как в теплой, натопленной горнице напьется горячего чаю, – посему местности, отведенные для кладбищ, надлежит содержать в порядке, а нарушение этого порядка полагать святотатством.
Лежлев кивнул. В последнее время обыватели слишком часто забывают патриархальные понятия, равнодушие взяло верх, с презрением относятся они теперь к священной памяти тех, кто отошед в мир иной. Не редкость на городских кладбищах поломанные кресты и разбитые памятники, сорванные образки и цветы лежат на земле вперемежку с нечистотами всякого рода.
– Разве полиция не должна ловить нарушителей? – робко вопросил отец Михаил.
Протодьякон недоуменно несколько раз кивнул головой.
– Око закона не зрит в обители мертвых, а могильщики и сторожа не всегда имеют возможность усмотреть за сохранением чистоты и порядка. Да то в городах! В малолюдных селищах иной раз и сторожей-то нет… А почему их нет? Гм, вот вопрос!
– Заборы-с еще порядок внутри сохраняют, некоторым образом. Или стены…
– Ну да, заборы… Понятно, что сохраняют… Кто же спорит? Без забора нельзя, да нешто у нас забора нет? Есть! Я и проверяющему говорил, что забор есть, а он говорит, такой у вас, мол, забор, что все равно, что нет… И как ему втолковать?
Отец Иоанн ругнул епархиального инспектора и задумался.
Вспомнил он, как прошлым летом, на следующий день как похоронили подпоручика Цугундерова, умершего, по словам его друга и собутыльника Вани Дядьева от солнечного удара, а на самом деле от паленой водки, на кладбище разбойным образом проникло стадо коз, принадлежавшее жившему по соседству фельдшеру Егорову. Животные нашли в ограде слабое место и не иначе как наущению Сатанаила направились прямиком к свежей могиле, сожрали лежавшие на ней два венка, не тронув ленты, разворошили земляной холм, после чего возлегли меж крестов, пока их не разогнал Ваня Дядьев, пришедший помянуть друга.
Изгоняя коз, Дядьев нечаянным образом повредил мраморное надгробие помещицы Благовидовой, из-за чего родственники усопшей жаловались на него и на приходского священника в городскую думу.
– Забора у нас нет, ишь – продолжал ворчать отец Иоанн. – А если и нет, так что ж теперь нас за это анафеме предать? А в других местах как? Будто во всей епархии в одном Вагае порядку нет. Позвольте! А мы вам докажем, что есть, есть порядок. То есть нет порядку везде…
Отец Иоанн кипятился и оттого речи его становились все более и более расплывчатыми. Лежлеву деваться было некуда, поэтому он приклонял ухо и самым сочувственным образом кивал головою.
Выслушав последние наставления отца Иоанна, получив благословение и узелок с провизией, собранный матушкой Пелагеей, супругой протодьякона, отец Михаил, перекрестясь и присев на дорожку, отправился в Тобольск. Ехал на перекладных, ночевал на постоялых дворах.
В одном месте к нему было пристали, чтобы совершил отпевание крестьянина, замерзшего в дороге. Лошадь, благодаря, видно, тому, что была упитанной – хозяин хорошо о ней заботился, каким-то чудом вывезла его к постоялому двору. Мужик сидел на козлах, держа в руках поводья, совсем мертвый. Блаженная улыбка кривила губы, голова склонилась набок, лицо и одежду покрывал густой сахарный иней.
Лежлев долго и проникновенно объяснял гражданам, что совершать таинства не имеет права, но те объяснений не слушали и стояли на своем. Особенно наседали двое: муж и жена, молодые крестьяне, ехавшие торговать солониной.
«Вот лишний пример того, что молодому поколению недостает нравственного чувства веры и долга, – думал про себя отец Михаил. – Сегодня они дьякона отпевать заставят, завтра могилы родственников оставят без присмотра, а послезавтра, не дай Бог, таинство крещения отринут».
Диспут относительно мертвеца был прерван судебным приставом, который при начале спора не присутствовал, поскольку только что приехал. Широко распахнув дверь и напустив в избу ледяного воздуха, пристав, разобравшись в деле, постановил не попрекать дьякона замерзшим покойником, ибо к исполнению сего обряда прав он не имеет, а значит, отказываясь отпевать, поступает по закону.
В Тобольск Лежлев приехал после обеда, когда низкое зимнее солнце зажгло железные крыши домов и маковицу церкви Святой Софии, на шее которой, согласно описанию, помещенному в Тобольских епархиальных ведомостях, изображены были в полный ее, этой шеи рост – Христос с двенадцатью апостолами. Остановился в гостинице, в самом дешевом номере с оконцем, выходившем на узкий внутренний дворик. Из-за скудного света, а может потому, что так оно и было на самом деле, комната казалась чистой и без тараканов.
На следующий день отец Михаил отправился на кладбище.
Кладбище в губернском городе Тобольске имелось одно для всех христианских исповеданий. На нем хоронили и православных, и схизматиков без разбору, предпохоронные таинства, однако, совершались исключительно по греческому канону. Располагалось оно вне городской черты, почти за двести пятьдесят сажен от жилых мест, рядом со слободой, или, как стали сейчас выражаться, смежной с городом Завальною деревней.
Подошед к кладбищу, Лежлев увидел каменную церковь, а рядом с нею деревянный двухэтажный дом, в котором, как он рассудил, должны были жительствовать священнослужители. И не ошибся.
В проводники к нему вызвался некий отец Назарий, такой же как и он дьякон.
По дороге к погосту отец Назарий, небольшого роста худой брюнет, лет двадцати пяти с чахоточным лицом и водянистыми глазами рассказал, что дом для клира построен год назад на пожертвования мирян. Прибавил еще, что в этом году померзла тьма-тьмущая народу. Про то, приходил ли к ним инспектор из епархии, не помнил. Может был, а может не был, Назарий за ними не следил.
В двух шагах от дома имелось еще одно здание, такое же деревянное, но только в один этаж, выстроенное на столбах и обшитое снаружи и снутри тесом. Рядом с ним стоял хлебный амбар, в котором кроме хлеба наверняка был и овес, и сено и другие разные припасы. Тобольские попы жили в довольстве. Известное дело, губерния.
– Это для могильщиков. Здание старинное, без лишка восемьдесят лет тут стоит, – пояснил Назарий, указывая рукой на тесовый дом.
Чуть поодаль шумел густой дикий лес, ветер тоскливо пел в сосновых кронах, снежные вихри крутились под ногами.
У ворот погоста поставлена была караульная.
Глубокий ров опоясывал тобольское кладбище. О глубине его можно было судить по высоте снежного покрова. Кругом вздымались сугробы и только на месте рва снег лежал вровень с дорогой. С южной и восточной стороны кладбища надо рвом был насажен палисад, обнесенный частоколом и земляным валом, оставшимся здесь вероятно с легендарных времен покорения Сибири.
Зимнее царство продолжалось за воротами. Снег устилал кладбище ровным пологом, прикрывая могилы, каменные надгробия, дорожки. Кое-где торчали кресты, покрытые клочьями снега. Белизна сугробов слепила глаза, морозный ветер схватывал дыхание. Скрипели сосны.
На протертой валенками тропе лежал гнилой сосновый лес, еловые ветки, хвоя, трепались лепестки от ярких бумажных цветов. В одном месте валялась выцветшая фотокарточка веснушчатого молодого человека с оттопыренными ушами и испуганными глазами.
Отец Назарий упомянул, что в 1872 года кладбище разбито на участки, обозначенные столбами, но к нынешнему времени мало какие из этих столбов сохранились. Разделили кладбище на участки не просто так, а ввиду взимания платы.
– Чем ближе к церковному зданию, – объяснял Назарий, – тем земля дороже. У церковной стены – 5 рублей, а рядом с земляным валом, там 30 копеек.
– А коли нет ни копья? – поинтересовался Лежлев.
– И так похоронят. Совсем бедные пользуются землею бесплатно.
Отец Назарий кивнул головой и задумался. В Тобольске многих хоронят на казенный счет. Особенно в эту зиму. Глядя себе под ноги бессмысленным удивленным взором, вел он Лежлева. Ему хотелось показать гостю знаменитые могилы.
Надгробия из чугуна и мрамора поставлены были на могилах генеральши Трескиной, декабристов Вольфа и Муравьева, того самого, брата которого повесили в крепости в Петербурге. Да, говорят, повесили не за один присест, а со второго раза только. Веревка гнилая оборвалась, и повешенные попадали на землю. Поломались сильно, кровь у иных пошла. Тут по обычаю следовало помиловать. Издавна так заведено, но царь-император обычаев народных, видать, не знал, а, может, побоялся оставлять в живых заговорщиков-то, ну, как они опять бунтовать начнут, и велел сызнова вешать.
Некоторое время дьяконы говорили о декабристах. Каждый изложил свою версию причин событий на Сенатской площади. Назарий полагал, что декабристы, мятежники и благородные страдальцы, поплатились за свободолюбие и верность слову. Порешили народ освободить, и дело свое вели до конца. Лежлев был уверен, что те стали жертвами интриг и клеветы, кто-то внутри их круга предал, и восстания не получилось.
Проговорив мнения, пошли по зимней тропинке дальше.
Деревья гудели, словно кто-то невидимый дудел в трубу. Звук глох, отражаясь от снежных стогов. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя; то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя», – слышит отец Михаил внутри себя знакомые строчки. Их намела метель.
Надгробные плиты на семейных могилах Неволиных и Меньшиковых, по мнению тобольского дьякона, тоже заслуживали всяческого внимания. Назарий показал их Лежлеву: встал поближе к мрамору, смахнул снег, большим пальцем рукавицы протер золотые буквы с датами жизни и смерти.
Медленно ступая, прошли в архиерейскую рощу. Там мраморные белые мавзолеи стояли над могилою статского советника Амвросова и других лиц, нашедших пять рублей на погребение. Церковь высилась в двух шагах от них, внушительным видом своим свидетельствуя об оказанной покойникам чести.
Из мавзолеев один амвросовский не тронут был рукою времени. Остальные давно утратили первоначальный роскошный вид свой и стояли разрушенные, с отколотыми углами, треснувшие посередине, некоторые с провалившимися дверями и крышей, немым укором провожая шедших мимо них людей.
Что же до чистоты и порядка, за выяснением которых был послан по городам и весям отец Михаил, то таковыми тобольское кладбище похвастаться не могло. Памятники стояли полуразбиты, живые цветы, растущие на могилах и увядшие на зиму, кое-где были выдернуты с корнем, дощатый настил, ограждавший посетителей в теплое время года от скользкой вонючей грязи, сгнил во многих местах, превратившись в труху. Сейчас труха замерзла, но к апрелю она растает и ходить по кладбищу кроме как в сапогах станет невозможно.
Обойдя тобольский некрополь и потолковав напоследок с отцом Назарием о делах церковных, Лежлев вернулся в город, поел горячих щей в трактире, напился чаю и на следующий день направил стопы в город Тюмень.
Путь до Тюмени отнял у него десять дней. Дорога была гнуснейшая, исправляли дело только красивые пейзажи. В дороге особых приключений не было, если не считать один случай, когда навстречу саням, в которых ехал отец Михаил, выползла подвода с сеном. Проселок перемело снегом, заграждение из сучьев и драни, кои обязаны были устанавливать по дорогам станционные смотрители, дабы путь не заносило, было не везде.
На узкой зимней дороге, меж высоким сугробом с одной стороны и снежной обочиной с другой, разъехаться встречным было непросто.
Возница отца Федора, на санях которого, помимо дьякона было еще две бабы, ехавшие до соседней деревни по своей какой-то надобности, упирал на то, что везет лицо церковное, а следовательно имеет преимущество в проезде. Мужик возражал, что если б, скажем, его оппонент вез барина или старшину, на худой конец писаря, то и разговору не было, он бы уступил, а так получается евойные сани против груженой подводы.
Решили метать жребий, кому съезжать на обочину и уступать дорогу. Обочина – дело рисковое, завязнешь в снегу, долгонько будешь оттуда выбираться. Если лошадка малосильная, быстро встанет в тупик.
Выпало съезжать мужику с сеном. Он долго сыпал матерными словами, клял и михайлового возницу, и баб, которые за каким-то чертом едут в такой мороз. Но делать было нечего.
Мужик взял лошадь под уздцы и повел на кромку. Скотина упиралась, словно недоумевая, куда ее тащат, но в конце концов ступила и тут же провалилась по самое брюхо. Возок с сеном от этого маневра накренился, но устоял. У мужика, расстроенного такой оказией из глаз натурально брызнули слезы.
Возница аккуратно объехал наполовину поваленный воз и взмахнув кнутом погнал казенную лошадь дальше.
Оглянувшись назад, отец Михаил увидел мужика тянущего за повод лошадь. Она вскидывала длинную морду из ноздрей ее валил пар. Вскоре эта печальная картина скрылась за снежным туманом.
В городе Тюмени имелось три православных кладбища. Так называемое городское было расположено в двадцати саженях от жилья. Над ним господствовала каменная церковь, построенная полстолетия назад на средства титулярного советника Воронцова, а кроме этого стояла изба для сбора провожающих в последний путь и покой для хранения мертвых тел.
Безобразный серый забор, мало чем отличавшийся от вагайского, опоясывал кладбище, осмотром которого отец Михаил занимался в городом одиночестве. Желающих сопровождать его не нашлось, а сам он не решился просить об этом священника, который, сообщив ему сведения о возрасте и постройке церкви, тут же куда-то исчез.
Затюменское кладбище, так называли его коренные жители, отстояло от города на двести пятьдесят сажен. Рядом с ним стояла каменная часовня и караульная изба, и ни одной живой души вокруг. Выкопанный вокруг кладбища ров был завален снегом. Ворота тоже замело и отцу Михаилу пришлось повозиться, прежде чем открыть их.