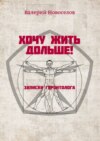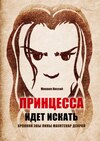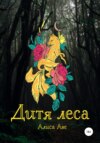Читать книгу: «Невидимый туман. Истории о настоящих преступлениях»
Моему брату Илье и моей подруге Насте (тем двоим, кто не дает мне сбиться с пути критического мышления)
художник-иллюстратор Антон Старосельский
Корректор Марина Тюлькина
Редактор Юлия Соколова
© Тимофеевна, 2025
ISBN 978-5-0065-8644-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Прежде чем начать знакомиться с историями, нам надо продраться через густой лес обязательной скукотищи. Поехали!
В этой книге собраны истории, основанные на реальных событиях, такие сюжеты принято относить к жанру тру-крайм (true crime). Из уважения к участникам событий и для повышения художественной привлекательности книги некоторые имена действующих лиц и детали сюжета были изменены. Изменения не коснулись ключевых деталей дел.
Прототипами для котов-детективов послужили мои домашние коты Котябрь, Чаплин и Плотва. Если уважаемый читатель смотрел видео в моем блоге, то эти коты ему знакомы. Чаплина легко отличить по полосатому окрасу, Котября – по усам Пуаро, а Плотву – по бестолковой морде. Почему в книге про тру-крайм вдруг появились коты? Ну, во-первых, коты – прирожденные убийцы (ученые доказали, что часть своей добычи они убивают просто так, ради веселья). То есть, кому как ни котам понимать Modus operandi (образ действия) преступника :-) Во-вторых, коты чрезвычайно наблюдательны, умны и энергичны. В-третьих, идеальная команда детективов всегда состоит из мозга, мускул и придурковатого стажера. Я как хозяйка котов могу вас заверить: Котябрю, Чаплину и Плотве к этим ролям не привыкать.

Что такое невидимый туман?
Невидимый туман – это метафора, которая шифрует когнитивные искажения, окутывающие нас, как только мы примеряем на себя роль диванных детективов и беремся за расследование. Сразу скажу, что автор книги ни в коем случае не уверяет вас, что он от этих искажений застрахован. Напротив, я вместе с вами, дорогой читатель, готова пуститься в приключение и пройти сквозь полосу невидимого тумана, чтобы попытаться обнаружить указание на истину. Я предлагаю вам свою руку и партнерство в этом интересном и полном опасностей путешествии.
В отличие от обычного метеорологического тумана, наш туман – особый, он зачастую маскируется под звенящую ясность ума и иллюзию знания (потому и невидимый!). И вот так наши когнитивные искажения оказываются для нас в слепой зоне, в тумане, границы которого мы не опознаем.
Чтобы не поддаваться воздействию тумана, будем себя постоянно спрашивать: не слишком ли я усложняю? Не слишком ли я обобщаю? Не поддаюсь ли я соблазну поверить в очевидную версию?

Безымянная могила
Что может быть загадочнее, чем пропавший без вести? Тот, кто появился непонятно откуда! Удивительное дело – человек есть, а его биографии нет. Истории про людей без прошлого собраны в этом разделе. Личности кого-то из наших незнакомцев установлены, однако к разгадке дела это зачастую не приближает.
Фрау Неизвестная
«Ну наконец-то я от них отвязалась. Теперь-то можно стать собой. Как хорошо! Как легко и просто!» – она укрылась пустым накрахмаленным пододеяльником до самых бровей и вдохнула приятный запах чистого постельного белья. Наконец, она в безопасности, ее кормят, за ней ухаживают. Сейчас только одно нарушает ее покой – это назойливое внимание молодого доктора с гладко выбритыми щеками. Каждое утро он, скрипя табуреткой, подсаживается к ее койке поближе, берет ее запястье своей прохладной и сухой рукой, наклоняется над ее лицом и, заглядывая ей в глаза, спрашивает почти безразлично, как будто ответ ему не очень-то интересен: «Фрау, как вас зовут?»
Лечебница для душевнобольных
Доктор Шольц любил свою работу. Среди происходящего кругом ужаса психиатрическая больница казалась прибежищем спокойствия, умиротворения и порядка. Каждая минута доктора Шольца была расписана и строго отведена под определенное действие. Ему нравилось исполнять расписание изо дня в день, в этом было его счастье. Единственное, что немного портило удовольствие от работы – это странноватая молчаливая немка, которую доставили сюда пару недель назад. А может и не немка… Медсестры слышали, как она говорит по-немецки с акцентом и определили ее как польку или русскую. В общем, славянку. Полицейские выловили эту женщину из воды реки Хафель, она что-то бормотала про опозоренную честь, про бессердечных родственников и рвалась назад в воду. Однако ее насильно вытащили, отряхнули, обернули пледом и доставили в полицейский участок, где переодели в сухое. А когда поняли, что она не в себе, отправили в больницу.
В этой истощенной до предела женщине (при росте 170 см в ней было не более 45 килограммов) доктор Шольц углядел что-то беспокоящее и неприятное. При первом осмотре он поставил ей депрессивное расстройство. Немудрено диагностировать депрессию у того, кто совсем недавно пытался утопиться в реке.

Бо́льшую часть времени пациентка лежала на кровати, уткнувшись в стену. Поначалу она отказывалась от еды, и, только услышав угрозы, что ее будут кормить насильно, принималась с выражением отвращения ковырять вилкой больничную рисовую кашу. Ела она, не вставая с койки. После первой отправленной в рот порции она вся замирала, прислушиваясь к собственному телу. Так рачительная хозяйка пробует готовящееся блюдо на соль и перец. Но эту женщину соль не интересовала, она пыталась понять, не отравлена ли еда. Одобрив первый кусок, она торопливо заканчивала всю тарелку. Но и это было не единственной странностью. Обладающий чрезвычайной наблюдательностью доктор Шольц сразу понял, что незнакомка происходит из высших слоев общества, он был почти уверен, что она аристократка. Даже будучи очень голодной, она никогда не дула на ложку горячего супа, чтобы его остудить. Также осторожно она прикасалась к теплому какао, пробуя его температуру верхней губой, и отставляла кружку, если питье было слишком горячим.
Но если неизвестная происходит из какой-то знати, почему ее не ищут? Полиция регулярно передавала списки пропавших без вести, но ни в одной сводке приметы этой молодой женщины не значились. Шольц, скорее из любопытства, чем из милосердия к пациентке просматривал эти сводки, ему очень хотелось, чтобы однажды под крышей лечебницы появились ее родственники, и он бы, наконец, узнал, кто она такая. А главное, сбыл ее с рук. Уж аристократы найдут силы и средства ухаживать за душевнобольной.
Сама неизвестная этой встрече бы не обрадовалась – в этом доктор Шольц был совершенно уверен. Она проявляла яркие признаки паранойи. Имела привычку пугливо озираться во время прогулок по больничному парку, вздрагивала от малейшего шума и вглядывалась в лица посетителей с явным ужасом. Она боялась, что ее разыщут, за ней придут, вытряхнут из накрахмаленной кровати и уведут в какие-нибудь мрачные застенки. Но кто ее может разыскивать? Полиция? Нет, полицейские проявляли к фрау до неприличия мало интереса и, кажется, испытали облегчение, когда отделались от несостоявшейся утопленницы. Тогда кто бы мог ее преследовать?
Если у этой маленькой женщины и были враги, то они уже нанесли ей достаточно вреда. Все тело фрау Неизвестной (так ее обозначали в больничных документах) было отмечено следами тяжелых увечий. Пару лет назад она перенесла серьезную черепно-мозговую травму, кости неправильно срослись и за ухом прощупывалась вмятина. На шее сзади остался звездообразный шрам, вся грудная клетка и спина были покрыты шрамами от пуль или шрапнели. Передние зубы она потеряла, а ее левую руку поразил костный туберкулез.
Если бы доктор Шольц знал, что его заботам поручена женщина, которая совсем скоро станет одной из самых известных молодых особ Европы, он бы очень удивился. Кому нужна эта тощая калека? А ведь ее загадка будет разгадана уже в веке двадцать первом. Доктор Шольц так и не доживет до ответа на вопрос «Кто она, черт возьми, такая?»
Пластилин и кости
– Да, вот это замечательно! Это совершенно замечательно!
На профессора глядело пластилиновое лицо: губы сомкнуты, брови сведены к переносице, лоб изрезан морщинами. Профессор взял стек и едва прикоснулся к правому уху скульптуры.
– Вот так он и выглядел! Теперь этот портрет будут тиражировать в школьных учебниках, в энциклопедиях, исторических справочниках. Профессор откинул стек на стол и хлопнул в ладоши. Герасимову удалось доработать свою методику до совершенства, теперь многочисленным неопознанным костям вернут очертания, которые они имели при жизни. А белоснежные гипсовые черепа, слой за слоем, обрастут пластилином и превратятся в лица.
Профессор отступил на пару шагов от скульптуры и придирчиво оглядел ее. Скульптура получилась такой живой, что лаборантки, ловя на себе взгляд этих суровых глаз, вздрагивали. Герасимов не без удовольствия подумал: ему не только удалось восстановить внешность, но и вдохнуть в пластилин частичку личности Ивана Грозного. Даже если не знать, чей это портрет, по его чертам сразу угадаешь человека с непростым характером.
Методику профессора Михаила Герасимова сейчас используют по всему миру для того, чтобы восстанавливать внешность по костям черепа. Удивительно, но Герасимов не был ни художником, ни патологоанатомом (компетенции, казалось бы, необходимые для того, чтобы возиться с костными останками). Методику, которая потом оказалась так востребована криминалистами, разработал доктор исторических наук. Движимый научным любопытством историка, Герасимов стремился узнать, как на самом деле выглядели Иван Грозный, Тамерлан, Ярослав Мудрый.
На какое-то время Герасимову пришлось погрузиться в изучение анатомии и поработать в морге. Он разглядывал спилы черепов, чтобы понять закономерность – как толщина тканей лица зависит от тех костей, к которым прикреплены эти ткани.
Герасимов определил, что толщина мягких тканей на определенных костях черепа у разных людей примерно одинакова. Это значит, что скульптурный портрет человека, вылепленный по его костям, будет довольно точно отражать внешность. Первым этапом работы Гарасимов изготавливал гипсовую копию черепа, устанавливал на ней в реперных точках колышки с указанием толщин мышц и наносил пластилин. Слой за слоем, на гипс наращивались «мягкие ткани», сначала хрящевая ткань, потом мышцы, потом кожа. Так лицо обретало реалистичный облик, превращаясь в скульптурный портрет человека.
Критики метода Герасимова поначалу утверждали, что профессор работает как скульптор, старается вылепить лицо по воображаемому образу и его метод ненаучен. Да и как проверить, соответствует ли пластилиновый портрет Ивана Грозного реальной внешности царя? Ведь во времена Грозного фотоаппарат еще не изобрели, прижизненный портрет государя был выполнен в довольно условной манере, посмертной маски царя не осталось…
Точку в этом споре поставили эксперты-криминалисты, которым Герасимов помогал раскрывать убийства. Летом 1940 года в лесополосе нашли женские кости. По скелету определили лишь возраст женщины, а как она выглядела, когда была жива, оставалось только догадываться. Личность погибшей установить не удалось.
Герасимов решил помочь милиционерам и взялся реконструировать лицо убитой по ее черепу. Получившийся скульптурный портрет сравнили с фотографиями недавно пропавших женщин, подходящих по возрасту, и обнаружили сходство с одним снимком. Оказалось, что убитую звали Валентина Косова. Вскоре ее убийца во всем признался. Естественно, когда Герасимов лепил портрет, ни одного прижизненного снимка Косовой он не видел и просто не мог подгонять скульптуру под фото, чтобы добиться сходства.
Когда в 1991 году, в окрестностях Екатеринбурга, из Ганиной ямы извлекут девять скелетов, профессора Герасимова уже не будет в живых. Однако метод, который он разработал, поможет установить, что эти останки принадлежат Николаю II, его жене Александре Федоровне, их троим детям, двум лейб-медикам, камердинеру и горничной царской семьи.
Но где же еще два скелета, которые должны были лежать вместе с остальными? Неужели одна из дочерей царя и наследник престола, цесаревич Алексей, выжили?
«Я позабыла всякую осторожность»
Пациентку клиники для душевнобольных в Берлине никто не искал. В списках пропавших без вести фрау с такими приметами не значилась, получается, ее друзья и родственники, если они были, в полицию не заявили. Фрау Неизвестная (теперь уже это имя стало именем собственным) была так пуглива и подозрительна, так недоверчива, что вытянуть из нее хоть какие-то подробности ее жизни оказалось невозможным. Казалось, что в Берлине она не нужна ни одной живой душе. Только доктор Шольц из Дальдорфской клиники проявлял навязчивый интерес к фрау, расспрашивал, что она помнит о своем прошлом, допытывался, не видит ли она галлюцинаций. Иногда она просто отворачивалась лицом к стене, делая вид, что не слышит или не понимает его вопросов.
Шольц был уверен, что у больной нет амнезии. Позже доктор предположил, что страх преследования, который выражает фрау Неизвестная, – вовсе никакая не паранойя, а страх, основанный на опыте. Могло ли это означать, что за ней действительно кто-то гнался? Возможно, она была польской шпионкой?
Так бы и лежала эта женщина на койке психиатрической лечебницы, уткнувшись в стену, если бы рядом с ней не начала крутиться другая пациентка – Мария (в некоторых источниках – Клара) Пойтерт. Как и Шольц, фрау Пойтерт сразу заподозрила, что с этой маленькой калекой что-то неладно, она долго вглядывалась в тревожное лицо Неизвестной, пока не поняла, что отчетливо узнает эту женщину.
– Вы Татьяна! Русская княжна, дочь Николая II, – изрекла однажды Пойтерт торжественно. Фрау Неизвестная заплакала.
Мария Пойтерт когда-то давно работала портнихой. Свои молодые годы она провела в России, где добилась невероятных карьерных высот: обшивала фрейлин при дворе императора. Кому как не фрейлинам знать, что происходит во дворце, чем живет монаршая семья. И нездоровая одержимость этой семьей овладела фрау Пойтерт. Она собирала журналы, открытки, газетные вырезки – всё, что, так или иначе, касалось жизни Романовых в России. Часами она разглядывала фотографии императрицы Александры Федоровны и ее дочерей. Эти лица она знала в мельчайших деталях, хоть и не видела ни одного из них вживую.
Один Господь да психиатры знали, почему Мария Пойтерт оказалась в Дальдорфской лечебнице, но Мария была уверена, что ее привела сюда сама Судьба. Именно в лечебнице для душевнобольных сбудется мечта Марии: она познакомится и даже подружится с русской великой княжной.
Фрау Неизвестная, выловленная из реки Хафель, и портниха Мария Пойтерт оказались соседками по палате. В тумбочке у Марии лежала целая подборка газетных и журнальных вырезок о жизни русской царской семьи (необходимая вещь для того, чтобы скрашивать быт в психбольнице). Вся Европа тогда полнилась слухами о том, что одна из дочерей Николая спаслась во время расстрела и ей удалось бежать. Где же укрываться от преследования большевиков, как не за границей и не в лечебнице? Мария сложила два и два: вот почему ее соседка наотрез отказывается говорить, кто она такая, вот почему на ее теле множество шрамов и увечий, и вот почему она разговаривает с отчетливым славянским акцентом. Это не кто иная, как великая княжна!
Неизвестная отнеслась к навязчивому вниманию Марии Пойтерт настороженно: не согласилась, что она дочь русского царя, но и не отрицала. А позже все-таки решилась открыть своей соседке тайну – она не Татьяна, а Анастасия, младшая дочь Николая.
Пойтерт поняла, что настал ее звездный час: она «открыла» спасшуюся великую княжну. Теперь дело за малым: добиться того, чтобы Анастасию признали разбросанные по Европе члены семьи Романовых. Выписавшись из лечебницы, Мария встречается с бывшим капитаном императорского кирасирского полка Швабе и уговаривает его взглянуть на «великую княжну». Швабе соглашается посетить пациентку психбольницы.
Вот что потом напишет об этой встрече фрау Неизвестная:
«…Кто-то из русских эмигрантов принёс мне портрет бабушки. Это было в первый раз, когда я позабыла всякую осторожность, увидев фотографию, я вскричала: «Это моя бабушка!»
Швабе действительно принес с собой портрет Марии Федоровны, матери Николая II, но, по его воспоминаниям, Неизвестная не узнала женщины, изображенной на фотографии.
Встреча с «Анастасией» оставила Швабе в сомнениях, он склонялся к версии, что та самозванка. Однако по Европе уже поползли слухи: одна из великих русских княжон жива!
Следующая попытка опознания была предпринята в марте 1922 года, к фрау Неизвестной пришла бывшая фрейлина императрицы Александры Федоровны, баронесса София Буксгевден. На ее свидетельство возлагали большие надежды, ведь она видела семью Николая за полтора месяца до расстрела.
На этой встрече присутствовала Мария Пойтерт, и она изо всех сил старалась, чтобы Неизвестная была опознана как дочь царя. Мария совала бедной больной в руки фотографию Александры Федоровны и требовала: «Скажи, ведь это мама?»
Баронесса Буксгевден не поддается эмоциям и почти сразу понимает, что перед ней незнакомый человек, вот что она напишет после этой встречи: «Лоб и глаза её напомнили мне великую княжну Татьяну Николаевну, но стоило увидеть всё лицо, чтобы сходство перестало казаться столь разительным (…)
Позже я узнала, что она выдает себя за Анастасию, но в ней нет абсолютно никакого внешнего сходства с великой княжной, никаких особенных черт, которые позволили бы всякому, близко знавшему Анастасию, убедиться в истинности её слов (…)
Кстати, замечу, что великая княжна Анастасия едва ли знала с десяток немецких слов и выговаривала их с неимоверным русским акцентом».
Позже баронесса станет одним из самых активных членов «партии» противников фрау Неизвестной. Она будет бороться с самозванкой всю свою жизнь. Но самозванка ли это?
Как она спаслась от расстрела
С тех пор как в 1922 году истощенная калека из Дальдорфской лечебницы призналась, что она великая княжна Анастасия Романова, армия ее сторонников, как и армия противников постоянно пополнялась. Кем бы ни была эта женщина, приковывать к себе внимание она умела. В ее окружении не было безразличных к ней людей: либо абсолютно уверенные, что она великая княжна, либо готовые стереть самозванку в порошок.
Из больницы фрау Неизвестную забирает чета баронов фон Кляйстов. То, что барон и баронесса видят воочию, не соответствует сложившемуся у них образу пухленькой розовощекой Анастасии. Изувеченная, с выбитыми зубами (привычка прикрывать рот платком останется у нее на всю жизнь), пугливая девушка ни капли не похожа на фотопортреты великой княжны. Однако Мария фон Кляйст имеет твердое намерение доказать, что ее протеже – наследница русского престола. В 1922 году надежды на то, что большевистский режим падет и в России произойдет реставрация монархии, еще очень сильны. Фон Кляйсты рассчитывают, что вот тогда уж их облагодетельствуют русские монархисты за то, что они приютили и вылечили единственную прямую наследницу Николая II.
Живя у фон Кляйстов, Неизвестная, по документам, перестает быть неизвестной, ей дают имя Анна, его она будет носить до конца жизни. Дома у фон Кляйстов ее ласково называют Анни.
Итак, Анни проникается доверием к барону и его жене и открывает им историю своего чудесного спасения. В ночь расстрела она не погибла, сестра Татьяна закрыла ее своим телом. Израненную и еле живую, ее спас один из конвоиров царской семьи по фамилии Чайковский. Сейчас установлены имена и фамилии всех, кто участвовал в расстреле Романовых и охранял их в Ипатьевском доме, никакого Чайковского среди них не было. А тогда история кончины последнего русского императора была покрыта мраком, ходили слухи, что в Екатеринбурге расстреляли двойников, а истинной семье царя удалось сбежать.
Анни рассказывает, как Чайковский привез ее к себе домой, там его семья ухаживала за беглянкой, вылечила ее раны, спрятала от преследователей. Конечно, Чайковский влюбился в спасенную, и она родила ему сына. Затем они бежали в Германию через Польшу и там обвенчались. Затем Чайковский погиб при бомбежке, а его родственники и маленький сын Анни куда-то пропали («ребёнка всегда можно будет узнать по белью с императорскими коронами и золотому медальону»).
В Берлине она осталась одна, скиталась по улицам, плакала, опасалась погони. Явиться в полицию не могла, потому что ее бы тут же опознали и выдали большевикам. Оставалось одно – расстаться с этой жизнью. Так Анни и оказалась сначала в реке Хафель, а потом в лечебнице для душевнобольных.
Странная, полная бездоказательных заявлений история. Ничто не мешало Анни придумать весь этот мелодраматичный сюжет. Но и убедительно опровергнуть ее рассказ тогда было невозможно.
Почему ей поверили? Почему именно она почти на сто лет стала для огромного числа людей спасшейся великой княжной? О ней появились книги, документальные фильмы и мини-сериал. Ингрид Бергман сыграла ее роль в кино, «Дисней» воплотил ее историю.
После расстрела Романовых то там, то здесь, в Европе и России появлялись «спасшиеся наследники». Особенной популярностью среди самозванцев пользовались младшие дети Николая. По Европе гастролировало больше десятка лже-Анастасий, в Омске, под покровительством «преданных людей», скрывался лже-Алексей. Но самозванцев быстро разоблачали, и только Анне Чайковской удалось до своей кончины быть потенциальной великой княжной.
Как Анни убеждала своих сторонников, что она дочь русского царя, одному Богу известно. Одно можно точно сказать, ее талант привлекать людей на свою сторону, находить и удерживать возле себя рьяных сторонников ее тождества с Анастасией, просто не поддается рациональному объяснению. Она вызывала жалость и сочувствие, за нее боролись, терпели ее капризы, на ее содержание тратили деньги. Ничего нарочито искусственного эта женщина не делала, она не была хорошей актрисой. Всю жизнь она выполняла прекрасно известное ей дело – оставалась самой собой.
Одной из ее верных сторонниц на многие годы станет Гарриет фон Ратлеф, прибалтийская немка по происхождению, писательница и скульптор. Она приютит у себя Анну в Берлине и займется доказательством чудесного спасения великой княжны. Фрау фон Ратлеф будет терпеть исключительно дурной характер своей подопечной и никому ни разу не пожалуется.
Будучи не в настроении, Анна становилась невыносимой. Она швыряла в лицо благодетельнице грязные чулки и требовала, чтобы та немедленно их выстирала. Однажды во время морского путешествия Анна отказалась жить в одной каюте с Гарриет, потому что особа царских кровей, видите ли, не привыкла делить комнату с прислугой.
Тем не менее, Гарриет продолжает содержать, лечить и нянчить Анну. Когда та болеет, фрау фон Ратлеф неотлучно сидит у ее постели, когда «царевна» выздоравливает и показывает свой злой и неблагодарный характер – молча терпит. Гарриет как будто смотрит на Анну через какой-то свой фильтр, она отказывается замечать дикие выходки «царевны». «Она умела быть признательной за доброту и дружбу, которую ей выказывали. От всей её натуры веяло благородством и достоинством, которые притягивали всех, кто знакомился с ней», – так напишет потом об Анне фрау фон Ратлеф. Добавить тут нечего.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе