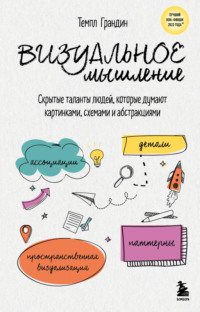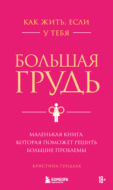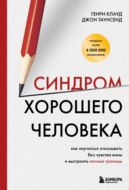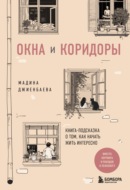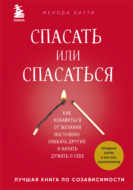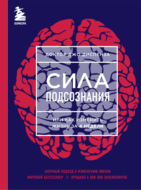Читать книгу: «Визуальное мышление. Скрытые таланты людей, которые думают картинками, схемами и абстракциями», страница 4
Странные миры афантазии
На концах спектра визуального мышления находятся люди, страдающие афантазией и гиперфантазией. Человек с афантазией практически не способен создавать перед мысленным взором зрительные образы. Этот термин впервые был придуман неврологом Адамом Земаном из Эксетерского университета в Англии, когда к нему в кабинет пришел мужчина и заявил, что полностью потерял зрительную память: он больше не может узнавать изображения друзей, семьи, знакомых мест. После того как его спросили, какой зеленый цвет светлее: цвет листа или сосновой иглы, он мог ответить по памяти, но не видел разницы в своем воображении. Его стали называть «М.Х.», и его «ментальная слепота», вероятно, возникла в результате инсульта. До этого момента он мог ярко представлять себе людей и вещи в окружающем его мире. ФМРТ показало, что после того, как его попросили что-то визуализировать, части его мозга, связанные с визуализацией, больше не «загорались».
Используя Анкету яркости зрительных образов (Vividness of Visual Imagery Questionnaire, VVIQ), разработанную в 1973 году (и обновленную в 1995 году) Д. Ф. Марксом, Адам Земан и его коллеги продолжили изучение афантазии, опросив почти семьсот испытуемых. VVIQ состоит из шестнадцати вопросов, которые оценивают ментальные образы, включая память, пространственное мышление и способность визуализировать объекты, находящиеся за пределами прямой видимости, по пятибалльной шкале от 1 (нет изображения) до 5 (яркий, как обычное зрение). В целом у 2 процентов студентов была выявлена афантазия. (Если вам интересно, к какой части спектра вы относитесь, можете пройти тест VVIQ онлайн.)
Исследовательская группа Земана также изучала различия между людьми, страдающими афантазией, и теми, кто впадает в противоположную крайность, с гиперфантазией, переизбытком визуальных образов. Профессор когнитивной нейробиологии Джоэл Пирсон описал это состояние в газете «Нью-Йорк таймс» как «напоминающее очень яркий сон, при этом не ясно, имеет ли он отношение к реальности или нет». Участникам было предложено описать три воображаемых места: красивый тропический пляж, музей и оживленный уличный рынок. Люди с гиперфантазией описывают очень подробные картины.
Дальнейшие исследования с помощью функционального МРТ головного мозга показали, что у людей с гиперфантазией наблюдается повышенная активность между префронтальной корой и «зрительной» затылочной корой. В статье Карла Циммера в газете «Нью-Йорк таймс», озаглавленной «Многие люди обладают живым „мысленным взором“, а у других его вообще нет», описывается, как исследователи изучают структуры мозга, ответственные за эти два экстремальных состояния. «На данный момент ученые предполагают, что мысленные образы возникают из сети областей мозга, которые общаются друг с другом», – написал он. Эти характеристики мозга могут быть связаны с творчеством и новыми способами решения проблем.
Неудивительно, что люди с афантазией склонны заниматься естественными науками и математикой, тогда как люди с гиперфантазией тяготеют к творческой работе. Однако, как ни парадоксально, по мнению Земана, люди с афантазией нередко видят образные сны. Он проводит различие между тем, как работает спящий разум, и тем, как работает бодрствующий разум. Исследователь объясняет, что сновидения – это процесс «снизу вверх», который исходит от ствола головного мозга, тогда как видение изображений во время бодрствования происходит «сверху вниз», от коры головного мозга. Другими словами: «Во время бодрствования и во сне в мозге происходят совершенно разные процессы». По данным Земана, 63 процента людей с афантазией видят сны в картинках, и 21 процент видят сны без образов.
Мои сны приходят ко мне так же, как я думаю, яркими цветными фильмами, с небольшим количеством слов. В основном они связаны со страхом или беспокойством по поводу равновесия – например, я нахожусь на крутой крыше, спускаюсь с крутого холма или еду на велосипеде. А еще мне постоянно снится, что я пытаюсь добраться до аэропорта и некое препятствие вынуждает меня опаздывать, например огромная воронка на трассе I-25 (я почти никогда не опаздываю в аэропорт). И, как и многим, мне время от времени снятся сны, в которых я появляюсь голой или частично обнаженной в общественном месте.
Два исследования гиперфантазии посвящены корреляции между гиперреалистичностью образов и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). В некоторых случаях участники боевых действий или жертвы психологической травмы, постоянно воспроизводящие в уме ужасающие картины, сообщают об образах настолько ярких, что верят в реальность мыслей и воспоминаний. По мнению психолога Криса Брюина, воспоминания – это адаптивный механизм, который после того, как опасность миновала, сохраняет информацию до тех пор, пока она не будет обработана. В ходе исследования визуальных образов и ПТСР ученые Ричард Брайант и Эллисон Харви оценивали состояние восьмидесяти одного человека, выжившего в авариях на мотоциклах, и определили, что визуальные образы, включая воспоминания и ночные кошмары, играют центральную роль в ПТСР. Даже что-то гораздо менее травмирующее способно вызывать повторяющиеся зрительные воспоминания.
В статье «Слепой разум» исследователи Ребекка Кио и Джоэл Пирсон из Университета Нового Южного Уэльса показывают, что люди, не думающие картинками, часто полагаются на вербальные стратегии, чтобы вспомнить изображения. Другие ученые заходят так далеко, что утверждают, что люди с афантазией хуже запоминают свое прошлое, поскольку с меньшей вероятностью его визуализируют. Если людей с афантазией просят вспомнить свою гостиную или кабинет, они описывают это место, используя вместо образов слова, указывающие направление движения, такие как вправо, влево, вверх и вниз. Визуализаторы могут сказать, что их кабинет находится через зал от плаката Матисса. Люди с афантазией скажут, что он через три двери направо. Они напоминают мне логопеда, которая слышала звон колоколов, но не могла представить себе шпиль часовни. Ее муж выразил это так: «Камера в ее мозгу выключена».
Когда я вспоминаю детство, у меня возникают ясные живописные воспоминания о спуске со снежной горки на санях или ледянке. Своим мысленным взором я вижу трехмерные изображения и видеоролики, полные сенсорных воспоминаний. Я чувствую, как подо мной подпрыгивает ледянка, летящая вниз по накатанному снегу. В детском саду и первом классе у меня были любимые качели, которые одновременно раскачивались и скользили по подвесному транспортеру. Во время перемены я обожала на них кататься. Пока я об этом пишу, я вижу, слышу и ощущаю этот процесс. В начальной школе мне нравились уроки вышивания. Для рукоделия используются специальные нитки, вышивальный шелк, состоящий из трех нитей. Когда я вспоминаю такие подробности, многие люди спрашивают меня: «Как вы можете все это помнить?» Чтобы проверить себя, я поискала в Google и обнаружила, что все правильно запомнила: нитки для вышивания состоят из трех нитей. Если бы я не «увидела» эти нитки в своем воображении, я бы не смогла вспомнить правильное количество нитей. Я даже чувствую и вижу, как игла протыкает нижнюю часть ткани, образуя крошечную палатку, прежде чем проткнуть ткань, чтобы завершить стежок.
Я очень ценю слова Земана, приведенные в статье Циммера: «Насколько я понимаю, это не расстройство. Это интригующая вариация человеческого опыта».
Преимущества визуального мышления
Я всегда заканчиваю свои выступления как на конференциях по поведению животных, так и на образовательных конференциях ответами на вопросы. Обычно мне задают два типа вопросов: общие и конкретные. На конкретные вопросы, например в каком возрасте я начала говорить, ответить просто. Однако на общие вопросы невозможно ответить без дополнительной информации. Вербализаторы склонны использовать нисходящее мышление, что похоже на поиск в интернете по одному ключевому слову. Всплывает миллион результатов. Чем четче будет формулировка вашего поиска, тем выше вероятность того, что вы найдете то, что ищете. Лоран Моттрон обнаружил, что люди с аутизмом меньше полагаются на вербальные части мозга. Его коллега-исследователь Мишель Доусон страдает расстройством аутистического спектра. Он описывает ее способ мыслить как работающий по принципу «снизу вверх», то есть она выдвигает идеи лишь на основе имеющихся фактов. «В результате ее построения никогда не отрываются от земли и почти всегда безошибочно точны». В противоположность этому он описывает свой нисходящий подход так: «Я улавливаю общие идеи и манипулирую ими из меньшего числа источников, а после выражения их в модели возвращаюсь к фактам, подтверждающим или опровергающим эту мою конструкцию. Объединение двух типов мозга в одной исследовательской группе удивительно продуктивно».
Мое восходящее мышление немного похоже на игру на выбывание из двадцати вопросов, в которую я играла в детстве. К примеру, я воспользуюсь этим методом, если меня спросят о прогнозе для неговорящего ребенка с аутизмом – такой общий вопрос мне часто задают на конференциях родители. Чтобы им помочь, мне требуется конкретная информация; использование процесса исключения позволяет определить для них наилучшие варианты. Я отвечаю, задавая ряд вопросов, чтобы сузить круг возможностей – в данном случае возможные причины отсутствия речи у ребенка. Сначала я спрашиваю возраст ребенка. Обучение неговорящего трехлетнего ребенка коренным образом отличается от попыток сделать то же самое с ребенком старшего возраста. Я пытаюсь выяснить, не страдают ли родители расстройством аутистического спектра, спрашивая, чем они занимаются. Они программисты, исследователи, преподаватели математики? Есть ли в анамнезе члены семьи с аутизмом? Это когда некоторые начинают вспоминать «странного» дядюшку или двоюродного брата с когнитивными проблемами. Я хочу знать, какое образование получает ребенок и какие исследования проводились. Меня интересует, как ребенок ведет себя за столом, способен ли соблюдать очередность в процессе игры, а также задаю и другие вопросы, чтобы понять определенные модели поведения. Я не врач, но с помощью вопросов я формирую образ молчаливого ребенка. Очень важно дать ребенку возможность общаться. Существует множество вариантов, таких как набор текста, доски с картинками, язык жестов и электронные говорящие устройства. Иногда я предлагаю полезное вмешательство. Восходящее мышление помогает мне опираться на факты; аутизм не позволяет эмоциям затуманить мой разум.
Совсем недавно доктор Касия Чаварска и ее коллеги из Йельского центра изучения детей продемонстрировали эффективность использования кукол для общения с детьми с расстройствами аутистического спектра. Их выводы прекрасно проиллюстрированы в документальном фильме 2016 года Life, Animated («Жизнь одушевленная»). В нем трехлетний мальчик Оуэн Зюскинд перестает говорить, и ему ставят диагноз «аутизм». Мы наблюдаем переломный момент, когда его отец понимает, что одержимость сына фильмами Диснея дает возможность до него достучаться. Для общения с сыном отец использует марионетку Яго из «Аладдина»13, и Оуэн впервые отвечает устно. Вместе они начинают разрушать тюрьму молчания.
Я осознаю, что, возможно, мне не хватает эмоционально окрашенных переживаний, но для меня мышление, менее подверженное влиянию эмоций, скорее всего, в большей степени сосредоточено на решении конкретных проблем. Большинство аутичных людей, независимо от стиля мышления, больше полагаются на логику, чем на эмоции. Может быть, это еще один геномный компромисс, но я не привношу свой эмоциональный багаж ни в одну ситуацию. Я не поддаюсь эмоциям; вместо этого мой разум начинает решать проблему. Это одно из моих преимуществ.
В каком-то смысле можно сказать, что визуальное мышление спасло мне жизнь. Впервые я написала о ранчо моей тети двадцать пять лет назад в книге Thinking in Pictures. Даже тогда я не до конца понимала, как моя подростковая зацикленность на коровах – несомненно, побочный продукт аутизма – привела меня к профессии промышленного дизайнера и зоопсихолога. Когда мне исполнилось сорок, я осознала, что способна думать о вещах более ясно, чем в двадцать лет. Пересматривая свои старые дневники 1970-х годов, я была поражена тем, насколько беспорядочной была модель моего мышления. У меня возникало множество ассоциаций, которые не имели особого смысла. Это происходило по вине огромных пробелов в моей визуальной базе данных. Чем обширнее становилась моя база данных, тем больше связей я могла установить. Это похоже на расширяемую папку для хранения документов. По мере того как я становлюсь старше и приобретаю больше опыта, мне гораздо легче решать задачи, поскольку моя память содержит больше визуальных данных. Мой мир все больше и больше расширяется.
Визуальное ориентирование в мире часто означает поиск визуальных метафор для объяснения новых ситуаций, и я до сих пор их использую. Совсем недавно меня особенно тревожил COVID-19, поскольку я отношусь к группе риска по причине пожилого возраста. Чтобы взять ситуацию под контроль, в самом начале пандемии я сделала то, что делаю всегда, применив приемы восходящего мышления. Я собрала множество исследовательских работ о лекарствах для лечения вируса. Затем классифицировала методы лечения: противовирусные и противовоспалительные. И тут ко мне пришла визуальная аналогия. Я представила, что мое тело – это военная база. Если солдаты иммунной системы успешно контратакуют вирус, он будет побежден. Если же военная база будет захвачена, может возникнуть цитокиновый шторм. Я вижу, как солдаты моей иммунной системы впадают в исступление. Они сбиты с толку и начинают атаковать собственную базу и поджигать все вокруг. Цитокиновый шторм может разрушить легкие и другие системы организма. В этот момент потребуются противовоспалительные препараты, прежде чем вся военная база будет охвачена пожаром.
Мне часто не даются вербальные метафоры, но мой разум подобен автомату по производству визуальных метафор. Иногда меня спрашивают: похоже ли визуальное мышление на рентгеновское зрение?14 Мой ответ – нет. Визуальное мышление – это способность видеть связанные изображения из ваших «файлов зрительной памяти» и различными способами получать к ним доступ для решения проблем, исследования и интерпретации окружающего мира. Вот почему предметные визуализаторы часто становятся дизайнерами, строителями, архитекторами, механиками и художниками. А пространственные визуализаторы – математиками, программистами, композиторами, музыкантами, естествоиспытателями и инженерами. Часто визуально мыслящие люди неотличимы в толпе. (По ходу книги мы еще со многими из них познакомимся.) Мы не приписываем их навыки одному лишь визуальному мышлению. Мы говорим, что они хорошо владеют руками, отлично разбираются в компьютерах, умеют считать в уме и т. д. Оба типа визуализаторов могут обладать способностями к решению проблем, которые мы не обязательно связываем с визуальным мышлением.
В программе Innovation Boot Camp Корпус морской пехоты продемонстрировал свои превосходные способности к импровизации. Брэд Хэлси, создатель программы, устроил «адскую неделю», чтобы отсеять ученых и инженеров, которые не смогут внести свой вклад в условиях высокого давления. Он обнаружил, что механики грузовиков и радиомеханики из морской пехоты лучше и быстрее инженеров с дипломами Стэнфорда или Массачусетского технологического института справляются с такими задачами, как создание элементарного транспортного средства из груды мусора, изобретение устройства для слежения за автомобилями и разработка сенсорных гранат. Хэлси объяснил, что «инженеры склонны слишком много думать» и плохо справляются, если нужно быстро найти инновационное решение. «Они не любят действовать за пределами своей зоны комфорта. Они очень хороши в своей специальности, но не так успешны в процессе исполнения – при воплощении идеи в вещь». Моя интерпретация такова, что механики грузовиков, скорее всего, были предметными визуализаторами, чьи способности видеть, мастерить и ремонтировать объединены. Говоря, что люди хорошо владеют руками, мы имеем в виду именно такое сочетание навыков: они как будто видят руками. Инженеры – абстрактные пространственные визуализаторы, необходимые для разработки определенных систем, но, возможно, это не лучшие соседи по окопу.
Иногда визуальная аналогия приоткрывает завесу тайны. Известен случай, когда химику Августу Кекуле приснилась змея, ухватившая себя за хвост, тем самым образуя кольцо. Так родилось представление о структуре, известной в органической химии как бензольное кольцо. Писатель Майк Саттон объяснил, что способность Кекуле удерживать в уме сложные визуальные образы очень помогла ему в понимании молекулярных структур. Более позднюю визуальную аналогию провел Ким Нэсмит из Оксфордского университета. Генетики давно знали, что геномы образуют петлю, но они пытались выяснить, как ДНК сохраняет форму, будучи свернута внутри клетки. Нэсмит увлекался альпинизмом. Однажды, когда он возился с веревками и карабинами, к нему пришло визуальное прозрение. Продевание веревок сквозь карабины напомнило ему длинные нити ДНК, соединяющие хромосомы. Чистая визуальная связь. Это было похоже на шнур галстука боло или на многочисленные петли, образующие лепестки ромашек, которые я вышивала в третьем классе.
По словам Раффи Хачадуряна, автора статьи в журнале New Yorker под названием «Скрытая угроза космического мусора», астронавты, выходившие в открытый космос, пришли в ужас, обнаружив, что цилиндрическая поверхность космического телескопа «Хаббл» посечена крошечными кусочками мусора, подобно тому, как щебенка на шоссе деформирует грузовик. Астронавт Дрю Фойстел сказал: «Частичка мусора может появиться откуда угодно и в любой момент». Для разработки технологий борьбы с межзвездным мусором был запущен спутниковый исследовательский проект, известный как RemoveDEBRIS. Инженеры построили спутник, оснащенный баллистическими инструментами, включая титановый гарпун и кевларовую сеть. Данные подходы к поимке космического мусора напомнили мне ранние методы китобойного промысла. После того как инженеры просмотрели видео со своего спутника, один из них сказал: «Как инженеры мы визуализировали это в виде диаграмм, таблиц и графиков. Вряд ли мы задумывались о том, как это будет выглядеть». Их блестящий пространственный ум был способен создать сложные абстрактные имитационные модели, но в команде было бы полезно также иметь предметных визуализаторов. Я сразу же поняла тщетность попыток очистить космос от мусора. Это было бы похоже на попытку избавить землю от камней. Один маленький шажок для человечества. Огромный скачок для предметных визуализаторов.
2
Отсеянные

В 1960-х годах, когда я ходила в школу, уроки труда были распространены практически повсеместно. Я хорошо помню наш учебный кабинет по технологии. Это было помещение в индустриальном стиле с подъемными гаражными воротами. Там стояли деревянные столярные верстаки и огромный контейнер для обрезков фанеры и дерева. Лобзики, молотки, плоскогубцы, отвертки и ручные дрели висели на перфорированной доске аккуратными рядами, в порядке убывания, от большего к меньшему. Именно там я начала учиться пользоваться инструментами и мастерить вещи своими руками. (Одним из моих первых проектов была деревянная лодка, которая, к сожалению, не держалась на плаву.)
Еще больше мне запомнилось отношение к кабинету труда. Там всегда царил идеальный порядок. Прежде чем нас отпускали в конце каждого урока, мы складывали инструменты на место и сметали древесную стружку, как кудри волос с пола парикмахерской. Дома моя комната всегда была зоной бедствия, и мама постоянно уговаривала меня в ней убраться, угрожая лишить возможности смотреть телевизор и получать карманные деньги. Но при этом я глубоко уважала кабинет труда и всегда следовала наставлению мистера Патриарка, нашего учителя: «Оставьте это место чище, чем вы его нашли». Мне нравился мистер Патриарк не в последнюю очередь за то, что он позволил мне и еще одной девочке, проявившей интерес к урокам труда, посещать занятия. Каждый раз это был самый яркий момент моего дня.
С другой стороны гендерного барьера в прежние времена школы предлагали девочкам домоводство. Начиная с девятнадцатого века эти курсы были предназначены для обучения домашним делам вроде кулинарии, шитья, садоводства, воспитания детей и ведения семейного бюджета. Большинство читателей могут предположить, что я ненавижу домоводство, поскольку я была чем-то вроде сорванца и обожала уроки труда. Но мне нравилось работать руками самыми разными способами.
В третьем классе мы начали с вышивания, так что я научилась пользоваться иголкой и ниткой. Некоторые современные дети понятия не имеют, как вдеть нитку в иголку или пришить пуговицу. Когда я училась в четвертом классе, мама подарила мне игрушечную швейную машинку, которая действительно шила. Это была одна из моих любимых вещей, и я шила на ней костюмы для школьного спектакля. В седьмом классе мы уже работали на настоящих полноразмерных швейных машинах, что крайне распалило мой технический ум. Занятия проходили в специальном помещении, где на каждом столе стояла швейная машинка. Мне не терпелось туда попасть. Одним из моих любимых изобретателей был Элиас Хоу, получивший первый патент на швейную машину челночного стежка, которая соединяла нить в игле с нитью, идущей снизу. «Отдел толковых инженеров» – мой термин для обозначения блестящих изобретателей и визуализаторов, где бы они ни находились. Мне нравилось строить выкройки, измерять ткань, точно ее кроить и сшивать. Позднее я применила эти навыки для создания систем содержания домашнего скота, творчески переработав их на новом уровне понимания. То же самое и с кулинарными занятиями. Они были ориентированы на процесс и учили нас, как отмерять и добавлять ингредиенты по порядку. Измерение жидкостей – всегда один и тот же процесс, будь то чашка молока или чан емкостью 3800 галлонов15.
Я также участвовала в работе драмкружка, выбирая закулисную работу, в которой весьма преуспела. В каждом классе средней школы я работала механиком сцены, кульминацией чего стала постановка в старших классах спектакля «Суд присяжных» Гилберта и Салливана16, для которой я построила ложу присяжных и место судьи из картона и фанеры. Я разбавила краску, чтобы придать фанере вид дерева, и прорисовала черные линии, напоминающие панели. Подобные программы дают детям возможность проявить технические навыки. Они также создают сообщество увлеченных детей, которые, подобно мне, тяготеют к таким вещам, как освещение сцены и дизайн декораций.
Если вы ходили в государственную школу в 1990-е годы или позднее, возможно, вы не помните подобных программ. Примерно в то время их практически исключили из учебной программы государственных школ, наряду с изобразительным искусством, актерским мастерством, обучением сварке и слесарному делу, с некоторыми региональными различиями. Кульминация этой политики пришлась на 2001 год. В это время реформа образования, известная как «Ни одного отстающего ребенка», по словам Нихила Гоялу (раскритиковал этот закон в своей книге Schools on Trial («Школы под судом»), «обрушилась на американское образование, как цунами». В настоящее время отказ от обучения практическим навыкам уже стал печальной реальностью. Более того, его сменила новая философия – натаскивания на тесты. Подход «зазубрили – заполнили все кружочки»17 стал нормой. Наследие предыдущих двадцати лет федеральной политики в области образования, от закона «Ни одного отстающего ребенка» (2001) до закона «Каждый ученик успевает» (2015), создало культуру, которая одновременно переоценивает важность тестирования и лишает наши школы многогранной учебной программы.
Цель повышения национальных академических стандартов посредством комплексного тестирования уничтожила предметы, которые не поддавались стандартизированному тестированию. «Начиная с третьего класса количество учебных часов по изобразительному искусству, музыке, естественным наукам и истории было сокращено, поскольку в основном преподавалось то, что тестировалось, а эти предметы не поддавались стандартизированному тестированию»,– пишет Гоял. В 2015 году президент Национальной ассоциации образования Лили Эскельсен Гарсия и президент Национальной ассоциации родителей и учителей Ота Торнтон написали в газете The Washington Post: «Школы с наиболее ограниченными ресурсами, скорее всего, будут сокращать уроки истории, изобразительного искусства, музыки и физкультуры просто потому, что эти предметы не охвачены стандартизированными тестами».
Первые двадцать лет моей карьеры все инженерные и архитектурные чертежи делались вручную. Когда в середине 1990-х годов промышленность перешла на компьютерное черчение, я начала замечать в чертежах странные несоответствия. Центр круга не всегда находился в центре, или не учитывались арматурные стержни для армирования бетона. Чертежам часто не хватает детализации, и они становятся все более похожими на схемы. Многие из тех, кто учился проектировать на компьютерах, никогда не брали в руки карандаш, не прикасались к листу чертежной бумаги и ничего не строили.
Однажды у меня состоялся тревожный разговор с врачом, который обучал интернов. Некоторым из них было очень трудно научиться зашивать порезы, поскольку они никогда не пользовались ножницами. Доктор Мария Семенова, хирург-трансплантолог из Университета Иллинойса, обучила множество хирургов. Она объясняет их сноровку наличием ручного труда в детские годы. Но в настоящее время большинство детей не получают опыта работы руками. Доктор Семенова в детстве вязала крючком. С помощью ножниц она создавала сложные коллажи из фотографий, вырезанных из журналов. Репортер New York Times Кейт Мерфи рассказала о нейрохирурге, чья игра на фортепиано, возможно, помогла развить превосходную ловкость рук. Наверное, успеваемость – не лучший способ выбора врачей, которые будут специализироваться на сложной хирургии.
Беседы с родителями показывают, что большинство исчезнувших из виду детей на самом деле сидят по домам и играют в видеоигры. У меня нет ни малейших сомнений в том, что и я подсела бы на видеоигры, если бы появилась на свет лет на тридцать позже. Быстрая визуальная стимуляция опьяняет. Исследования показали, что аутичные люди более склонны к чрезмерному увлечению видеоиграми. Чтобы избавить молодого человека от зависимости, необходимо заменить игры чем-то столь же увлекательным. Я знаю два случая, когда замещение видеоигр обучением профессии автослесаря оказалось успешным. Ремонтировать настоящие автомобили и изучать двигатели было интереснее, чем участвовать в гонках на симуляторах. Мне известно, что многие родители жалуются, что не могут оторвать своих детей от экранов. Частично это может быть связано с тем, что сами родители прикованы к экранам. А еще они могут бояться проявлять свою власть. Моя мама ограничивала наше время перед телевизором до одного часа в день, да и тот мы получали в качестве награды за выполнение домашних заданий и работы по дому. Некоторые из сегодняшних родителей делают все, чтобы избежать конфликтов. Домашние разборки пугают, но детям необходимо дать возможность понять свои сильные стороны для того, чтобы найти свое призвание. Вы никогда этого не добьетесь, если не оторветесь от экранов и не поместите своих детей в другую среду. Для меня это было ранчо моей тети.
Я много путешествую, и куда бы я ни приехала, я почти не вижу людей, читающих книги или журналы. Родители и подростки уткнулись в свои телефоны. Дети играют в видеоигры. Я далеко не первая, кто это отмечает, но, с моей точки зрения, эта зависимость напрямую связана с более масштабным сбоем: нехваткой в стране квалифицированных рабочих. Людей, умеющих работать руками и, вероятно, обладающих визуальным мышлением, становится все меньше. Каждая минута, проведенная ребенком за видеоигрой, – это упущенная возможность получить знания об автомобилях, самолетах, обучиться работе с инструментом, отдохнуть на природе. Большинство учащихся никогда не проявит свои сильные стороны, не сможет найти свое призвание. Помогло бы восстановление в школьном образовании уроков труда, изобразительного искусства, музыки и домоводства.
Еще один отличный способ познакомить детей с различными идеями и потенциальной карьерой – это экскурсии. В моем детстве экскурсиям придавалось большое значение. Я училась в начальной школе, когда впервые посетила автомобильный завод. До сих пор я отчетливо помню свои наблюдения, как пневматический ключ одновременно завинчивал все пять болтов на колесе. Я видела, как мой отец усердно менял колеса, поочередно отвинчивая по одной гайке. Я помню, что была очарована гаечным ключом, домкратом и рычагом – намек на то, что мое механическое сознание уже заработало. Я могла бы смотреть часами на машину, достигавшую на сверхзвуковой скорости того, на что у моего отца уходила целая вечность. Внутри меня зарождался будущий толковый инженер.
Школьные экскурсии стали еще одной жертвой натаскивания на тесты. В отчете под названием «Почему важны экскурсии» приводятся результаты опроса Американской ассоциации школьных администраторов, который показал, что более половины плановых экскурсий были отменены еще в 2010 году. В отчете также упоминается, что посещение музеев способствует формированию критического мышления, исторической эмпатии и интереса к искусству. Данный положительный эффект был в два-три раза выше у учащихся из менее благополучных семей. В уменьшении количества экскурсий часто обвиняют нехватку финансирования. Репортер New York Times Майкл Винрип рассказал об учительнице из Нью-Йорка, которая брала свою детсадовскую группу на «пешие экскурсии по городу». Там она учила их всему, от математики до лексики, а они встречали на своем пути терминалы оплаты парковки и изучали новые слова, такие как парковка и нарушения. Детсадовцы посетили авторемонтную мастерскую, муниципальную парковку, метро, рынок, несколько мостов и отделение неотложной помощи больницы. Это очень изобретательный подход. Не обязательно отправляться в знаменитый музей или к памятнику. Все, что требуется, – это любопытство и администраторы, готовые позволить педагогам находить возможности обучения в повседневной жизни.
Глава школьного округа посетовал, что не так много учителей проводят пешие экскурсии по городу. «Существует систематическое давление, требующее хороших результатов на тестах, а эти мероприятия не сразу повышают баллы. Чтобы этим заниматься, вам нужно быть готовым смотреть в будущее». Только представьте, какие возможности открывают перед учащимися экскурсии в самые различные места: на фабрику, ферму, мельницу, в дистрибьюторский центр, на профессиональную кухню. Этот опыт напрямую знакомит учащихся с профессиями, о существовании которых они, возможно, даже не подозревали, а также дает представление о том, как устроена и создается повседневная жизнь.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе