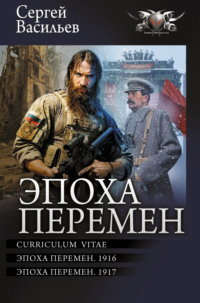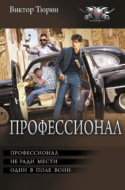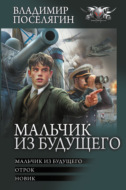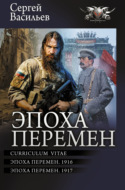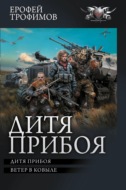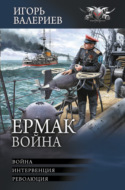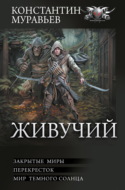Читать книгу: «Эпоха перемен: Curriculum vitae. Эпоха перемен. 1916. Эпоха перемен. 1917», страница 4
Глава 6
Необъявленная война
2020-й. Гюмри
– Тащ полковник, через десять минут приземляемся в Шираке! – вырвал Распутина из воспоминаний настойчивый голос техника АН-26М.
– А почему не в Эребуни? – встрепенулся Григорий.
Техник пожал плечами – мол, не могу знать – и быстрым шагом поспешил обратно на своё рабочее место.
– Твою ж маму… – прошипел под нос Распутин, откидывая голову на дрожащую обшивку. – И как теперь прикажете туда добираться?
На взлётном поле среди медицинского транспорта Гюмрийского гарнизонного госпиталя, встречающего санитарный борт, инородным телом выделялся снежно-белый Mercedes S W222 с армянскими номерами. Как только Распутин спустился на лётное поле, из машины резво выскочил и подбежал к полковнику молоденький лейтенант.
– Товарищ полковник! Товарищ генерал приказал встретить и сопроводить до Звартноца! Билет забронирован, рейс через три с половиной часа, успеваем!
– Хм… Хорошо вы тут живёте… – Распутин придирчиво осмотрел сверкающее транспортное средство. – «Дорохо-бохато»!
– Это не наше, – смутился лейтенант, – утром взял напрокат. Генерал Ежов сказал, чтобы всё было по высшему разряду.
– Что? Неужто и билет забронирован в бизнес-класс?
– А как же!
– Ну, тогда по коням, не будем задерживаться!..
– Не сомневайтесь, товарищ полковник, довезу в лучшем виде! С ветерком!
«А парнишка-то – лихач, – подумал про себя полковник, вжимаясь в мягкое кожаное кресло на очередном повороте. – Вон как красуется, кайф ловит от комфортной езды на хорошей машине. Что ж, с ветерком так с ветерком. Как тогда, в постсоветском Ленинграде… Хотя нет, уже в Санкт-Петербурге…»
Сентябрь 1993-го
Разбрасывая по сторонам ошмётки раннего мокрого снега, перемешанного с водой, отчаянно гремя поношенными железками, содрогаясь на ухабах и опасно кренясь на поворотах, по северному осеннему городу, погрузившемуся в вечерний мрак, летел рафик скорой помощи.
Грязные, давно не помнящие ремонта фасады домов на улицах разбитых фонарей сюрреалистично подсвечивались новомодной рекламой. На фоне «Лебединого озера» красовался придурок с бутылкой водки и репликой «Я – белый орёл». Выпячивал свой хрустальный бок «Абсолют». Рекламу алкоголя сменяла порошковая радуга с радостной школотой – инвайт, юппи, зуко. Кока-кола сражалась с пепси. Исторические этюды банка «Империал» «До первой звезды…» сменяла навязчивая попугайная реклама приставки: «„Денди“, „Денди“, мы все любим „Денди“, в „Денди“ играют все…»
В тусклом свете, падающем от очередного плаката с подмигивающим бородатым Распутиным и бутылкой одноименной водки в его руке, расположился стихийный рынок – фирменный лейбл погрузившейся в хаос России, отстойник для огромного количества людей, не сумевших своевременно перестроиться и адаптироваться. На фанерках, фибровых чемоданчиках, клеёнках – домашняя утварь, книги, инструменты, новая и поношенная одежда, всякое барахло, вытащенное хозяевами из шкафов и с антресолей в надежде продать или хотя бы поменять на продукты…
Заработная плата научных сотрудников – двенадцать долларов при прожиточном минимуме пятьдесят, пенсии по старости и инвалидности – ещё ниже. Среди молодых, работящих – лютая, бешеная безработица. Предприятия стоят. Если работают, то неполный рабочий день. В производственных кассах скребутся мыши. Оригинальное «ноу-хау» – выдача заработной платы производимым товаром. Он тоже идёт на стихийные рынки за полцены, треть цены и ниже…
Населению тупо нечего есть! Сосиски с макаронами – праздник. По сравнению со скудным 1991 годом, в 1992-м потребление мяса, молока, рыбы сократилось в разы. Среди буйства новых русских периода первичного накопления капитала – голодные обмороки и самоубийства не вписавшихся. Безысходность.
Скорая помощь, не снижая скорости, пролетела мимо шеренги вынужденных коммерсантов. Талая вода и мокрый снег из-под колёс с шипением окатили людей и разложенное на земле барахло. Никто не успел ни отвернуться, ни даже возмутиться. С покорностью обречённых вчерашние «строители коммунизма» стряхивали с себя грязь, обтирали рукавом товар и снова застывали чёрными изваяниями на фоне алкогольной рекламы.
Ближе к станции метро – россыпь ларьков, дальних родственников коммерческих магазинов. Они зародились на заре кооперации в виде дешёвых раскладушек и палаток. Ассортимент – водка, сигареты, накачанные стероидами «окорочка Буша», спирт «Роял», презервативы, жвачка, марс-сникерс… Многие тысячи хаотичных и незаконных торговых точек, похожих на бронированные доты с бойницами. Центры городов усеяны ими, как осиными гнездами.
– Шеф, пятнадцать секунд, только сигареты куплю. Опять курево кончилось, зараза.
Юрка, водитель, невысокий парнишка, только после армии, с круто зачёсанной назад пышной шевелюрой, посмотрел на старшего бригады жалобными глазами северного оленя и, не дожидаясь ответа, свернул на обочину. Никакого порядка, никакой разметки не существовало и в помине. Каждый парковался как бог на душу положит.
Скорая притормозила во втором ряду, намертво блокировав две тонированные «девятки». Григорий поморщился от такого обращения, но ничего не сказал. Он кивнул и стал торопливо заполнять карточку вызова, десятую за дежурство.
Через открытую водительскую дверь в салон ворвалась вечерняя жизнь города с модной песней «Агаты Кристи» про наркоту: «Давай вечером… Будем та-та-та курить». Курили и «гасились» прямо тут, в междуларёчном пространстве. Наркоманов, токсикоманов и алкоголиков в СССР хватало, но пик вакханалии пришёлся на девяностые, когда на борьбу фактически положили болт и появились торчки всех возрастов – от малолеток до мужиков.
– Григорий Иванович, жуть-то какая… – Студентка второго курса, папина и мамина любимица Алиночка санитарила третью неделю и ещё не привыкла к сумеркам городской жизни. – А ребята из нашей общаги говорят, что у них каждую неделю увозят передозный труп. И это медики!
– Это только половина жути, – вздохнул Распутин и показал авторучкой за спину. – Вон там – вторая…
Вдоль тыльной части ларьков расположилась целая колония бомжей. В девяностых, казалось, они возникали ниоткуда. Это были вовсе не актёры и актрисы, решившие таким нехитрым способом срубить бабла, а нищие, оставшиеся без своего жилья люди. Квартиры лишиться было куда проще, чем её получить: чёрные риелторы и просто бандиты внимательно отслеживали потенциальных «клиентов». Пополняющие отряд бомжей хотя бы оставались живы. Иным обладателям завидной жилплощади везло меньше. Старики скоропостижно кончались, пьянчужки превращались в законченных алкоголиков и исчезали, инвалиды и серьёзно заболевшие люди – пропадали… Сколько безымянных могил без опознавательных знаков появилось вокруг городов…
– Ну ты, урод! – От удара по крылу рафик весь содрогнулся и чем-то жалобно звякнул внутри своего металлического чрева. – Ты какого хрена сюда свой гроб поставил, мудила?!
У открытой водительской двери «девятки», заблокированной рафиком, стоял пышущий гневом «хозяин земли», правильно упакованный в турецкий спортивный костюм «с блеском», косуху и модельные туфли, – представитель самого заметного в девяностые гопнического сословия.
«Ну вот, б***, покурили», – зло подумал про себя Григорий, поднимаясь со своего места и ища глазами предмет поухватистее.
– Н-на-а-а-а!
Набегающий от ларьков Юрка двумя ногами прыгнул на открытую дверь «девятки», отчего стоящего за ней гопника кинуло на сиденье, приложило затылком о крышу и до кучи ударило в лобешник ребром двери.
– Валим! Ва-а-алим!
В радостном возбуждении Юрка ввинтился в своё кресло, с полоборота завёл машину и рванул с места в галоп.
– Ты же его чуть не убил! Надо помощь оказать! – пискнула вжавшаяся в кресло Алина.
– Чтобы его убить, нужно из пушки стрелять! – огрызнулся водитель. – Их там целая кодла, они нам такую «помощь» устроят!
– Неоказание помощи – преступление! В милицию позвонят. Номера запомнят! Найдут! – испуганно, но упрямо чирикала санитарка.
– Девочка Алиночка! – расплылся в улыбке Юрка, ни на минуту не отводя глаза от дороги. – Ты номера наши когда последний раз видела? Лично я – весной, когда машину мыл… Э-э-эх, залётные!
Юрка крутанул баранку, включая сирену и сворачивая в какую-то одному ему известную подворотню. Во все стороны от скорой помощи разлетелись ночные бабочки, выстроившиеся перед машиной своего сутенёра.
– Протухла на́ небе вечерняя заря. Заглох в лесу стук дятла-долбо**а. Уходит время в сумрак на хрен зря. И дни летят как шлюхи с небоскрёба! – громко декламировал Юрка, ожесточённо работая рулём, педалями и ручкой переключения скоростей.
– Ты не опрокинь нас, поэт-цветик, – прикрикнул на водителя Григорий. – Разухарился тут…
* * *
К нужному дому подъехали только через двадцать минут, вдоволь попетляв по дворам-переулкам и убедившись, что никто не догоняет.
Возле подъезда Григорий осведомился:
– Зонд и воронка есть в сумке?
– Конечно, – кивнула Алина. – А что?
– Ничего. Проверил, ты со мной или ещё там, у ларьков. Идём «на отравление».
В квартире на кухне сидел упитанный восемнадцатилетний парень. В сознании. Глаза на мокром месте, во взгляде отчаяние, безнадёга, тоска и «предчувствие близкой мучительной смерти».
Вокруг него крутилась мама.
– Сыночка, ну зачем же ты так? Ну будет у тебя ещё любовь. Не стоит она того, чтоб вот так вот поступать! А обо мне ты подумал?
– Здравствуйте. Скорая помощь. Вызывали?
– Да-да, здравствуйте, – засуетилась женщина, – вызывали. Проходите, пожалуйста. Вот видите, наглотался какой-то гадости, а всё из-за этой стервы!
– Ма-а-м, ну не начина-а-ай!
– Будем промывать желудок, – нехорошо улыбнулся парню Распутин. – Так! Мама! Приготовьте нам ведро тёплой воды и пустой тазик.
Увидев в руках Алины желудочный зонд, к которому она прикрепляла воронку, и садистско-флегматичную физиономию фельдшера, парень изменился в лице. Появилась тревога за своё здоровье и жизнь в целом. Видимо, если он и не забыл про несчастную любовь, то мысли о ней явно отошли на задний план.
– Что вы собираетесь делать? – спросил он тревожно.
Распутин повернулся к нему. В одной руке – зонд, в другой – спрей с лидокаином.
– Вот этот шланг надо проглотить. Ты ещё не знаешь, как ты это будешь делать, но я тебе помогу. Открывай рот! Та-а-ак… Сидеть!
После промывания парень сидел грустный-грустный, но держался. Нюни не разводил.
Алина, собирая вещи и сочувствуя, решила поговорить с ним.
– Ну вот и на фиг тебе такое счастье, чувак?
– Да дурак, блин! Она мне кровь свернула, у меня флягу закусило. Ну я на эмоциях горстью таблеток и закинулся.
– Стоп! – вскинул глаза Григорий, молча заполнявший карту вызова. – А что за таблетки-то?
– Я не знаю, – ответил «Ромео». – Вон там от них баночка осталась…
В шкафчике на полке стояла пластмассовая упаковка из-под таблеток. На ней красовалась надпись «СТОП-ИНТИМ» и была нарисована кошечка в розовых перьях…
По лестнице спускались молча, пока Алина не изрекла задумчиво:
– Даже если и вернётся к нему его девушка, есть ли теперь в этом смысл?
Ответить Григорий не успел. Все слова застряли в горле. Около их машины стояли две знакомые тонированные «девятки» и четверо «братков», вид которых не предвещал ничего хорошего. «Быстрая походка, глаза безумные» – это про них. Общая черта настоящих отморозков – взгляд, наполненный злой, радостной энергией, и хорошее настроение. Во времена, когда можно всё, люди быстро сбиваются в размножающиеся стаи. В таких группах низменные качества характера развиваются быстрее и проявляются сильнее. Ищут любую возможность с кем-нибудь «бескорыстно» разобраться. Самый желанный результат разборки – силами двух-трёх человек накинуться на одного с криками «Вали его!», и высший изыск для правильного отморозка – попрыгать по голове лежачего, стараясь нанести сильный удар каблуком, чтобы череп треснул.
Такая перспектива явно грозила Юрке. Хоть он и забаррикадировался в рафике, эта «крепость» могла пасть в любую секунду, как только бандота начнёт бить стекла. Те, однако, не торопились переходить к силовой части, ржали, наслаждались моментом, наблюдая за растерянной Юркиной физиономией, и сально шутили насчёт его будущего.
– А ну-ка, Алиночка, давай мне сумку, а сама быстро к лифту, закрой глаза, зажми руками уши и открой рот…
– Но, Григорий Иванович…
– Выполнять, дура! – шикнул на растерянную девчонку Распутин, доставая из сумки свой НЗ – две гранаты «Заря-2» и перцовый баллончик.
Гопники на шлепок гранаты об асфальт отреагировали так, как и положено откосившим от армии: уставились на лежащую на земле чёрно-белую хреновину и даже нагнулись, чтобы лучше её рассмотреть, поэтому последующие, самые интересные минуты своей жизни они пропустили. На свежем воздухе грохнуло неожиданно тихо, но вспышка была настолько сильной, что у некоторых особо впечатлительных граждан произошла непроизвольная дефекация. В числе «некоторых» оказался и Юрка, не ожидавший такой подлянки от шефа.
Этих минут Распутину хватило, чтобы помочь впасть в забытьё самым устойчивым, проколоть шины на «девятках», затолкать в рафик визжащую Алину, сдёрнуть с водительского кресла плохо пахнущего Юрку, объехать продриставшуюся кучу-малу любителей турецкого пошива и свалить, наконец, из гостеприимного двора, предаваясь мрачным размышлениям по поводу происшествия.
«Теперь, суки, точно найдут!» – колотилась в голове тоскливая мысль. На милицию надежды – ноль. Она сама боялась или была в доле. Значит, надо скрывать следы. Первым делом – спрятать машину, а потом думать, как жить дальше.
– Юра! Ты говорил, у тебя есть жестянщик от Бога!
– Ну да, говорил… – Юркин голос из салона звучал с изрядной долей удивления. – А что?
– В официальном сервисе или сам по себе?
– Да куда ему в официальные с его запоями! В гараже ваяет.
– Ну тогда я ему подгоню работёнку, – усмехнулся Распутин и направил рафик к ближайшему посту милиции, перегородившему дорогу бетонными блоками. – Завтра съездишь на автобазу, скажешь, что поцарапал, побожишься, что всё восстановишь за свой счёт. И прекрати там сопеть. Лучше быть засранцем, чем покойником.
* * *
– Да-а-а, неаккуратно получилось, – протянул сильно помятый гаишник, разглядывая рваный шрам на железном теле скорой помощи, протянувшийся вдоль всего борта. – Оформлять-то будем?
– Да кому нужны эти бумажки? Всё равно за свой счёт ремонтировать, – вздохнул Распутин, укрывая курткой хлюпающую Алину. – Слышь, командир, медсестричку нашу до дома добрось, а то ночь уже…
– Сделаем, док, – кивнул командир экипажа. – Мы что ж, без понятия разве? Сами такие…
– Всё, Алина, дуй в машину к стражам закона. Приедешь домой, чаю с малиной, аспирин – и в постель. А завтра – заявление «по собственному» и в стационар, если сердце просит практики.
– Григорий Иванович, – всхлипнул начинающий медик, – да что ж это творится? Будто война какая…
– А это и есть война, без всяких дураков, – зло сплюнул Григорий. – Только необъявленная…
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Смешно сегодня читать умиляющиеся рассуждения о том, какой доброй была советская молодёжь. «Я очень хорошо знаю нашу молодёжь. Я регулярно смотрю телевизор», – гордо заявила Агнесса Ивановна из фильма «Курьер». Юмор этой сцены сегодня не ясен. А тогда он был понятен любому. Советское телевидение и реальная молодёжь существовали в параллельных вселенных.
«Братки 90-х» появились не на пустом месте. Питательная среда для них была сформирована ещё в 70-х. Официальная власть, недалекая и косноязычная, своей фальшивой, приторной и притворной говорильней про добро и человеколюбие, своей ложью про «коммунизм уже вот завтра» сформировала поколение тех, кто ненавидел само слово «гуманизм». Дело оставалось только за малым – дать этим молодёжным группам идею, что бить морды друг другу нужно не просто так, а за бабло. И понеслось…
В конце 80-х и начале 90-х ТВ пропагандировало всё. Появились сериалы, якобы повествующие о проблемах молодежи, а на самом деле разъясняющие, что такое наркотики, как их находить и употреблять.
Особенно врезался в память эфир передачи «До 16 и старше» и аналогичной программы для тинейджеров, где показывали: вот это – баян и ложка над огнём, его колоть сюда, но это очень плохо, это «фу», ребята, так никогда не делайте. А это травка, ее раскуривают вот так вот, но это ай-яй-яй, негодяи-наркоманы, «фу» на них. Драгдилер обычно выглядит вот так, но вы к нему никогда не подходите.
Надо ли говорить, что после таких передач маховик наркоторговли и наркомании так закрутился, что затормозить его смогли в лучшем случае к середине нулевых.
Глава 7
Январь 1994-го. Взгляд в бездну
Что такое три месяца для истории? Сполох звёзд на небе, миг, рябь на воде мироздания. И как многое может поменяться! Новый, 1994 год Россия встретила совсем другой страной. Октябрь 1993-го кровью смыл последние иллюзии августа 1991-го.
Всё непотребство после распада СССР воспринималось населением как временные трудности. Лишь самые проницательные мрачнели и уходили в себя, обсуждая перспективы шестой части света. Прозреть помогли танки в центре Москвы, ведущие огонь по Белому дому. Шок от расстрела собственного парламента вылился в чёткое понимание: букетно-конфетный период между новой властью и старым народом закончился, и в этом «дивном мире неограниченных возможностей» никто никого жалеть не собирается. Будет выгодно – переедут гусеницами под улюлюканье и аплодисменты карманных средств массовой дезинформации, под похлопывание «западных партнёров» по плечу – «Гут-гут, карашо!».
Октябрь 1993-го вернул граждан РФ к привычному советскому состоянию: власть и её подданные существуют отдельно, каждый сам по себе. Тихий саботаж и эмиграция – внутренняя и внешняя – росли стахановскими темпами. Свежие анекдоты про «всю королевскую рать» становились чёрными и злыми. В коридорах власти, её прихожих и туалетах их не слышали и не понимали. Вождям было недосуг. Они хмуро пилили… Эта едкая реплика в ходу с того давнего времени.
Высмеивалось всё новое, «буржуинское», включая кулинарные изыски. «Скажите, у вас есть дор блю?» – «А что это?» – «Это сыр с плесенью». – «Сыра нет. Есть сосиски дор блю и картошка дор блю. Брать будете?»
Но больше было законченной чернухи. Зима 1994 года… Вопрос Армянскому радио: «Что будет, когда зима кончится?» Ответ: «Президент обещал сфотографироваться… с оставшимися в живых».
Год 1994-й – пик смертности и яма рождаемости. Апофеоз геноцида населения СССР невоенными средствами.
Первого февраля началась продажа акций финансовой пирамиды Сергея Мавроди. В первую половину года в стране из любого утюга можно было услышать рекламу АО «МММ». Главный герой рекламных роликов Лёня Голубков стал человеком года, на целых десять баллов опередив в этом рейтинге президента России Бориса Ельцина.
В конце июля наступил крах. Миллионы «не халявщиков, а партнёров» остались с носом. Кто-то без квартир. Большинство – с долгами. Депрессии, разрушенные семьи, самоубийства… «Гут-гут, карашо!» – аплодировал коллективный Запад.
В 1994-м окончательно сформировалось понятие «новых русских», полукриминальных нуворишей в малиновых пиджаках. Именно у них самых первых появились мобильные телефоны и крутейшие, похожие на мавзолеи памятники. Жили новые хозяева России хорошо, но быстро. Это про них зло шутили непричастные к раздербану страны граждане: «А нам кажется, что это всё вы купили на народные деньги!» – «Да ты гонишь! Откуда такие деньги у народа?!» – «Йа-йа! – подтверждали „наши западные партнёры“. – Натюрлих!»
Народ к тому времени уже ощипали двумя денежными реформами! А к закромам Родины, чавкая и давясь, припала партийная и хозяйственная номенклатура. Партаппарат, бортанув пролетариат раскормленным задом, при попытке приватизировать «нажитое непосильным трудом» был очень быстро оттёрт на обочину жизни более физиологичным и бесцеремонным криминалом.
Позже совпартдеятели, обнаружив в кармане кукиш, опомнятся, начнут, размазывая сопли по лицу, причитать про славное советское время, которое «мы потеряли». В 1994-м никаких причитаний не было. Секретари горкомов наперегонки с «красными директорами» и министрами делили наследие «проклятого совка», вырывали друг у друга куски пожирнее, осваивая тюремные навыки «развода» и «кидка». Временщики и мародёры планомерно добивали остатки страны, сдавая дорогим «западным партнёрам» национальные позиции по любому вопросу. Российский министр иностранных дел за свою сговорчивость получил на Западе прозвище Мистер Йес – в противоположность своему советскому предшественнику Мистеру Ноу.
Вместо разогнанного и расстрелянного Верховного Совета в 1994-м в Москве начала заседать бесправная Госдума и послушный Совет Федерации. Зато творческая интеллигенция наслаждалась небывалой свободой! Своеобразным сертификатом того, что наконец «демократия восторжествовала», явилось возвращение в Россию живого классика. В мае 1994 года посредственный писатель и талантливый лжец Александр Солженицын с супругой Натальей Светловой спустились по трапу самолёта в аэропорту Магадана после двадцатилетнего проживания за границей. Этот хрен с бугра написал графоманское эссе «Как нам обустроить Россию?», читая которое морщились даже самые преданные фанаты и сочувствующие.
В «чёрный четверг», 11 октября 1994 года, рухнет в преисподнюю курс рубля к доллару, 18 ноября Верховная рада Украины отменит декларацию о суверенитете Крыма, и в конце года весь пафос бестолковой, но хотя бы формально мирной жизни «новой, демократической России» разобьётся о начавшуюся Первую чеченскую войну.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
За 1994 г. общий коэффициент смертности увеличился на 8 %, достигнув уровня 15,6 в расчёте на 1000 жителей. До 1989 г. он снижался, достигнув своего минимума (10,7). Но уже в 1990 г. он составил 11,2, в 1991 г. – 11,4, в 1992 г. – 12,2, а в 1993 г. – 14,4. В 1994 г. естественная убыль составила 920,2 тыс. чел., средняя продолжительность жизни равнялась 64,07 лет. Причём 2/3 естественной убыли населения приходится на центральные районы: половина – на Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Наиболее стремительно смертность росла среди мужчин самого экономически активного возраста – 39–50 лет.
Эмиграция из России в страны дальнего зарубежья продолжалась с неизменной интенсивностью после либерализации процедуры выезда в 1986 г. Но если за 1993 г. страну покинуло 116 тыс. чел., то уже в первом полугодии 1994 г. этот показатель был удвоен.
9,4 млн человек – это те прямые потери населения, которые понесла Россия в 1992–2001 гг., не считая дальнейших обусловленных этим потерь в будущем, вызванных ухудшением структуры населения. То есть либеральные реформы стоили России почти 10 млн жизней.
* * *
В январе 1994-го студенту последнего курса военно-медицинской академии Григорию Распутину всё это было неведомо. Он спешил по скрипучему зимнему снежку на дежурство в госпиталь ветеранов, радостно вдыхая полной грудью колючий морозный воздух. Приключения на скорой помощи и конфликт с криминалом уже забылись, хотя пришлось срочно увольняться и менять квартиру. Но нет худа без добра. В госпитале Григорий получил возможность самой широкой медицинской практики и среди всей безнадёги девяностых нашёл дополнительную опору, чтобы не съехать с катушек.
Оглядываясь назад, полковник Распутин мог уверенно сказать, что пинок под зад и вкус к жизни, несмотря ни на что, он получил именно в этой «юдоли скорби и печали», во время тотальной разрухи и развала всего, до чего смогли дотянуться шаловливые ручки новодемократов. Григорий помнил, как в 1992 году, когда проблемы и беды валились на него одна за другой, он, потухший, разуверившийся, потерявший надежду, мрачно раскуривая сигарету, стоял в загаженном ленинградском дворике и размышлял об уходе из профессии туда, где есть хоть какая-то перспектива – в рэкетиры, в банкиры или ещё куда-нибудь, где можно заработать на хлеб с маслом.
Вдруг сзади раздался пронзительный звук песни «Идёт солдат по городу». Мимо проехал – нет, промчался! – инвалид-колясочник. На коленях он держал орущий магнитофон и букет цветов. «А солдат попьёт кваску, купит эскимо…» Коляска, лихо затормозив и сделав почти полицейский разворот, проскользнула в арку.
– Это Максим бабушку свою поехал поздравлять с Днём Победы!
Поглощённый происходящим, Григорий не сразу заметил пожилую соседку.
– Она войну медсестрой прошла, потом его растила, пока мать неизвестно где пропадала. А сейчас он о ней заботится. Хотя после Афгана и нелегко ему, но оптимизма не теряет.
Распутин стоял, поражённый увиденным и услышанным. В голове не укладывалось, как инвалид может ещё о ком-то заботиться, вместо того чтобы ждать помощи от других. А из парадного доносилось: «Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далёкая любимая ждала…»
Эта случайная встреча уничтожила все коммерческие планы Григория, развернув его самого на сто восемьдесят градусов в направлении госпиталя для ветеранов войн и укрепив в нём намерение помогать таким пацанам, как Максим, а может, и самому подпитаться у них непреодолимой жаждой жизни. В лихую годину потрясающих людей родит земля русская, в назидание живущим и для укрепления духа приунывших.
И вот он, параллельно с учёбой, два года практикует на Народной улице, не переставая удивляться, сколько лётчиков Маресьевых, Талалихиных, Гастелло скромно и незаметно живёт среди простых смертных! Впрочем, незаметно – до поры до времени, пока не придёт та самая минута…
Вчера в ходе подготовки к операции Григорий увлечённо слушал байку военного моряка – капраза, как он сам называл своё звание, – про небывалый и, наверно, единственный случай атаки гражданским судном боевого корабля в мирное время.
В конце восьмидесятых, когда правящая (ещё советская, но уже горбачёвская) элита демонстративно забила болт на военных, пошли они на новейшем атомном подводном ракетоносце в испытательный поход. Случился с ними по военно-морским и всем прочим понятиям неслыханный конфуз – затухли оба реактора, и АПЛ с позором потеряла ход. Они продуваются, всплывают и встают в дрейф. Как говорится, всё, приплыли тапки к берегу…
Случаев подышать воздухом у подводников очень мало, потому что АПЛ никогда не должна быть обнаружена вероятным противником ввиду особой секретности, ну и вообще…
Первыми пришли корейцы, за ними – японцы. Американцы тоже не заставили себя долго ждать. Сначала прискакал эсминец, затем крейсер, а под занавес – целый линкор.
Наши совсем приуныли: опозорились среди всех супостатов НАТО! А наш надводный флот сопровождения где-то шляется.
Тут американский линкорный кэп, воодушевлённый горбачёвскими прогибами под Запад, делает контрольный в голову. Он, гад, взял и вывесил сигнальными флагами: «ПРЕДЛАГАЮ СДАТЬСЯ». Прикололся над капитаном-подводником и всем советским флотом.
Капитан бросился в рубку к радио. «Где, где, я вас спрашиваю, наше уважаемое командование, вся наша поддержка, в конце концов?! SOS всем, кто рядом! Берут в полон, ироды!»
Ближайшим кораблём оказался рыболовецкий сейнер, такая малюсенькая посудинка, не в обиду рыбакам будь сказано, по сравнению с линкором – блоха. И это «насекомое» решительно направилось к кодле натовских кораблей всем своим шестнадцатиузловым ходом.
Первыми, обладая хорошей исторической памятью, стали сваливать корейцы и японцы. Они всё правильно поняли, потому что у русского сейнера висели сигнальные флаги «ИДУ НА ТАРАН». И этот маленький кораблик с пятнадцатью русскими мужиками и капитаном во главе попёр на линкор, на бандуру, о которую разбился бы, как яйцо. Только погромче. Линкор начал манёвр уклонения. Разошлись чудом. Сейнер ещё и погнался за ним. А не надо прикалываться над нашими!
– Злые языки потом говорили, – вздыхал капраз, – что линкор и «сопровождающие его лица» свалили вовсе не из-за крохотного судёнышка. Вражеские радары побледнели от количества поднятой по тревоге советской морской авиации. Но подводники видели то, что видели. Поэтому, когда сейнер, отогнав Седьмой флот США и его союзников от советской АПЛ, гордо шествовал мимо подводного крейсера, вся команда во главе с капитаном подлодки выстроилась на палубе, отдавая воинскую честь гражданскому кораблику.
Такие духоподъёмные истории реальных героев и были тем спасательным кругом, удержавшим Распутина на плаву среди безнадёги и безвременья, давая силы не спиться, не скурвиться, не сорваться в бездну и не только жить самому, но и помогать выживать другим.
* * *
«Помочь выжить» – оптимистичные слова. Жаль, не всегда получалось. Распутин хорошо помнил самый драматичный день своей госпитальной службы, начавшийся, впрочем, вполне безмятежно и обыденно… Лекций в то утро не было, и сразу после тренировки, не успев даже позавтракать, курсант схватил сменку, скатился по лестнице и порысил к подземке.
Рядом с метро гуляла бабушка – божий одуванчик, хорошо, если ростом по плечо, дорожки песком посыпала. Вдруг к ней подошла девица и что-то спросила. Бабуля энергично ответила, размахивая своей тростью. «Убить такой клюкой – раз плюнуть», – подумал тогда Григорий. Девица, просветлев лицом, что-то передала старушке и радостно убежала в указанном направлении. Пожилая женщина, довольная, повернулась к курсанту лицом, а у неё на груди плакатик: «Справки по городу. 100 рублей».
«Вот так частное предпринимательство проникло в среду строителей коммунизма», – усмехнулся Распутин, спускаясь по бесконечному эскалатору.
Неправда, что русским ненавистен дух предпринимательства и индивидуализм. С этим в России как раз всё в порядке! Таких высоких качественных заборов больше нет нигде в мире, даже на погостах, где делить уже и нечего. На ста квадратных метрах покоится с десяток центнеров самых причудливых оградок. Желание обнести забором свой личный мир, спрятать его от окружающих – обратная сторона вынужденного коллективизма, без которого на суровых бескрайних отечественных просторах не выжить.
«Один в поле не воин», «Одна рука и в ладоши не бьёт», «Даже лес шумит дружнее, когда деревьев много» – это тоже всё наше. Мудрость, сформированная агрессивной внешней средой, выносящей безжалостные приговоры одиночкам. Нет, не мы такие, осознанно коллективные. Жизнь такая. Если где-то в Европе остановиться около сломавшейся машины заставляют привитые нормы вежливости, то в Сибири – обязательный к исполнению суровый закон выживания, уменьшающий количество безвременно почивших.
Но как только необходимая и достаточная дань общинности принесена на алтарь Отечества, русские, в свободное от коллективной работы время, строят свой уголок, воздвигая вокруг него «китайские стены», отдыхая за ними от социума, навязчивого своим вниманием, как стая диких обезьян.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе