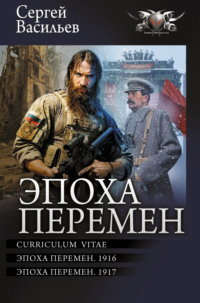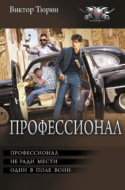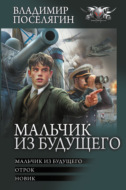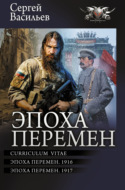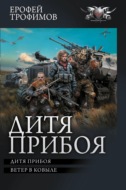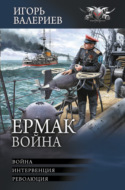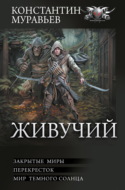Читать книгу: «Эпоха перемен: Curriculum vitae. Эпоха перемен. 1916. Эпоха перемен. 1917», страница 2
Незнакомка улыбнулась одними глазами, продолжая манипуляции с капельницей, и наконец представилась:
– Просто Наташа. Реинкарнация номер один.
* * *
Позже Григорий узнал, что великим дамским угодником его за глаза прозвали сестрички медсанбата за постоянные попытки оградить их от переноски тяжестей и не пускать туда, где грязно и страшно. Наташа же – доброволец, только что закончившая четвёртый курс мединститута, – прилетела вместе с госпиталем и случайно стала персональной сиделкой Григория, наслушавшись рассказов про его героическое поведение.
– Тебе нужно обязательно поступать в медицинский! – убеждённо говорила она Григорию. – Нельзя закапывать такой талант и опыт! Возьмёшь направление из армии, и с твоим дипломом медучилища нужно будет сдать только химию!
– Опыт и талант рискуют быть погребёнными под руинами моих нынешних познаний в химии, – отшучиваясь, вздыхал Григорий, польщённый тем не менее признанием своих заслуг.
– Не волнуйся, – решительно возразила Наташа, – я беру над тобой шефство. У меня три золотые медали с олимпиад по химии и дедушка-академик. Я знаю его оригинальную методику преподавания и помогу тебе.
Наташа действительно оказалась хорошим репетитором. Её дедушка, академик Борис Николаевич Некрасов, приобщая внучку к своей профессии, подарил ей уникальный курс химии в стихах, анекдотах и историях, которые Наташа ненапряжно вливала в уши Распутину, не отрываясь от своих основных обязанностей…
– Запомнил, солдат? – И Наташа игриво заливалась смехом, от которого Григорий сходил с ума…
Химические задачки тоже решались шуточно.
– Какова доля сахара в сгущённом молоке, которое вылизал из банки пудель Тотоша, если ему показалось, что во всей четырёхсотграммовой банке сахара было сто восемьдесят граммов? Сколько граммов мёда, в котором было сорок пять процентов глюкозы, съел медведь Топтыгин, если клетки его организма получили двести граммов воды?
Одним словом, учиться у Наташи было интересно и легко, и не только химии… Беспокойная, как ртуть, и порывистая, как сирокко, она заполнила жизнь Распутина, будто игристое вино – пустой глиняный сосуд, празднично врываясь в размеренную армейскую жизнь фонтаном эмоций и напрочь срывая крышу. Поэтому решение Москвы оставить госпиталь в Афганистане после окончания эпидемии, абсолютно неожиданное для всех врачей, для Григория было весьма желанным подарком.
Восемь месяцев безмятежного счастья, придуманных командировок в медсанбат и всего остального, что удовлетворяет непритязательные потребности влюблённых, оборвалось, как это часто бывает на войне, на самой высокой ноте…
Дорога от госпиталя к аэродрому шла через Соловьиную рощу – красивый эвкалиптовый лес и излюбленное место засад душманов. Пока оформляли документы на эвакуируемых раненых, медицинская «буханка» опоздала встать в колонну. Пришлось догонять. Опасные заросли почти проскочили, когда по машине с красным крестом ударили из автоматов. Старшего, прапорщика, убили сразу. Водителя ранили.
– Шурави! Сдавайся! – закричали, окружая машину, душманы – все сплошь молодые ребята, почти пацаны, один из которых говорил по-русски.
Наташа накинула зачем-то на плечи белый халат, выскочила из кузова с ранеными, замахала руками:
– Сюда нельзя! Инфекция!
Про инфекцию воины Аллаха слышали и, кратко посовещавшись, изменили свои планы. В плен решили никого не брать – расстреляли из гранатомётов. Наташа умерла мгновенно…
Чёрного от горя Григория, примчавшегося в медсанбат без всякого разрешения, на третий день забрал Ёжик. Ничего успокоительного не говорил. Никак не утешал. «Отомстить хочешь?» – задал краткий вопрос по пути в полк и, увидев утвердительный кивок, больше не проронил ни слова.
Благодаря агентуре хадовцев, которых не раз и не два выручал Лёха, банду вычислили быстро, тихо разведали текущую дислокацию, секреты и боевое охранение. В гости наведались перед рассветом. Часовых сняли без шума. Жестокий Ёж сунул в саклю со спящими боевиками хлорпикриновую шашку. Из окон и дверей почти сразу в руки разведчикам посыпались плачущие и сопливые моджахеды.
Допрашивали бандитов вдвоём. Сначала Григорий только смотрел, что и как делает Ежов, потом помогал. В конце, когда дело дошло до того, кто отдал приказ расстрелять медицинскую машину, уже справлялся сам. Никаких эмоций при этом не испытывал. Мозг равнодушно констатировал, что при таком допросе всякие «не скажу» остались в кино. В реальной жизни всё зависит только от времени. Один ломается на третьей минуте, другому требуется четверть часа. Но результат всегда один. Для допрашиваемого – самый пессимистический.
Когда вся картина гибели эвакуационной группы была ясна и всплыли любопытные подробности из жизни информаторов моджахедов, Григорий лично привёл в исполнение приговор, но не испытал никакого облегчения.
– Привыкай, Айболит, – приобнял его за плечи разведчик, – это как ампутация. Обратно ничего не отрастёт. Надо научиться как-то с этим жить…
– Я постараюсь, – почти прошептал Григорий и добавил, помолчав: – Товарищ лейтенант, я знаю, что у вас снайпер на дембель уходит… Разрешите попробовать!
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Холерная эпопея в Джелалабаде и борьба с ней описаны со слов непосредственного участника событий лейтенанта медроты 66-й бригады Александра Добриянца и с его разрешения.
Глава 3
Дембель, 1987-й
Москва – Ленинград
В Москву Григорий прилетел вместе с Матиасом Рустом, в тот же день, когда девятнадцатилетний пилот-любитель из ФРГ посадил самолёт на Красной площади, преодолев все рубежи советской ПВО. Ну как преодолел… Пэвэошники вели «херра туриста» от самой границы и предлагали «приземлить» неоднократно, но каждый раз из кремлёвской заоблачной выси звучало категорическое: «Не стрелять!» – и армия подчинялась.
Много позже Григорий узнал, что незадолго до полёта озорного немца министр обороны СССР докладывал лично Михаилу Горбачёву о том, как организована и как работает система противовоздушной обороны советского государства. Выходя от генсека, Соколов оставил у него документы, включая секретные карты. Но на следующий день, когда он попытался вернуть документы назад, Горбачёв сказал, что не помнит, где они находятся. Вовремя прилетел в СССР чёртик из бутылки Матиас Руст. Если бы не он, спешно уволенные Горбачёвым триста офицеров-фронтовиков во главе с маршалом Соколовым остались бы на своих местах, и, кто знает, может быть, ГКЧП 1991 года не стал бы таким игрушечным и несерьёзным.
Двадцать восьмого мая 1987 года демобилизованный Григорий Распутин был озабочен совершенно другими проблемами: как в день пограничника не натолкнуться на усиленные патрули и не провести лишнее время в комендатуре, поясняя происхождение своей не совсем уставной формы и содержание дембельского дипломата, не соответствующее ассортименту военторга.
О том, что Распутин вернулся «из-за речки», можно было догадаться лишь по непривычному для весенней Москвы загару. Девственно чистый китель санинструктора с сиротливым значком об окончании медучилища, где не было даже самой расхожей медали «За боевые заслуги», никак не выдавал в нём участника боевых действий. Так бывало нередко, а в его случае – даже закономерно. Числился в санчасти, дневал и ночевал в разведке. Оказавшись между двумя ведомствами, был успешно забыт обоими.
В этот момент награды его не заботили вовсе. В твёрдой папке среди других документов лежало направление в мединститут, конспекты, а в голове – всё, чему успела научить Наташа, и её желание видеть его студентом медвуза, превратившееся в завещание, обязательное к исполнению.
* * *
Решение о поступлении именно в военно-медицинскую академию пришло само, случайно. Вернувшись из Афгана, Распутин почувствовал себя Робинзоном на необитаемом острове. У человека, участвовавшего в военных действиях, меняется психика. Когда совсем ещё мальчишки, обожжённые войной, посмотревшие в лицо смерти, возвращаются в мирную жизнь, они не понимают, где оказались, потому что привыкли к фронтовому братству, взаимопомощи, участию друг в друге. И вдруг остаются один на один со всеми своими проблемами и переживаниями в мире, неожиданно ставшем чужим, где их никто не понимает и не принимает. Общаться с бывшими однокашниками становилось неинтересно. Жизненный опыт, шкала ценностей и приоритетов уже не совпадали. В результате окружающее казалось непонятным и враждебным.
Распутин не был исключением, поэтому принял решение поступать именно в военно-медицинское высшее учебное заведение. В армии всё проще и понятней, чем на гражданке, где уже начиналась кооперативно-перестроечная суета, а воззвания к строительству коммунизма перемежались с призывами обогащаться.
* * *
На собеседование в приёмную комиссию его вызвали, когда коридоры почти опустели. Только в углу около фикуса возилась дородная мамаша со своей упитанной дочкой, и ещё два запоздалых «путника» фланировали по фойе, увлечённые беседой.
В аудитории за сдвинутыми вместе столами сидели пять человек, трое из них – в военной форме. Председатель – крепкий, как боровичок, генерал-майор с по-мальчишески непокорными, хоть и седыми вихрами, брежневскими бровями над близоруко прищуренными глазами в ореоле разлетающихся к вискам морщинок и тяжёлым нубийским носом – задал несколько формальных вопросов про образование, место жительства и уткнулся в личное дело Распутина, полностью выпав из диалога.
Остальные заседатели, удивлённые необычным поведением «вожака», начали, страшно косясь и изгибаясь, заглядывать в папку, лежащую перед председателем. Генерал, слюнявя пальцы и перекладывая страницы, качал головой, периодически вскидывал глаза на Распутина, произносил «да-а-а», протягивая букву «а», и опять зарывался носом в казённые фразы кадровиков военкомата и Гришиного полка.
Распутин от скуки начал разглядывать иконостас на груди генерала, где среди ярких планок юбилейных медалей узрел сразу три пурпурных ленточки боевого ордена Красной Звезды и зелёный штрих медали «За оборону Ленинграда». «Свой!» – сгенерировал команду мозг без всякого участия Григория, послав условный сигнал в центральную нервную систему, и Распутин почувствовал, как уходит мандраж, расслабляются собранные в комочек мышцы живота, мягкая тёплая волна прокатывается по всему телу, а в голове начинает приятно и успокаивающе шуметь морской прибой.
– Ну вот что, сынок, – откладывая в сторону личное дело, тихо, будто разговаривая сам с собой, произнёс генерал, – бумаги твои мы ещё почитать успеем, а ты пока нам так, по-простому, расскажи, как там было…
То ли заворожённый боевыми наградами на груди генерала, то ли от его низкого, обволакивающего голоса, Григорий вдруг почувствовал непреодолимую потребность облегчить душу, выложить то, что не мог доверить ни друзьям-знакомым, ни родителям.
И он начал рассказывать… Про липкий, ничем не смываемый и не заглушаемый страх во время холерного карантина, про то, сколько сил надо было приложить, чтобы, заступая в наряд, просто шагнуть за порог инфекционного модуля, где вонь, тоска, безысходность и глаза сверстников, глядящих на тебя с такой надеждой… Некоторым уже ничем не можешь помочь. Ничем! А когда речь зашла о Наташе, Григорий вдруг, сам не ожидая того, кинул лицо на руки, в голос зарыдал и не видел, как генерал цыкнул на члена комиссии, открывшего было рот, и посмотрел на остальных дёрнувшихся подчинённых так, что они истаяли до состояния сухофруктов.
А Григория несло по волнам памяти. Он не стеснялся слёз, текущих по щекам, и, вспоминая о службе с Ежовым, почти кричал, что в глубоких рейдах группе необходимо соблюдать скрытность и каждый встреченный в лесу, на равнине или в горах, видевший группу, должен умереть. Ребёнок, женщина – любой. И как командир пишет письмо маме сгинувшего чёрт знает где солдата, а потом пьёт…
Рассказывал о прошлом, но почему-то в настоящем и будущем времени. Как они встречаются с агентом Ежа, этническим таджиком, пьют чай и любуются потрясающе красивым закатом в горах. Разговаривают о жизни, а вокруг крутятся его дети. Глазастенький мальчик всё время трётся возле папиного друга-шурави, гладит руку и смотрит снизу вверх. Другой ребёнок – дочка, которой по возрасту ещё не надо носить чадру, робко улыбается и по-детски кокетничает, а ты ловишь для неё шикарную бабочку, передаёшь из своих грубых рук в её маленькие ладошки. Бабочка щекочется лапками-крылышками, девчушка взвизгивает, отпускает её, тушуется и прячется за папу.
Папа – активист какой-то местной проправительственной партии. Ежов вкладывает ему в уши нужную информацию, догадываясь, что будет дальше. На рассвете активист поедет в райцентр, и его перехватит рейдовая группа прибывшей пару дней назад очень серьёзной диверсионной банды под командой кадровых офицеров спецназа соседней страны. Активиста вывернут наизнанку. Это чушь, что кто-то может удержаться… Ломаются все, если не успеют умереть. Через день всю банду, вышедшую в нужную точку по рассчитанному Ежовым маршруту, полностью обнулят. Офицера пакистанской разведки возьмут живым. Энергоцентр, куда они шли, останется целым. Это хорошая военная работа.
…А потом ты будешь стоять вместе с Ежовым на похоронах таджикского друга, глядя пустыми глазами на платок, под которым его перерезанное горло и то, что раньше было лицом. И над телом, не опускаясь вниз, будет трепетать крыльями потрясающе красивая бабочка, а за твой палец будет держаться, глядя снизу вверх, маленький глазастенький мальчик, его сынишка, такой же, как сероглазый, беленький сын Ежова, находящийся на другом конце земли. Он, когда вырастет, обязательно станет солдатом – псом войны. И всё повторится…
Ты чувствуешь, что перестал быть нормальным человеком и уже никогда не сможешь доверять начальству. И даже товарищам. Разрушительно хорошая военная работа… Вот только закаты после всего пережитого обладают какой-то мистической силой. Уставишься и смотришь…
Григорий говорил, не умолкая, почти час, и не слова и слёзы, а война изливалась из его души и тела.
Когда этот поток иссяк, в аудитории повисла тишина, и даже скрип стульев не нарушал её, пока генерал со вздохом не спросил у одного из членов комиссии:
– Ирина Владимировна, сколько у нас ещё ожидают?
– Двое, – одними губами обозначила ответ женщина.
– Извинитесь и передайте, что их собеседование переносится на завтра. А нам с солдатом требуется пообщаться в неформальной обстановке…
Генерал-майор медицинской службы Вениамин Васильевич Волков – боец истребительного батальона в блокадном Ленинграде, закончивший войну начальником медсанбата в Вене, – прекрасно понимал всё, что творится в душе молодого человека. Плеснул керосину солдат на тлеющие угли в душе фронтовика, разбередил старые раны, напомнив генералу его самого почти полвека назад.
Вениамин Васильевич даже не сам решил, а будто почувствовал приказ свыше: надо помочь… Оттолкнёшь – пропадёт. Только пятнадцать процентов абитуриентов-интернационалистов, прошедших войну, держались дольше одного курса. Забирали документы, уходили в никуда и, как правило, пропадали. Не стоит увеличивать количество безвременно сгоревших. Стоит побороться.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Вениамин Васильевич Волков – один из ярких, творчески одарённых офтальмологов нашего времени, который внёс существенный вклад в развитие многих разделов общей и особенно военной офтальмологии. Генерал-майор медицинской службы (1980), доктор медицинских наук (1964), профессор (1965), заслуженный деятель науки РСФСР (1975), Герой Социалистического Труда (1982).
В 1938 году окончил с золотым аттестатом Шестую специальную артиллерийскую школу и поступил в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. В академии был сталинским стипендиатом.
В 1941–1942 годах – боец истребительного батальона в блокадном Ленинграде. За проявленное мужество был награждён медалью «За оборону Ленинграда». Служил врачом отдельного батальона, старшим врачом полка, командиром медицинского санитарного батальона. Прошёл боевой путь от Астрахани до Линца – от Волги до Дуная.
В 1967–1989 годах – начальник кафедры офтальмологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и одновременно главный офтальмолог Министерства обороны СССР.
Глава 4
1988-й. Полураспад
Академия
Первый курс любого высшего учебного заведения – это вынос мозга и зубовный скрежет для студентов. Время самого большого отсева людей, не выдержавших процесса запихивания в черепную коробку такого количества информации, которое не поступало туда за всю предыдущую жизнь. К медицинским вузам это относится в первую очередь, к военно-медицинским – особенно. Когда к тысячам латинских анатомических терминов добавляется устав караульной и постовой службы, а к бесконечным семинарам и коллоквиумам – наряды и караулы, крыша может поехать у самых стойких.
Распутин выдержал, хотя желание бросить всё это к такой-то матери возникало не раз. Спасло медицинское училище, где в долговременную память вложили многое из того, что для выпускников школ было откровением, и армейская служба, где уставы вбивались в голову самым безапелляционным и надёжным способом – через мускульные усилия.
Григорий после первого курса остался в строю, поредевшем более чем наполовину по причине отчислений и добровольных убытий менее устойчивых однокурсников. Выдержал – и даже поднялся по служебной лестнице. Его погоны украсили сержантские лычки, а грудь – догнавшая с войны медаль «За отвагу», самая авторитетная среди фронтовиков. Постарался генерал Волков, списался со всеми инстанциями, начиная с Кабула и заканчивая Москвой, и со всей мощью паровоза продвинул ежовское представление Распутина к награде за ликвидацию банды, лежавшее в самом дальнем ящике стола какого-то безмятежного штабиста.
Григорий сразу почувствовал интерес к себе прекрасного пола, не нюхавшего пороха и представлявшего войну по романтическим стихам и героическим легендам, и ещё больше замкнулся. Медаль – это, конечно, здорово и приятно, но напоминала она Распутину не о собственной отваге, а о самом трагическом эпизоде в его жизни.
Однако и это, и все остальные события за забором академии были вытеснены на задний план бесконечной ежедневной чередой занятий. А «за бортом» в это время бурлила перестроечная жизнь, отражаясь на судьбах простых людей самым противоречивым образом.
В начале сентября 1987 года в Москве и ряде других регионов исчез сахар – результат «наступления на алкоголизм», и впервые после Великой Отечественной войны на него были введены талоны. Девятнадцатого сентября 1987 года широко, празднично, с салютом и гуляниями, было отмечено 840-летие Москвы. Народу понравилось, и с этого года День Москвы отмечается ежегодно.
А уже весной, под конец первого года учёбы, пятнадцатого мая 1988 года, был начат вывод советских войск из Афганистана. Лёшка Ежов, и так не баловавший курсанта Распутина посланиями, вообще перестал писать.
Двенадцатого июня 1988 года в СССР состоялся финал первого конкурса красоты «Московская красавица». Советский народ в едином порыве стал разглядывать советских девчонок в невообразимом до сих пор наряде – купальнике с модельными туфельками. Гормонально это радовало. Морально – озадачивало. Старики качали головой. Молодёжь воодушевилась. Михаил Тодоровский, сняв «Военно-полевой роман», с энтузиазмом бросился экранизировать рассказ Владимира Кунина «Интердевочка», сданный в редакцию под рабочим названием «Проститутка».
На весь срок академических каникул после окончания первого курса Распутин был ангажирован своим негласным адъютантом из Прибалтики. Айвар был высоченным добродушным блондином, поступившим в академию по направлению Рижского горкома комсомола. Наверно, поэтому он посвящал общественной работе больше времени, чем скучной академической зубрёжке. Григория он держался как привязанный, особенно на первых порах, когда всё незнакомое пугало, а конфликты в результате постоянного стресса возникали на пустом месте и не всегда заканчивались мирной руганью. На молчаливого и угрюмого, почти двухметрового Распутина никто из забияк наезжать не рисковал. Это обстоятельство Айвар оценил сразу, даже койку поменял поближе к источнику безопасности.
– Это во мне говорят гены предков, – с простодушной улыбкой пояснил он Григорию свой подхалимаж во время длинного и скучного наряда по роте. – Почти тысячу лет наш народ держали в хлевах и сараях, не пуская на порог домов. В Ригу латышам было разрешено входить только днем, и исключительно для прислуги бюргерам. До заката они были обязаны покинуть пределы города. В городской черте нельзя было даже ходить по одной стороне с немцами – латыш обязан был перейти на другую сторону. Но страшнее всего были ссоры между господами, где страдали в первую очередь прислуживающие неудачливому сюзерену. Им сносили голову сразу и безжалостно. Выживали те, кто держался рядом с сильнейшим. С тех пор у коренных народов Прибалтики выработалось особое чутьё, позволяющее безошибочно определить, кто из хозяев завтра пойдёт в гору, а кто, наоборот, проиграет и превратится в изгоя. И делать правильный своевременный выбор…
– Выбор чего? – поднял удивлённо бровь Распутин.
– Выбор той стороны противостояния, которая позволит сохранить голову на плечах, с кем будет безопаснее и сытнее, – терпеливо пояснял Айвар. – Простой люд постоянно вынужден менять свою свободу на покровительство «сильного человека», способного защитить от неприятностей. Чтобы выжить, надо быть рядом с «хозяином горы». Это элементарное требование существования любого малого народа. И тут все средства хороши. Талейран в своё время сказал: «Вовремя предать – значит предвидеть!»
Заметив, как поднялись обе брови Распутина, Айвар смутился и скороговоркой добавил:
– Это всё, конечно, относится к нашему буржуазному прошлому. Сейчас всё по-другому…
В 1988 году, действительно, всё было ещё по-другому, и Айвар радушно пригласил Григория, как своего покровителя, отдохнуть у родителей на Рижском взморье. Душным августовским вечером они ехали в поезде Москва – Рига, рассуждая на отдыхе о работе, как традиционно и полагается делать в России.
Вагонные споры…
– И вот один расторопный корреспондент из «Литературной газеты» увидел случайно в поликлинике громадное учётно-отчётное полотнище и полюбопытствовал: к чему бы это? – увлечённо пересказывал Айвар свежие газетные новости. – Вооружившись мандатами и командировкой, этот замечательный человек пошёл по административной лестнице. Побывал у заведующего поликлиникой, главврача горздрава, области, добрался до министерства в Москве и везде задавал одни и те же вопросы: «Вам нужны эти документы? Они помогают вам в работе? Вы их как-то используете? Вы их обрабатываете? Анализируете?» Никому они были не нужны, а министр и его подчинённые даже не догадывались о тоннах справок, отправляемых им с мест. Журналист тщательно опросил практически всё министерство, и ни один человек об этих бумагах даже не слышал. Но куда же они делись, чёрт возьми?! Они же миллионами от Кронштадта до Владивостока идут сюда… Эшелоны бумаг… Это же не иголка.
Журналист поехал по вокзалам, посетил почтовые экспедиции, какие-то сортировочные пункты. И вот на далёком отшибе один железнодорожник обратил внимание нашего следопыта на длинный приземистый пакгауз, который денно и нощно охранял часовой с винтовкой и примкнутым штыком. Сюда, по словам железнодорожника, один раз в году сваливают бумаги, после чего ворота запираются и тайну бумаг надежно стерегут ВОХРы. В тени пакгауза учётные полотнища, мучительно посчитанные, аккуратно записанные, орошённые слезами и потом врачей, слёживаются миллионными лохматыми глыбами в паутине и мышином помёте. А поскольку этот пакгауз был не резиновый, то ежегодно перед новым пополнением старые бумаги выгребались, отвозились на пустырь и там сжигались. А на свободное место ложились новые миллионы… Вы представляете, какой у нас везде творится бардак? – Айвар картинно закатил глаза в потолок.
– Это прекрасно! – воскликнул попутчик курсантов, во всём облике которого читался профессиональный командировочный. – Замечательно, что такие постыдные факты на волне перестройки под прожектором гласности становятся достоянием общественности! Теперь те, кому полагается принимать решения, смогут прекратить эту нетерпимо глупую практику формализма в виде собирательства тонн справок и отчётов, никем не читанных и никому не нужных!
– Оказывается, бессмысленным и беспощадным может быть не только русский бунт, но и русский оптимизм, – покачал головой Айвар. – Осталось только понять: способны ли те, кому положено принимать решения, что-то прекратить и перестроить? Способна ли вообще самореформироваться система, или проще и дешевле будет аккуратно и быстро поменять её на какую-нибудь другую, менее косную и бюрократическую?..
– На какую, например? – заинтересовался попутчик.
– Везде должны работать профессионалы, – уверенно декларировал Айвар, – особенно в управлении! Экспертное сообщество, специалисты, узкий круг которых…
– Вы предлагаете олигархию? – перебил его командировочный. – Это недемократично! Мы только что развенчали и осудили культ личности! А вы опять – «узкий круг»… Решать должно большинство! А меньшинство, в том числе и ваш «узкий круг», – подчиняться!
– Не страшно, когда меньшинство управляет большинством, если это меньшинство – гении и умницы, – отрезал Айвар. – Страшно, когда тупое стадо болванов начинает учить своим понятиям крохотную кучку разумных людей.
– Ну знаете, – взвился командировочный, – я попросил бы вас без намёков…
– Как будущий врач, – попробовал примирить спорящих Григорий, – хочу вас заверить, что нет такой проблемы, при решении которой нельзя создать ещё большую проблему.
– Вам так кажется, потому что страна переживает эпоху глобального беспорядка, – примирительно пробубнил командировочный.
– «Эпоха глобального беспорядка»… Как красиво вы назвали состояние полной жопы, – съязвил Айвар.
– Знаете, – заглядывая в глаза Распутину, вздохнул попутчик, – чем больше я слушаю вашего друга, тем меньше мне хочется его видеть…
– Это потому, что вы только делаете вид, что вам нужен собеседник, – оставил за собой последнее слово Айвар, подтягиваясь на руках и закидывая тело на верхнюю полку. – На самом деле вам нужен слушатель. В стране дураков умным быть неприлично. Всё понимаю, поэтому умолкаю.
Под стук вагонных колёс хорошо течёт беседа, но ещё лучше думается… Впрочем, размышлял Григорий ровно до того момента, пока не коснулся головой подушки.
1988-й. Рига
– Григорий, познакомься! Это моя сестра Инга! – непривычно жизнерадостно для своей флегматичной натуры вопил Айвар на перроне рижского центрального вокзала, слегка подталкивая к однокурснику высокую голубоглазую блондинку с модной стрижкой каре, пухлыми губами и очаровательно вздёрнутым носиком. – Спортсменка, хоть и не комсомолка, активистка, ну и всё прочее, что там по фильму полагается.
– Значит, вы и есть Распутин? – кокетливо глядя на гостя сквозь длинные ресницы, проворковала красавица низким грудным голосом с очаровательным прибалтийским акцентом, меняя «ы» на «и» и протягивая ударные гласные.
Айвар, знавший его историю, быстро взял инициативу в свои руки и, не давая девушке смутиться из-за непонятной реакции друга, повлёк их к выходу из вокзала, тараторя от радостного волнения абсолютную чепуху.
– Инга, хочу сразу тебя предупредить: Григорий – старый солдат и не знает слов любви! Поэтому веди себя соответственно, не смущай гостя и следи за окружающей обстановкой. Из-за тебя уже несколько юношей врезались в вокзальные столбы, выворачивая голову.
– Окей, – блеснула знанием иностранных слов Инга и уже более сухим, деловым тоном обратилась к брату: – А тебя Зиедонис просил зайти в горком, и это срочно!
– Йохайды! – хлопнул себя по лбу Айвар. – Совсем забыл! Слушайте, давайте сразу сейчас к нему. А то если в Юрмалу подадимся, обратно возвращаться уже точно не захочется…
– Нет уж, – капризно сморщила носик блондинка. – Решайте свои комсомольские дела без меня, а мне есть чем заняться. Адьё-ос!
– А почему она не комсомолка? – удивился Григорий, невольно провожая взглядом походку от бедра, усугублённую вызывающим разрезом на прямой юбке.
– Да куда ей! – махнул рукой Айвар. – Со сборов и соревнований не вылезает. Через неделю опять в лагерь отправляется. Да она и без значка неплохо выглядит, согласен? – И толкнул Гришу локтем в бок.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе