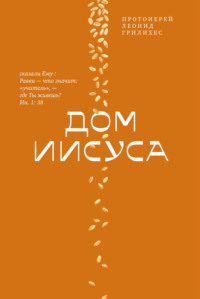Читать книгу: «Дом Иисуса», страница 2
Демография
– Сколько человек собиралось в Иерусалиме во время праздника?
– Действительно, наверное, имеет смысл бегло коснуться демографии. Сегодня на нашей планете 7,7 миллиарда человек. Еще 70 лет назад нас было 2,5 миллиарда. Но в I веке на Земле обитало, как полагают, не более 300 миллионов. Численность Римской империи, по самым оптимистичным оценкам, составляла 55 миллионов.
Иудеи земли Израиля
Что касается евреев, примерно миллион человек жили в Палестине. Здесь можно отметить, что за век до евангельской истории завоевательные войны Хасмонейских царей (Гиркан I, Аристовул I) сопровождались насильственным массовым обращением в иудаизм. И число иудеев существенно пополнилось за счет итуреев на севере и идумеев на юге. Из последних происходил, между прочим, Ирод Великий.
Иудеи римской диаспоры
Еще около 3 миллионов евреев было рассеяно по различным городам Римской империи. Они «проникли во все города, и нелегко найти какое-нибудь место на земле, где не нашлось бы это племя» (Стра-бон, цит. по: Иудейские древности, 14, 7, 2). В рассеянии евреи создали свой, отличный от палестинского, эллинистический иудаизм, который позволил избежать как крайних форм изоляции, так и полной ассимиляции. За два века до проповеди Иисуса уже были переведены на греческий язык священные книги евреев. Если мы говорим о Торе, то ее перевод был сделан еще веком ранее. Вся эта деятельность, беспрецедентная по тем временам, осуществлялась в Александрии, где «значительная часть города (три из пяти кварталов. – Л. Г.) отведена этому племени (то есть евреям. – Л. Г.)», которое управляется «собственным этнархом… на правах представителя самостоятельного народа» (там же).
Иудеи диаспоры не только писали и говорили по-гречески, они научились выражать основы своей веры языком эллинистической культуры. Интересно, как сами современники, и в первую очередь жители Иудеи (где, впрочем, в определенных кругах также увлекались эллинизмом), воспринимали подобную адаптацию религиозной традиции, но сегодня так называемая греко-еврейская литература нередко поражает нас своим синкретизмом и эксцентричностью: здесь и античный театр на библейский сюжет, продвигаемый неким Иезекиилем, еврейским трагиком из Александрии (выходцем из Кирены); здесь и еврейский историк и экзегет Артапан, отождествляющий Моисея то с Мусеем, то с Гермесом; здесь и Филон Александрийский, который цитирует равно и Тору, и греческих классиков; здесь и оракулы Сивиллы, которая, называя себя невесткой Ноя (Оракулы Сивиллы, 3, 827), предрекает гекзаметром события еврейской истории и возвещает о евреях, что «только им даровал разуменье благое Всевышний, веру и лучшие чувства людские вложил Он в их души» (там же, 3, 385–386).
Прозелиты
Именно эта форма «открытого» иудаизма оказалась наиболее привлекательной для многих ищущих религиозного обновления язычников. По свидетельству Филона Александрийского, «красота и достоинство закона Моисеева почитаются не только среди евреев, но также среди всех остальных на-родов» (О жизни Моисея, II, V, 25). Контакты с еврей-скими общинами способствовали распространению иудейских обычаев. Иосиф Флавий упоминает о соблюдении неевреями «пищевых ограничений», о «воздержании от работы в седьмой день», о специальной «трапезе и зажигании свечей в субботу» (Против Апиона, 2, 39). И здесь же он не без пафоса заключает, что еврейские «законы вызывали во всем остальном человечестве все больше и больше сочувствия к себе».
Определенную роль могли играть и миссионеры из митрополии: в Евангелии от Матфея Иисус, обращаясь к книжникам и фарисеям, говорит, что они готовы обходить море и сушу, чтобы сделать прозелитом хотя бы одного язычника (Мф. 23:15).
Мужи, братия… и боящиеся Бога между вами (Деян. 13: 26) – так обычно обращался апостол Павел к собравшимся в синагоге. Мужи, братия – это евреи, «дети рода Авраамова». «Боящиеся/чтущие Бога» – это сочувствующие иудаизму язычники6. Они же – «благочестивые» (гр. себоменой) (Деян. 13: 43, 50; 17: 4, 17 и др.). Даже если они не были готовы и не торопились принимать обрезание (то есть стать полноценными прозелитами), они хотели слышать Закон Моисеев и порождаемые им интерпретации. Двери синагог были открыты для них. И именно они, так называемые «прозелиты врат» (гер ха-шаар), оказались наиболее благодарной аудиторией апостола Павла.
И не только Павла. В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу (Деян. 10: 1–2), одобряемый всем народом Иудейским (Деян. 10: 22). И он был крещен во имя Иисуса Христа апостолом Петром.
Вот еще одна замечательная картина. Иудейские старейшины приходят к Иисусу дело происходит в Капернауме, и ходатайствуют за римского сотника: он достоин, чтобы Ты сделал для него это (исцелил его слугу. – Л. Г.), ибо он любит наш народ и построил нам синагогу (Лк. 7: 4–5). Вероятно, этот сотник находился в Галилее по делам службы, но нельзя исключать, что он принадлежал к числу «прозелитов-поселенцев» (гер тошав), которые многократно упоминаются в раввинистических источниках. Это еще одна градация полупрозелитов. Чтобы приблизиться и лучше познакомиться с иудейской религией, обычаями, географией библейских книг, они переселялись на время (возможно, весьма продолжительное) в землю Израиля. Они не были связаны исполнением всего Закона, достаточно было веры в Бога Израиля и соблюдения минимального свода этических норм, так называемых «семи заповедей Ноя». Но были среди них и более решительные, готовые идти до конца: «Отец не работает по субботам и не ест свинины, а сыну уже мало этого, и он обрезан» (Ювенал. Сатиры, XIV, 96–106). Прошедшие обрезание и обряд омовения назывались «прозелитами праведности» (гер ха-цедек) или «прозелитами Завета» (гер ха-брит). На этой окончательной ступени, становясь полноценными прозелитами, они уравнивались во всем с евреями, чадами Авраама7.
Одной из форм прозелитизма были смешанные браки с язычницами. Эти женщины – «чтущие Бога», то есть принимающие веру своих мужей – воспитывали детей в иудаизме8. Еврейской ассимиляции способствовало и то, что «всю Грецию постигло неплодие и вообще скудость населения… люди утратили простоту и сделались любостяжательными и расточительными и перестали вступать в брак, а если вступали, то с тем, чтобы не иметь больше одного или, в крайнем случае, двух детей» (Полибий. Hist. lib., XXXVI, 4). Полибий говорит о «богатстве» и «роскоши», но была и другая причина демографического кризиса – пренебрежение женщинами: осквернение душ, превращение полов, бесчиние браков (Прем. 14: 26). В результате большие греческие поселения (такие, например, как Фивы, Спарта, Аргос) за несколько поколений могли превратиться в иудейскую колонию. В Деяниях словом «колония» обозначен македонский город Филиппы, к жителям которого обращено одно из посланий апостола Павла.
Это (Филиппы. – Л. Г.) первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел (Деян. 16:12–14).
Иудеи за пределами римской диаспоры
Таким образом, около миллиона евреев проживали на территории Палестины, три миллиона в римской диаспоре и, как считают, еще один миллион за пределами Римской империи. И там тоже было много интересного и амбициозного.
Еврейское княжество в Вавилонии
Например, в то время, на которое приходится проповедь Иисуса, в Вавилонии в районе города Негардея существовало независимое еврейское княжество. Оно было создано и управлялось двумя лихими братьями, Асинаем и Анилаем. Начав как предводители банды налетчиков, они сумели собрать значительное ополчение, с которым вынуждены были считаться даже парфянские цари. Просуществовало, впрочем, княжество недолго, «это счастье его (Асиная. – Л. Г.) длилось 15 лет», примерно с 20 по 35 год по Р. X. Обо всем этом достаточно подробно рассказывает Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» (18, 9).
Правители Адиабены
Негардея, которая в I веке именовалась «вавилонским Иерусалимом», располагалась в среднем течении Евфрата. Севернее, у истоков Тигра, находилась Адиабена, небольшое и также зависящее от парфян царство. Около 30 года по Р. X. царица Адиабены Елена и ее сын Изат (правил около 36–60 годов) принимают иудаизм. Они посылают Храму богатые дары, поддерживают жителей Иерусалима в голодные годы, Елена строит в Иерусалиме дворец (где проводит вторую половину своей жизни) и семейную усыпальницу. Это место сейчас известно как Гробница царей. Иосиф Флавий приводит интересное сообщение о царе Изате: он «послал своих пятерых сыновей, находящихся еще в юном возрасте, в Иерусалим, чтобы они научились там нашему языку и законам и получили там законченное образование» (Иудейские древности, 20, 3, 4). Поскольку «Законы» – это Тора, то «наш язык» – без сомнения, иврит, на котором она написана. О другом сыне Елены Монобазе II (около 60–70 годов), правившем после Изата, сообщается, что он потратил все свои средства на оказание помощи евреям в неурожайные годы. Когда братья упрекнули его, говоря: «Твои родители делали сбережения, увеличив полученное от своих отцов, а ты их раздаешь», – он им ответил: «Мои родители копили внизу, а я наверху; они прятали там, где чужая рука может завладеть, а я кладу туда, где никто не отнимет; они сохраняли то, что не приносит плод, я – то, что приносит; они сберегали Мамону, а я – сокровищницу души; они копили в этом мире, а я в будущем» (Тосефта Пеа, 4,18; Бава Батра, Па).
Конечно, перед нами не стенография, не анналы адиабенских царей, и даже не «Анналы» Тацита, и не сочинение Иосифа Флавия, но то, что прозелит Монобаз из далекой Адиабены, который царствовал через 30 лет после Иисуса, в рассказе, записанном кодификаторами раввинистического предания через полтора века после самого Монобаза, говорит словами Евангелия (ср. Мф. 6:19–20), не может не удивлять и не привлекать нашего внимания. И один из интригующих и интереснейших вопросов: каким образом эти тексты перекидывают столь необычные мосты во времени и в пространстве?
Кстати, из чего складывается евангельское сокровище на небесах? Сегодня ответ обычно звучит так: «любовь к ближним, к врагам, совершение добрых дел, самоосуждение, покаяние, пост и молитва» (Гладков Б. И. Толкование Евангелия)9. Я ни в коей мере не хочу ставить под сомнение весь этот перечень христианских добродетелей. Но само Евангелие говорит о другом и дает совершенно предметный ответ: Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах (Лк. 12: 33). Лишь то, что мы отдаем, совершенно застраховано от воров, и «чужая рука не может завладеть им». Отдать – сберечь от моли и ржи. Пронести сквозь игольное ушко возможно лишь то, чего нет. Что роздано и потому ничего не весит и не занимает никакого места. Такова парадоксальная, но одновременно предельно конкретная логика Евангелия. Именно так копит свое небесное сокровище Монобаз раввинистической барайты10.
Иерусалим в дни праздников
Но вернемся к демографии. В Риме, самом большом городе Римской империи, в I веке могло проживать до 800 тысяч человек. Следующим по величине городом была Александрия – 400 тысяч, затем Эфес – 200 тысяч и Антиохия – 150 тысяч. Население других крупных городов не превышало 100 тысяч. Иерусалим – он же «Сион», «Град Божий», «Святая гора», «Дивная высота», «Радость всей земли», «Город великого Царя» (см. Пс. 47) – не был мегаполисом своего времени, его население пульсировало. Постоянное население составляло порядка 80 тысяч, но когда «бесчисленные группы мужчин из несчетного множества городов, некоторые по земле, некоторые по морю, с востока и с запада, с севера и с юга, прибывали в Храм на праздник» (Филон Александрийский. Об особенных законах, I, 69), то в нем могло собираться, как полагают, до миллиона человек. А это значит, что на время праздников относительно небольшой город превращался в самое обитаемое и многолюдное место не только Римской империи, но, вероятно, всего тогдашнего мира.
Иерусалим не мог вместить всех прибывавших на праздники, паломники располагались на ипподроме, в палаточных лагерях, которые устраивались за стенами города (см. Иосиф Флавий. Иудейские древности, 17, 10, 2), а также в окрестных селениях. Иисус со Своими последователями останавливался в Вифании, в пятнадцати стадиях (более двух километров) к северо-востоку от Иерусалима (см. Ин. 12: 1; Мф. 21:17).
Сегодня, когда мы перед сном открываем Евангелие и в тишине кабинета читаем поучения и притчи Иисуса, мы мало задумываемся о том, что изначально они прозвучали среди шума этой вселенской толчеи. Мы привыкли, что эти слова уже сотни лет пользуются особым вниманием, и не задумываемся, что когда-то им приходилось бороться за слушателей.
Отсюда яркие образы, сравнения и аллегории. Иногда неожиданные. Иногда парадоксальные. Нередко откликающиеся недоумением. Способные привести в изумление и восторг.
Поразить слушателя – самая первая задача притчи. Всякий огнем осолится (Мк. 9: 49). Не солью осо-лится. И не огнем опалится. А именно огнем осолится. Но разве огонь делает соленым? Это сильный смысловой натиск. И это притягивает внимание.
Чтобы тебя слушали, необходимо, чтобы тебя услышали. Приклонили к тебе свое ухо. Первое дело – привлечь внимание. И завладеть им!
– То есть особая образность евангельских притч имеет стратегическое значение и призвана акцентировать внимание слушателей?
– Да, именно это обеспечивало конкурентоспособность проповеди в условиях, когда публичные прения, диспуты, толки на площадях и у врат привлекали всеобщее внимание и собирали толпы любознательных слушателей.
Не будем забывать о двух вещах. Во-первых, иудаизм I века неоднороден, он представлен разными течениями. Даже сегодня, посещая Иерусалим, мы поражаемся многообразию еврейских традиций. Это сразу заметно благодаря разным одеяниям, которыми пестрит Святой Город. Помножьте все это как минимум на четыре, и мы получим Иерусалим Иисуса.
– А почему на четыре?
– Иосиф Флавий упоминает четыре «философские школы», из которых уцелела лишь одна – фарисейско-раввинистическая. Вероятно, в то время нам было бы сложнее различить фарисеев, саддукеев, ессеев по их одежде, но разлет в головах имел гораздо больший размах. И каждая школа сражается за умы, то есть пытается утвердить свое учение как можно шире и привлечь на свою сторону как можно больше адептов.
Кроме этого, надо иметь в виду, что Иудея I века находится на пике своей интеллектуальной активности. Она является самой школьной и самой грамотной частью Римской империи. Здесь была создана уникальная на то время система начального образования. Книжникам, наряду со справедливым судом и соблюдением Закона, члены Великого собрания11 указывали «воспитывать как можно больше учеников» (Авот, 1,1).
Образование
– Значит, во времена Иисуса уже существовала система всеобщего образования?
– Да, но с двумя оговорками. При значительном масштабе все же остается не совсем ясно, в какой мере оно было всеобщим и обязательным.
И второе: это образование не надо понимать по образцу сегодняшней школы, по аналогии с нашим временем. Еврейское образование той эпохи определялось знанием Книги – Торы и, шире, Писания, то есть книг, которые были кодифицированы и успели приобрести статус священных.
Становление системы
Первоначально образование осуществлялось в семье. Преимущественно на отце лежала обязанность обучать своего сына (см. Тосефта Киддушин, 1, 11). В Четвертой книге Маккавейской мать напоминает сыновьям, что отец «учил их Торе и Пророкам», «прославлял и ублажал Даниила», «припоминал им писание Исайи», «пел псалмы Давида», «читал им притчи Соломона», «убеждал верить Иезекиилю» (4 Мак. 18:10).
Первое указание на общественную школу относится к II веку до Р. X. Из Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова (Сир. 51: 31–34), видно, что ее автор стоит во главе бейт мидраша («дом учения, дом исследования») и учит бесплатно, но скорее всего не детей, а уже взрослых учеников.
Начало школьной системы обычно связывают с именем Шимона бен Шетаха, брата царицы Саломеи. Он был одним из глав Синедриона, сменившего Герусию и Великое собрание. После смерти царя Яная (76 год до Р. X.) Шимон бен Шетах провел ряд реформ, направленных на «восстановление власти Торы», в частности, он постановил, «что дети будут ходить в школу» (ИТ12 Ктувот, 8, 32).
В богатых семьях, скорее всего, практиковалось домашнее приватное обучение. Иосиф Флавий сообщает о себе (это свидетельство относится примерно к 50 году по Р. X.):
Я воспитывался со своим братом Маттитьей… и очень преуспел в обучении… Когда я был еще ребенком лет четырнадцати, меня все хвалили за любовь к книжности, так что первосвященники и старейшины города постоянно приходили, чтобы уточнить у меня что-нибудь из Торы (Жизнь, 9).
Наконец весь этот процесс привел к тому, что обязательное образование распространилось также на провинции. Друг Иосифа Флавия, первосвященник при Агрипе II, Иегошуа бен Гамла (около 60 года по Р. X.) постановил, что «учителя для детей должны быть в каждом городе и в каждой области, и те должны идти к ним в возрасте 6–7 лет» (Бава Батра, 21а).
Изучение Торы
Таким образом, образование начиналось в семье и, по достижении определенного возраста, могло продолжаться в школе. Но и то и другое имело своей целью знакомство с Торой.
Как только ребенок начинает говорить, отец разговаривает с ним на святом языке и обучает его Торе (Сифрей Дварим, 10, 46,104).
Дети раньше всего заучивают наизусть законы: это для них будет наилучшим предметом обучения и основою их дальнейшего благополучия (Иосиф Флавий. Иудейские древности, 4, 8,12).
Образованный – значит знающий Закон (Тору). А знать Закон – значило знать его наизусть.
Он (Моисей. – Л. Г.) даже не оставил возможности оправдываться неведением, поскольку сделал знание Закона самым важным и непременным условием воспитания (Против Апиона, 2,17).
Из нас же, кого о них (законах. – Л. Г.) ни спроси, тому скорее труднее будет назвать свое собственное имя, чем рассказать их все. Вот потому от самого раннего пробуждения сознания в нас мы заучиваем их, и имеем как бы начертанными в своем сердце (Против Апиона, 2,18).
Лучше всего усваивается то, что проходится в юном возрасте: «У того, кто учит Тору в детстве, слова ее впитываются в кровь (дословно: проглатываются кровью) и выходят из уст изъясненными». Позднее обучение не столь эффективно: «слова Торы не впитываются в кровь и не выходят из уст изъясненными» (Авот де-рабби Натан, вере. I, 24).
– Таким образом, во II веке до Р. Х. появляются школы и в них начинают учить Тору?
– Это не совсем так. Еще за много веков до Иисуса в Книге Иисуса Навина звучит призыв к непрестанному изучению Торы: «Храни всю Тору, которую заповедал тебе Моисей… да не отходит эта книга Торы от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь» (Нав. 1: 7–8). Спустя столетия, в эпоху после плена, автор 1-го псалма буквально цитирует эти слова. Он ублажает человека, для которого «Тора Господа – единственное его желание, и в Торе Его он поучается день и ночь» (Пс. 1: 2).
В собрании псалмов самый пространный – 118-й. Этот псалом – монументальный гимн Торе, которая восхваляется в каждом стихе (а их здесь 176) под одним из десяти имен: Закон, Заповедь, Путь, Слово, Свидетельство и т. д.
– А что значит «поучаться» Торе?
– На иврите в обеих приведенных цитатах (Нав. 1: 7–8; Пс. 1: 2) стоит глагол хага. В арамейском языке он имеет значение «произносить по слогам».
На иврите – скорее «произносить со вниманием, негромко, вдумчиво», возможно, «бормотать», применительно к голубю – «ворковать». Я могу представить, как человек идет из Галилеи в Иерусалим, а это минимум три дня хорошего ходу, и вместо того что бы смотреть по сторонам и считать ворон, повторяет себе под нос, «воркует» Тору.
Путник «с Торой на устах» – постоянный персонаж раввинистических поучений (см., например, Авот, 3, 7; Эрувин, 54а). Вы потратили время и приложили усилие, чтобы вызубрить текст. Но чтобы не забыть, вы должны его повторять. Периодически напоминать себе, воспроизводить. «Человек может изучать Тору двадцать лет и забыть ее в два года. Каким образом? Просидел шесть месяцев, не повторяя, и на нечистое говорит-чистое, аначистое-нечистое…» (Авот де-рабби Натан, вере. I, 24). В постбиблейском иврите глагол шана «повторять», то есть «повторно делать что-то», приобрел значение «заучивать».
Но это также возможность сконцентрироваться на священном – на слове Божием. Более того – заключить себя в пространство Книги. И это очень важно. Потому что евреи I века жили не только во времени и пространстве. У них было еще одно очень существенное измерение – книга Закона: И да будут слова сии… в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори их, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая (Втор. 6: 6–7). Проговаривая Тору, человек соотносил с ней все, что он видел, слышал, то, что происходило вокруг него и с ним. В первую очередь себя самого и свое место в истории. Ведь Тора – это не только Закон, который учит, как жить, но еще и История. Особая история, сфокусированная на отношениях между Богом и человеком.
– Есть ли какие-нибудь более близкие свидетельства, чем Второзаконие, Книга Иисуса Навина и Псалмы?
– Старший современник Иисуса рабби Шаммай (50 до Р. X. – 30 по Р. X.) говорит: «Пусть изучение Торы будет твоим постоянным занятием» (Авот, 1,15).
Оговариваются особые условия обучения. Чтобы «приобрести» Тору, необходимо:
учение, внимание, зазубривание, разумение, рассуждение, страх, благоговение, смирение, радость, услужение ученым, разборчивость в выборе друзей, прение учащихся, усидчивость, чтение, повторение, ограничение во сне, в беседах, в удовольствиях, в смехе, в мирских делах, терпение, благодушие, доверие ученым, принятие страданий (Авот, 6, 5).
Это то нравственно-эмоциональное расположение духа, в котором должен держать себя ученик. Здесь много труда, дисциплины, но есть также «радость» и «благодушие». И заучивание наизусть – «зазубривание» – лишь одно из 25 необходимых условий. Обладающие Торой выше священства и царства (Авот, 6, 5). Они выделяются среди людей и не похожи на прочих. Как огонь налагает печать на тела работающих с ним, так и Тора налагает печать на тела занимающихся Торою. Как те заметны между людей, так и эти видны по походке, по разговору, по одежде, которую носят на базаре (Сифрей Дварим, 343,14).
Знатоки Торы: книжники, законники, фарисеи
– Именно за это упрекал фарисеев Иисус, говоря, что они расширяют края одежд и филактерии.
– Желание выделиться, внимание к внешним знакам отличия – оборотная сторона книжной учености. Она постоянно порицается Иисусом. Но не что подобное мы находим и в раввинистических источниках. В Пиркей Авот (6,4) призыв трудиться над Торой сопровождается предупреждением: «Не стремись к самовозвеличиванию и не люби славу». Раббан13 Иоханан бен Заккай: «Если ты много занимался Торой, не кичись, ведь ты создан для этого» (Авот, 2, 8). Другой современник Иисуса рабби Цадок говорил: «Не делай из слов Торы корону, чтобы возвеличиться с их помощью» (Авот, 4, 5).
А значит, были и такие. Но, без всякого сомнения, всегда находились и те, кто, презрев почести и людское мнение, предавались Торе ради нее самой.
Если человек унижает себя ради слов Торы, и ест сухие финики, и одевается в грязное платье, и сидит беспрестанно у дверей ученых, то всякий проходящий говорит: «Вероятно, это безумный», а между тем в конце концов ты находишь у него всю Тору (Авот де-рабби Натан, вере. 1,11).
Социальный статус
Жизнь книжников была небогатой. Они следовали написанному в Книге Притчей: «Благо бедному, ходящему в непорочности… Хранящий Закон – сын разумный» (Притч. 28: 6–7). За обучение Торе они не брали денег. Рабби Цадок: «Не делай из слов Торы мотыгу чтобы ею копать» (Авот, 4, 5). Чтобы обеспечить свое существование, а они, как правило, были людьми семейными (то есть имели на своем иждивении жену и детей), им приходилось заниматься ремеслом или наниматься на работу. Но даже обеспеченному книжнику приличествовало трудиться. «Хорошо занятие Торой совмещать с обычным ремеслом, потому что, занимаясь обоими, забываешь грех» (Авот, 2, 2).
Когда к рабби Хилкий, внуку Хони ха-Маагеля, пришли двое учеников, чтобы попросить помолиться о дожде, не застав дома, они отыскали его на поле и были вынуждены ждать до вечера, пока тот закончит мотыжить землю, чтобы последовать за ним к нему домой (Таанит, 23ab). И это не единственный пример. О рабби Гиллеле (вторая половина I века до Р. X.), который стал главой Синедриона, сообщается, что он был дровосеком. Переселившись в Иерусалим, он нанимался на поденную работу. Рабби Иегошуа бен Ханания, один из самых авторитетных еврейских учителей своего времени (I век – начало II по Р. X.), был беден и зарабатывал тем, что занимался кузнечным делом (по другой версии, изготовлял иголки).
Фарисеями и книжниками могли быть люди различного происхождения. Некоторое, вероятно, незначительное число происходило из священнических родов. Но упоминаются также плотники, торговцы, кожевенники, чесальщики льна, поденщики… Апостол Павел, ученик раббана Гамлиэля Старшего, шил палатки (Деян. 18: 3).
«Фарисеи ведут строгий образ жизни и отказываются от всяких удовольствий» (Иосиф Флавий. Иудейские древности, 18, 1, 2) – так бывший фарисей Иосиф Флавий отрекомендовал своим римским читателям «первую философскую школу иудеев».
– Значит ли это, что противопоставление физического и умственного труда – реальность более позднего времени?
– Во все времена было социальное разделение на людей интеллектуального и физического труда. Первое сулило определенные выгоды. Некий Хети, сын Дуауфа, египетский писец времени Среднего царства, так поощрял к прилежанию своего ученика:
Смотри, нет ремесла без господ,
Только писец – сам себе господин…
Когда подходит он к воротам, люди кланяются ему,
Смотри, не останется писец голодным,
Будут у него хорошие вещи из царского дома
(Поучение Хети, сына Дуауфа).
Так было в древности. Подобное социальное противопоставление – реальность нашего времени. Но нам придется отказаться от этой модели или, по крайней мере, значительно скорректировать ее, чтобы приблизиться к пониманию того, что происходило в римской провинции Иудея, где бедный дровосек, поденщик из далекой вавилонской диаспоры, становится главою Сената, а провинциальные рыбаки – апостолами.
Учеба и труд
Все свое время книжник отдавал Торе. Старался сродниться с ней: «Тот душой сросся с Торой, кто, сидя над ней, изошел кровавым потом… Только в том осуществляются слова Торы, кто умерщвляет себя ради нее» (Брахот, 73b). Все свои нужды он ограничивает самым необходимым: «Путь Торы таков: хлеб с солью ешь, воду мерой пей, живи в скорби, но над Торой трудись. Если ты делаешь так, то: блажен ты и благо тебе» (Пс. 128: 2). «Блажен ты – в этом мире. Благо тебе – в мире будущем» (Авот, 6, 4). «Кто обрел слова Торы – обрел жизнь в будущем мире!» (Авот, 2, 7) – говорил Гиллель.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе