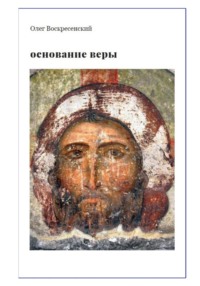Читать книгу: «ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ. Опыт русского православного миссионера из Америки», страница 14
Лично, свободно, ответственно и осведомлённо?
Однако возможно ли это? И существует ли тот голос, который не диктует человеку свою волю извне, а принадлежит ему самому? Христианство заявляет, что да, существует, и этот свой собственный голос человек способен и даже обязан отличать от всех остальных, ему лично не принадлежащих. Предполагается, что человеку предоставлена не только полная свобода в выборе решения, но и осведомлённость, достаточная для того, чтобы этот выбор сделать правильно, то есть в соответствии с Божественным замыслом. В душе своей человек всегда способен найти либо одобрение, либо порицание каждого своего шага и каждого принятого им решения, а следовательно, не должен и не может искать оправдания своим ошибкам в подневольности или бессознательности сделанного им выбора. Поступая по вере в этот внутренний (то есть свой собственный) голос, человек тем самым берёт на себя полную ответственность за последствия сделанного им выбора, признавая вместе с тем существование неминуемых противоречий между различными подтверждающими и опровергающими правильность этого решения доводов и аргументов. Отвергая или вовсе не признавая этот голос, человек не делает его несуществующим или менее авторитетным, но, поступая вопреки ему, берёт на себя, таким образом, и ответственность за этот шаг.
Чем же отличается такое христианское сознание от рассмотренных выше образов мышления (научного и эстетического)? Вероятно, тем, что оно честно признаёт и предполагает за человеком способность и даже обязанность принятия собственного решения, а значит, и полную личную за него ответственность. Уже мировоззрение ветхозаветных израильтян полагало всякое без исключения знание моральным, то есть имеющим Божественное происхождение, и поэтому неотъемлемо включающим в себя элемент личной ответственности человека за его утверждение, сохранение, передачу и применение. Христианство наследовало этот образ мышления и пронесло его через столетия, неустанно напоминая о нём всякому, кто пытался спрятаться от него за лозунгами об объективности науки или чистоте искусства.
Очевидно, что эта свобода от необходимости принятия личного решения и в строгом научном мышлении, и при восприятии произведения искусства мнима и иллюзорна. В конце-то концов, от учёного требуется и ожидается, что решение он примет не только благодаря некоторым фактам, но и вопреки некоторым другим, а также в отсутствии некоторых третьих. Строгое следование протоколу научного исследования создаёт лишь иллюзию объективности и личного невмешательства, и, как следствие, иллюзорно же снимает с человека ответственность за акт личной веры, позволяя ему с чистой совестью называть принятое им решение «научным фактом». Так, например, в спорах о состоятельности дарвиновской теории происхождения видов с самого её зарождения и по наши дни, сторонники этой теории приводят в качестве доказательства её истинности множество фактов, её подтверждающих, а противники – немалое же число фактов, ей противоречащих. И тем, и другим, таким образом, известны и те и другие аргументы, но сторонники теории, тем не менее, принимают её на веру, ссылаясь при этом на то, что наука находится в постоянном поиске и её развитие постепенно, но непременно позволит разрешить имеющиеся на настоящий момент противоречия (обнаружатся переходные формы, новые биологические виды и т. д.). Само же систематическое научное наблюдение за биологическим видами в течение нескольких последних столетий, между тем, зафиксировало исчезновение с лица земли нескольких сотен тысяч из них, в том числе довольно крупных высокоразвитых (скажем, млекопитающих) организмов, в то время как появление ранее не наблюдавшихся (!) видов за этот же период времени той же наукой отмечено в количестве буквально единиц, да и то не бесспорных и на уровне бактерий. Другими словами, научным наблюдением эта теория не подтверждается, но объявляется в качестве «общепринятой» и едва ли ни «единственно верной», несмотря на это и множество других (например, пресловутое «недостающее звено») признаваемых обеими сторонами научных наблюдений, свидетельств и фактов, с нею совершенно не совместимых. По мнению части учёных, например, за фактором «случайности» (random selection) кроется не отсутствие упорядоченной причинности и закономерности, а либо заведомый отказ её искать (например, ввиду её ошеломляющей сложности), либо заведомое непризнание той причинности, которая не вписывается в атеистическую картину мира. С другой стороны, теория Божественного творения, разрешающая или снимающая эти противоречия, дарвинистов, по сути, не устраивает по той же самой причине: всякую мистичность и та́инственность, креационистов они воспринимают и понимают как «заведомую неизвестность», мешающую им согласиться с этой теорией. И тем, и другим, таким образом, требуется акт свободного и личного выбора для преодоления в своём решении того зазора, которые неминуемо и неизбежно существует между недостижимым абсолютным знанием и тем объёмом знания, которым здесь и сейчас обладает и оперирует исследователь. Немало учёных, честно и последовательно рассмотрев доводы за и против веры в Бога, приходят к выводу о том, что атеистическая доктрина возникновения и существования вселенной (в особенности жизни и сознания) требовала бы от них пренебрежения гораздо большим количеством фактов, имеющих гораздо большую научную и мировоззренческую значимость, чем теистическая и, в частности, христианская доктрина. «Я недостаточно религиозен, чтобы быть атеистом» – так, не без изрядной доли иронии, назвали свою книгу христианский апологет Турек и богослов Гейслер.183
Тот же самый принцип, по-видимому, оказывается справедливым и в отношении произведений искусства, которые, с одной стороны, воздействуют на ценителя прекрасного помимо его воли, заставляя его неизъяснимо полюбить одного художника и отвергнуть другого, восторгаться одним полотном и остаться абсолютно равнодушным к другому. Однако, с другой стороны, ведь и эстету приходится иметь дело с выбором, хотя, как это часто случается в области искусства, менее осознанным и почти интуитивным. Внимательный к себе и другим человек, тем не менее, заметит за собой, что, например, одному художнику он легко и радостно прощает отдельные неудачи, встречающееся в его работах техническое несовершенство и даже, может быть, какие-то не вполне приглядные эпизоды его личной жизни, а у другого всё то же самое оказывается совершенно неприемлемым и недопустимым.
Мой друг-физик, в конце концов, признался мне, что вопрос о бытии Божием он для себя решил отрицательно просто потому, что ему хотелось решить его для себя как-то так, чтобы более к нему не возвращаться и целиком отдаться своей научной деятельности и академической карьере, а на тот момент отвержение Бога ему представлялось именно таким наиболее, по его словам, практически удобным решением. Мне, конечно, ужасно жаль, что моего свидетельства оказалось недостаточно, но, по крайней мере, он уже не пребывает в заблуждении о том, что какой-то набор фактов или, наоборот, недостаточность каких-то доводов «окончательно уверили» его или «заставили» провозгласить себя убеждённым атеистом – он сам, лично и свободно сделал этот выбор. Надеюсь также, что присущая ему научная и личная честность, а также трезвенность ума будут постоянно напоминать ему об этом и побудят в какой-то момент пересмотреть своё решение.
* * *
Ещё со студенческих времён особенно запомнился мне один из многих и бесконечных споров, которые мы, будущие школьные учителя-филологи, вели между собой и с нашими преподавателями о том, почему и за что мы любим одних писателей или поэтов и не любим других, а также, конечно, почему одним нравятся одни их книжки, а другим другие. Более или менее казённые (важно иметь в виду, что дело происходило в советские времена в «идеологическом» вузе) и классические теории на этот счёт нам по молодости представлялись устаревшими и неудовлетворительными, а житейские мудрости типа «о вкусах не спорят» – неприемлемыми, ибо именно о вкусах-то мы как раз и спорили. При этом, когда речь заходила о поэзии, то Пушкина, по определению, любили все без исключения, но зато все остальные стихотворцы – от античности до современности – расходились, что называется, нарасхват, и почти неизменно находился среди нас хоть кто-то, готовый за своего любимца лечь костьми и, соответственно, кто-то именно этого поэта глубоко презиравший.
В одной из таких баталий мне выпало защищать творчество моего кумира В. С. Высоцкого, в то время ещё живого, выступавшего с концертами, игравшего в театре и в кино, выпускавшего пластинки и лишь немногим известного в качестве собственно поэта, то есть – своим стихами, не положенными на песни, которые распевают под дымок костра или в прокуренных кухнях. Естественно, почитатели более традиционных служителей поэтической музы посматривали на меня несколько свысока и предъявляли мне довольно длинный список того, что им представлялось несовершенствами в его поэзии: несложные глагольные рифмы, смешение жанров и стилей (например, философской лирики и просторечья), фактические неточности (очевидцев не «сжигали на люди кострах») и мн. др. Я, естественно, отчаянно защищал своего любимца, отлично, при этом понимая, что многие из этих претензий вполне основательны и должны бы, казалось, и меня, владеющего некоторым аппаратом литературоведческого анализа текста и воспитанного на вполне классических образцах поэзии, смущать не менее моих оппонентов. Этого, однако, почему-то не происходило. Я переходил на все его спектакли, пересмотрел все его фильмы, по сотне раз переслушал все его песни, перечитал большинство известных на то время его стихов и, конечно, знал и замечал в них и сильные стороны его таланта, и, так сказать, творческие неудачи.
Далеко не во всех спорах рождается истина, и то, что родилось в нашей тогдашней перепалке, тоже, может быть, далеко не бесспорно, но в результате немалых дебатов и препирательств пришли мы тогда вот к какому довольно широкому обобщению: мера любви определяется не столько перечнем достоинств её предмета, сколько тем, как много мы готовы ему простить. То есть любовь – это акт веры, покрывающей тот самый разрыв, который всегда существует между идеалом и его реальным воплощением, будь то любимый актёр, любимая книга или просто – любимый или любимая. Другими словами, любовь – парадоксальна, поскольку она всегда не столько «за то, что», сколько «несмотря на то, что», а значит, в ней неизбежно наличествует и акт веры, свободного личного и ответственного выбора.
* * *
Именно такой образец любви являет нам Своей жизнью и Своей крестной смертью Христос: «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками».184 Заметим, что умер Он не за то, что мы обладаем185 какими-то качествами и свойствами, достойными Его любви и жертвы, а, как раз, несмотря на то, что мы безнадёжно их лишены. Разговор о вере и неверии человека в Бога оборачивается, таким образом, своей, может быть, отчасти неожиданной стороной – вопросом о вере Бога в человека. Ведь это Ему пришлось совершить акт веры, покрывающий разрыв между тем, что мы являем собой в реальности, и тем, ради чего Христу стоило принимать крестные мучения. Величину же этого разрыва каждый трезво относящийся к себе человек вполне себе представляет, а заблуждающимся на свой счёт стоит лишь обратиться к своим недругам, и завышенная самооценка сразу станет очевидной. «Цените своих врагов, – гласит древняя мудрость, – ибо они первыми замечают ваши недостатки». Настоящий друг, может быть, скорее умрёт за нас, чем доставит нам такую неприятность или разочарует нас в самих себе. Заметим, однако, что для этого истинному другу абсолютно необходимо любовью преодолеть в себе те сомнения и те разочарования, которые мы ему доставляем, – то есть актом свободной и личной веры.
Как часто христиане слышат от неверующих обвинения в безумии, в отвержении доводов разума и погружении во тьму иррациональных и бессмысленных предрассудков. И как часто верующий человек не находит ничего лучшего, как сокрушённо развести руками, слыша доводы, в свою очередь, кажущиеся ему в последней степени наивными и неразумными. Ну как объяснить человеку, в простоте душевной признающемуся вам, что он «не то, чтобы отрицал Бога, но просто не очень религиозен», что подобная попытка уйти от выбора, в свою очередь, является самым что ни на есть настоящим выбором?! Не признавать за Богом Его бытия и, соответственно, Его роли и места в жизни человека – как раз и значит отрицать Его, отказывать Ему в том, что Ему принадлежит по достоинству и по праву. Очевидно, не столько само по себе признание бытия Божия представляет собой затруднение для такого «рационального» человека, сколько тот самый существенный вывод, который из этого решения неизбежно вытекает: если Бог есть, то Он – Господь мой. Можно ещё более или менее безопасно для своей репутации в академических и деловых кругах заявить о своей готовности допустить существование «некоей высшей субстанции», но уступить этой «субстанции» господство над собой оказывается зачастую труднее, чем согласиться на логически совершенно невозможную «нерелигиозность». О таких, представляющих себе веру в Бога в качестве чего-то второстепенного и необязательного, Клайв Льюис писал: «Христианство, если оно ложно, не имеет значения, а если истинно, то имеет бесконечную важность, единственное, чем оно не может быть, – это умеренно важным».186
Но ведь живут же некоторые люди и не задумываются ни над какими богословскими вопросами. Просто растят детей, трудятся и отдыхают, зачастую вполне добропорядочно и как будто вполне благополучно, и, если никто не пристаёт к ним с навязчивыми проповедями, то так и умирают, не решив ни для себя, ни для других этой жизненной дилеммы. Мало того, именно устремлённость к благополучию и добропорядочности делает этих людей настолько занятыми и настолько поглощает всё их время и внимание, что для поисков ответов на все эти вопросы у них просто не доходят руки. Возможно ли вовсе обойтись без веры и, как это принято в естественно-научном обиходе, довольствоваться одними только фактами? А, может быть, дело только за тем, чтобы собрать достаточно свидетельств и фактов для приведения человека к желаемому выводу неминуемо и неизбежно, помимо всякого вмешательства его воли и исключая тем самым всякую необходимость в «человеческом факторе»? Казалось бы, да – ведь наука тем и занимается, что на основании достаточного количества фактов и свидетельств выводит законы, в свою очередь, действующие объективно и независимо от человеческого сознания.
Ни тот, ни другой (ни обывательский, ни высоконаучный) из приведённых обходных манёвров вокруг ключевого вопроса о вере не выдерживают серьёзной критики. Помнится, в старом фильме «Берегись автомобиля», эстонский пастор-Банионис говорит автомобильному воришке Деточкину-Смоктуновскому: «Все верят в Бога. Одни верят, что Он есть, другие – что Его нету». Так уж Он устроил этот мир, что третьего не дано, то есть перед нами то, что называется «бинарная оппозиция». Совершенно бессмысленны и оправдания типа «я ещё не готов уверовать» или «я – на пути к вере», ибо решение произносящим эти слова человеком, таким образом, уже принято, и по нему он уже сегодня (а не по окончании его земного пути) судим Богом. И это не беда, если человек подобно Фоме «неверующему» будет постоянно испытывать свою веру, ища ей всё новые утверждения и, тем самым, укрепляясь в ней. Беда, если он подобно Иуде, отвергнет Христа, ища оправдания своему неверию в каком-то ином «благе»: будь то тленное материальное богатство или не менее тленная земная слава.
В разных людях и в разных жизненных обстоятельствах различные составляющие душевной деятельности человека (разум, чувства, воля) проявляются в различной мере и степени с преобладанием той или иной из них за счёт относительного ослабления других. Отсюда, очевидно, происходит и то великое многообразие человеческих характеров и личностей наряду с объединяющей всех людей потребностью в вере. Одни приходят к вере в Бога, восхищённо слушая «Литургию» Рахманинова, другие – критически исследуя философию Декарта, третьи – не видя и не слыша ничего, кроме подавляющего личного горя или всеобъемлющей радости, четвёртые – да просто, что называется, за компанию!
* * *
Однажды мне показалось интересным и потенциально полезным собрать воедино все известные мне «доказательства» бытия Божия, чтобы при случае предлагать сразу весь перечень ищущему веры в Бога человеку, желающему, подобно персонажу из старой доброй комедии, чтобы я «огласил весь список». Слово «доказательство» по понятным, я думаю, причинам взято мною в кавычки, ибо никакой стопроцентно действующей формулы, в которую можно было вставить свои личные параметры и на выходе получить верующего человека, как только что было показано, в принципе, быть не может. На протяжении истории человечества, однако, подобные попытки предпринимались неоднократно и многим людям, по-видимому, помогали, по крайней мере, соотнести свой собственный духовный поиск с его выдающимися и малоизвестными образцами. Более точно следовало бы, конечно, называть эти доказательства свидетельствами в пользу веры в Бога, но в обиход вошло именно это латинское «argumentum», со времён средневековья употреблявшееся в таких случаях. Не претендуя на полноту и систематичность, это собрание доказательств, тем не менее, обладает некоторой ценностью ввиду того, какую они могут сыграть в духовном пути различных аудиторий и отдельных людей роль. Например:
– первого шага на пути к вере;
– последнего недостающего фактора на этом пути;
– снятия предрассудочных преград;
– расширения кругозора в область духовного и божественного;
– оснащения оружием защиты веры от нападок;
– оснащения инструментом миссии;
– укрепления в вере;
– гимнастики и дисциплины ума.
Начал я с 20 доказательств, приведённых в одном из моих семинарских учебников187, но список этот, естественно, со временем редактировался, пополнялся188 и на сегодня выглядит следующим образом:
Первое (Фома Аквинский, классическое): движение
В природе происходит движение. Ничто не может начать двигаться и изменяться само по себе, для этого требуется внешний источник действия. Следовательно, должно существовать нечто внешнее по отношению к постоянно изменяющейся и движущейся вселенной, являющееся первоначальным источником всякого движения, не будучи само по себе движимо ничем иным. Это и есть Бог – недвижимый Движитель.
Иными словами, если бы не существовало ничего помимо материальной вселенной, то не существовало бы и того, что привело её в движение. Но она движется и изменяется. Следовательно, существует нечто внешнее по отношению к пространству, времени и материи, приводящее вселенную в движение.
Второе (Фома Аквинский, классическое): причинно-следственное
Каждое следствие имеет внешнюю причину, которой оно обязано самим своим бытием. Вселенная существует, следовательно, помимо неё, существует причина, которой она обязана своим существованием и бытие которой не нуждается в причинности. Эта «беспричинная причина», первопричина всего последующего, и есть Бог.
Иными словами, кроме всего сущего есть лишь небытие. Небытие не может быть причиной бытия. Следовательно помимо всего сущего должно также существовать нечто, не нуждающееся для своего бытия в какой-либо причине, но способное быть причиной для существования всего сущего.
Третье (Фома Аквинский, классическое): независимое бытие
Поскольку все предметы мира могут быть или не быть, то рано или поздно в бесконечности времени они перестали бы существовать. Однако, судя по тому, что мир существует, должно существовать нечто, существующее непременно, независимое в своём бытии, и благодаря которому существует и всё остальное во вселенной. Это абсолютно независимое и совершенно самодостаточное и есть Бог.
Иными словами, мы наблюдаем, что всё в этом мире появляется и исчезает со временем, то есть обладает качеством «небытия». Если и когда это качество со временем реализуется, то всё сущее перестаёт быть. Это небытие не может породить бытие, а, поскольку вселенная существует, значит она была порождена тем, что по самой своей природе обладает качеством бытия, т. е., не может не быть.
Четвёртое (Фома Аквинский, классическое): совершенство
В окружающем мире наблюдается последовательное иерархическое возрастание качества и сложности строения явлений, предметов и существ (например, от насекомого до человека), всеобщее стремление к совершенству и полноте бытия. Следовательно, должно существовать нечто абсолютно совершенное, являющееся источником бытия и образцом всякого совершенства. Это и есть Бог.
Иными словами, высшая степень обладания качествами добра, ума, красоты и т. д., которые мы признаём идеалами и полнотой бытия, необходимо требуют и существование обладателя всеми этими качествами в совершенной степени и полноте, т. е. Бога.
Пятое (Фома Аквинский, классическое): телеологическое
В окружающем мире наблюдается определённый, целенаправленный на поддержание жизни порядок и стройность, происхождение которых невозможно приписать самому миру. Этот порядок заставляет предположить существование некоего разумного организующего начала, провиденциально установившего этот порядок согласно своему всевышнему замыслу. Это начало и есть Бог.
Иными словами, попытка сложнейшую гармонию мира объяснить в конечном итоге случайным стечением множества непредсказуемых факторов равна отказу от признания его осмысленности и, следовательно, вообще, от возможности понимания природы, настоящего состояния и предназначения жизни. Следовательно, приходится согласиться, что миропорядок был предустановлен высшим разумом в соответствии с его замыслом и волей.189
Шестое (Иммануил Кант): нравственное
Всем людям свойственно нравственное чувство/убеждение, категорический императив. Поскольку это чувство не всегда побуждает человека к поступкам, приносящим ему земную пользу, следовательно, должна существовать некоторая норма нравственного поведения, лежащая вне этого мира. Всё это с необходимостью требует существования бессмертия, высшего суда и Бога, учреждающего и утверждающего нравственность, награждая добро и наказывая зло.
Или, словами самого Канта: «Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом: звёздное небо над головой и нравственное чувство внутри».190
Седьмое (Августин, Кальвин): врождённая идея
Всякий нормальный человек рождается с идеей о Боге, внедрённой в само его сознание, хотя эта идея и бывает подавлена или извращена в людях неправедных. По мере роста человек всё яснее осознаёт её. Критические жизненные ситуации зачастую побуждают человека к её осознанию, осмыслению и принятию (или отвержению). Этой идее о Боге должна соответствовать и реальность Его бытия.
Иными словами, ощущение верности идеи о Боге уже присуще человеку от рождения, и сам этот факт свидетельствует о бытии Божием.
Восьмое (Апостол Павел): мистическое
Человеку свойствен прямой мистический контакт с Богом, приводящий его в экстатическое состояние. Этот опыт чудесного соединения, встречи с живым Богом настолько уникален и настолько ошеломляющ, что сам по себе уже является свидетельством бытия Божия.
Иными словами, чуда богоявления в жизни человека может оказаться вполне достаточно для его уверования в бытие Божие.191
Девятое (Августин): истина
Искать ответа на вопрос о бытии Божьем имеет смысл, только исходя из того, что истина существует. Бог, по определению, является и Богом истины, и истинным Богом, а, следовательно, Он и есть Истина. Эта Истина с большой буквы является необходимым условием существования всякой другой истины, что, в свою очередь, означает и существование Бога.192
То есть, Пилат, задавая Христу вопрос об истине (Ин. 18:38), выражал своё сомнение в бытии Божием самому Богу. Только исходя из того, что истина (та или иная) существует, возможно спорить и о бытии Божием. А сам этот исходный постулат уже свидетельствует о Боге.
Десятое (Ансельм): онтологическое
Существование в реальности более совершенно, чем лишь в сознании. Бог, по определению, есть высшая мера мыслимого совершенства. Если бы Бог существовал лишь в сознании, то можно было бы представить и нечто более совершенное, то есть не только мыслимое, но и существующее. Но, поскольку это невозможно, то Бог существует не только в сознании, но и в реальности.
Иными словами, человеку свойственно понятие о бесконечном и совершенном, а существование является обязательной и необходимой частью совершенства. Следовательно, бесконечное и совершенное – то есть, Бог – существует, постольку совершенство по определению и с необходимостью включает в себя и бытие.
Одиннадцатое (Аристотель): от конечности
Человек осознаёт свою конечность, ограниченность и смертность. Откуда происходит это сознание? Бог постоянно напоминает ему об этом через Свою бесконечность, безграничность и бессмертие. То есть конечность человека сама по себе является доказательством существования бесконечного Бога.
Иными словами, само наше конечное земное существование являет нам образ бесконечного и вечного Бога и, следственно, свидетельство Его бытия.
Двенадцатое (Августин): от безутешности
Человек безутешен. Он жаждет благословения. Этой жаждой наделил его Сам Бог, чтобы человек нигде не мог найти утешения, пока не обратится к Богу. Присутствие этой жажды в человеке является косвенным доказательством бытия Божия.
Или, словами, самого Августина из его «Исповеди»: «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе».193
Тринадцатое (Беркли): от восприятия
Человек способен воспринимать (чувствовать) окружающие его предметы, что не может являться ни следствием каких-либо физических явлений (материя «пассивна»), ни волеизъявлением самого человека. Следовательно, эта человеческая способность к восприятию подразумевает существование Бога как единственного разумного объяснения этой способности.194
Четырнадцатое: экзистенциальное
Бог являет Себя людям через Евангельское откровение – провозглашение Своей любви, прощения и оправдания человека. Человек, принявший это откровение, сразу узнаёт и Бога. Никакого иного свидетельства не требуется и быть не может. Бытие Божие не столько «доказывается», сколько «познаётся», и это познание не интеллектуально, а экзистенциально.
Иными словами, бытие Божие собственно и «доказывается» неверующему путём провозглашения Христова благовестия о Его любви, прощении и оправдании и его принятия Бога.
Пятнадцатое: чудесное
Чудо – это явление, единственно объяснимое существованием и непосредственным сверхъестественным вмешательством Бога. Существует множество засвидетельствованных фактов чудесных событий. Следовательно, существует множество событий, единственным убедительным объяснением которых может быть существование и сверхъестественное вмешательство Бога. А, значит, Бог существует.
Иными словам, Бог являет Себя людям путём сверхъестественных событий в их жизни, деятельно участвуя в их жизни, вмешиваясь в ход человеческой истории, и тем самым доказывая Своё бытие.
Шестнадцатое: интеллектуальное
Мы знаем, что мир устроен разумно познаваемым. Следовательно, либо и познаваемый мир, и наш познающий его разум являются продуктами чистой случайности, либо и то, и другое являются продуктами высшего интеллекта. Случайность нам представляется крайне маловероятной. Следовательно, и разумный мир, и сам разум являются порождением высшего разума, то есть Бога. Значит, Бог существует.
Иными словами, объяснение происхождения и устройства мира и нашего сознания счастливой случайностью является «интеллектуальным самоубийством», т. е., отказом от способности и возможности разумного познания мира и человека.
Семнадцатое (К. С. Льюис): от объекта
Каждому нашему естественному внутреннему желанию или стремлению соответствует реальный объект, способный это желание удовлетворить. Однако присутствует в нас и такое желание, которое не может быть удовлетворено ничем временным, ничем земным, ничем тварным. Следовательно, должно существовать нечто превосходящее всё временное, земное и природное. Это «нечто» люди и называют Богом и вечной жизнью с Ним.195
Иными словами, реальность Бога доказывается реальностью человеческого стремления к Нему.
Восемнадцатое (о. Павел Флоренский): эстетическое
Музыка Баха, поэзия Пушкина, живопись Рублёва и т. д. существуют, следовательно, Бог есть.196
Иными словами, самые гениальные художники признаются в том, что они не сами сотворили свои шедевры, но они им были дарованы, открыты, явлены, ниспосланы, нашёптаны и т. д. свыше, а внимательному, тонко чувствующему и вдумчивому зрителю (читателю, слушателю и т. д.) в них раскрывается высшая гармония и мудрость, которая и есть Бог.
Девятнадцатое: религиозное
В религии, культуре и искусстве множества людей разных времён и разных стран имеются свидетельства очень схожего опыта их общения с Божественным. Невозможно допустить, чтобы все они настолько одинаково ошибались в описании природы и содержания этого своего религиозного опыта. Следовательно, Божественное существует.
Иными словами, попытки объяснить схожесть духовного опыта разных времён и народов естественными факторами сталкиваются с необходимостью подтасовок и натяжек, в то время как объяснение его общностью самого этого религиозного опыта вполне логично и подтверждается свидетельствами их материальной и духовной культуры. Следовательно этот опыт истинен, и Бог на самом деле есть.
Двадцатое (Секст Эмпирик): общественное
Вера в Бога – в верховное Существо, Которому по праву надлежит поклонение и прославление от всего сущего – является общей чертой истории и культуры практически всех народов мира. Невероятно, чтобы все эти люди были неправы относительно этого самого важного и значительного факта их жизни. Гораздо более вероятно, что они были правы, и, следовательно, Бог существует.197
Иными словами, легче допустить, что некоторые люди в течение некоторого времени ошибались по некоторым малозначительным вопросам, чем то, что большинство людей ошибалось в течение практически всей истории человечества по поводу самого главного в их жизни. А, поскольку атеизм является учением относительно недавним, исповедуется всего десятой частью человечества и не придаёт никакого серьёзного значение вере в Бога, то и доверять ему, конечно, не следует.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе