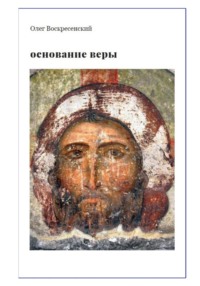Читать книгу: «ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ. Опыт русского православного миссионера из Америки», страница 16
2. однако Бог причастен твари в её проявлениях, энергиях, сонаправленных Божественным, и совместное действие (синергия) в деле спасения усвояет Бога человеку и человека Богу
3. «через непрестанное моление [человек] прилепляется к Богу» и «при неизреченном посещении усовершающих озарений обретает боготворящее общение Духа» (Г.П.)
Или, словами Григория Паламы: «Человеческий ум, когда становится подобен ангелам бесстрастием, […] тоже может прикоснуться к Божьему свету и удостоиться сверхприродного богоявления, сущности Божией, конечно, не видя, но Бога в Его божественном проявлении, соразмерном человеческой способности видеть, видя».229
Доказательство семьдесят восьмое (мусульманское): от сновидений
Явление Христа во сне множеству мусульман (в т. ч. номинальных), согласно вере которых сон считается собратом смерти и малой смертью, а во время сна душа покидает тело и временно входит во владения Аллаха230, приводит их к вере в Него как своего Господа, Спасителя и Бога.
Иными словами, свидетельство сновидений в некоторых культурах оказывается достаточно авторитетным и убедительным доводом для признания божественности Христа и истинности веры в Него.
Доказательство семьдесят девятое (Клайв Льюис): от раскаяния
Испытываемые человеком угрызения совести и чувство личной ответственности за совершаемое зло открывают ему глаза на милостивого Бога, способного простить его греховные поступки и решения.
Иными словами, только путём признания своей греховности и искреннего покаяния возможно обрести откровение о Боге. Или, словами, К. Льюиса: «Когда вы знаете, что больны, вы прислушиваетесь к врачу. Когда вы поймёте, что ваше положение безвыходно, вы начнёте понимать, о чём говорят христиане».231
Доказательство восьмидесятое (Лейбниц): теодицея
Основанием для отрицания Бога является «проблема зла»: поскольку зло присутствует в мир, то Бог либо не всемогущ, либо не всеведущ, либо не вездесущ, либо не всеблаг, либо не существует. Христианская теодицея (от греч. «богоправдание») – Бог создал человека свободным и нравственным, т. е. творящим зло и осуждающим зло – снимает это противоречие.232
Иными словами, будучи Личностью нравственной и свободной и создав человека по Своему образу и подобию, т. е., тоже свободным и нравственным, Бог тем самым допустил возможность зла в мире, альтернативой которому может быть либо неживой мир, либо небытие (и того, и другого во вселенной предостаточно). Следовательно, это – лучший из возможных миров, и присутствие в нём зла не отрицает бытия Божия, а, наоборот, подтверждает его.
Доказательство восемьдесят первое (Ириней Лионский): теозис
Земные, материальные и конечные цели человеческого бытия не достойны тех усилий, которые для их достижения приходится прилагать, и страданий (земных и вечных), которые ради них приходится испытывать. Без Бога жизнь человека несчастна и бессмысленна. Только в обо́жении (теозисе) человек обретает цель и осмысление своего собственного бытия. Следовательно, признание бытия Божия необходимо человеку для оправдания своего существования и обретения смысла жизни.
Или, словами св. Иринея Лионского: «Сын Божий стал сыном человеческим для того, чтобы человек сделался сыном Божиим».233 Только вера во Христа, Бога и Человека, позволяет ответить на вопрос «зачем?» – ради достижения человеком обожения, «последней, заключительной стадии человеческой природы» (Иустин Попович).234
Доказательство восемьдесят второе: богослужебное
Бог являет Себя человеку не просто ещё одним объектом знания, а – Господом. Следовательно, бытие Божие становится явным тому, кто исповедует Его своим Господом, поклоняется Ему и прославляет Его в церковном и других служениях.
Иными словами, богопознание возможно лишь как богослужение – в прославлении Бога через следование Его воле и радостное признание Его величия. Не «вот – Бог», а «слава Богу»!235
Доказательство восемьдесят третье (от ИИ236): симуляционное
Современные учёные допускают, что наша вселенная может быть симуляцией, созданной высшим разумом. Это предположение удивительно близко к религиозной идее Творца.
Иными словами, «если мы допускаем, что наш мир создан некой высшей сущностью, то это уже почти определение Бога – внепространственного, разумного Творца».
Доказательство восемьдесят четвёртое (от ИИ237): двусоставность сознания
Сознание человека не может быть полностью сведено к нейрофизиологическим процессам. Его качественные характеристики – субъективный опыт, интенциональность, рефлексия – не выводятся из материи. Следовательно, в человеке присутствует нематериальное начало, аналогичное Божественному, или производное от Него.
Иными словами, исходная двойственность и двусоставность человеческой природы наилучшим образом объяснима наличием в нём Божественной со-природы и/или Божественным происхождением личностных качеств человека.
Доказательство восемьдесят пятое (Н. Бердяев): от страха смерти
Человеку свойствен страх смерти, порождающий, в свою очередь, множество других фобий и стрессов, отравляющих его земную жизнь. Избавиться от них возможно лишь по вере в бытие живого, всемогущего и всемилостивого Бога и вечную жизнь с Ним.
Иными словами преодоление «экзистенциального» или «мистического» страха (Н. Бердяев238) перед смертью, и, как следствие, перед бессмысленностью жизни, доступно человеку через встречу с Богом.
Доказательство восемьдесят шестое (Кьеркегор, Ясперс): от отчаяния
Даже самый отчаявшийся человек в критической ситуации может взывать: «Господи, помоги». Это не просто культурный шаблон, а экзистенциальное обнажение души. В человеке заложено «предельное доверие» к Богу как к последней инстанции. – ИИ
Или, словами К. Льюиса: «Бог шепчет нам в наших удовольствиях, вслух говорит с нашей совестью, но Он кричит в нашей боли – это Его мегафон, чтобы слышал оглохший мир».239
Доказательство восемьдесят седьмое: от Божественного замысла
Всё происходящее случается либо по какой-то причине, либо с какой-то целью. Происходящее по причине требует наличия предшествующего состояния вещей. Образование всего сущего из ничего возможно, таким образом, только по замыслу, а он подразумевает предвечный разум, который мы называем Богом-Творцом.
Иными словами, мир не мог возникнуть из небытия без Божественного на то замысла и Божественной на то воли, поскольку какая-либо иная «причина» его возникновения требовала бы чего-то уже существующего, а это – абсурд. Мир возник не «потому что», а «для», т. е. во славу Божию.240
Доказательство восемьдесят восьмое: от нехватки времени и материи (от цейтнота и дефицита)
Бытие Божие необходимо вытекает из того, что жизнь во Вселенной не могла бы зародиться без Его участия, т. е. сама по себе, поскольку для этого просто не хватило бы ни времени, ни «первичного материала»: вероятность случайного образования из аминокислот молекулы гемоглобина – один шанс из 10190 в то время, как возраст нашей Вселенной определяется примерно 1010 годами, а число протонов в ней 1070.
Или, словами астрофизиков Ф. Хойла и Ч. Викрамасингха: «Вероятность стихийного образования жизни из неодушевлённого вещества составляет один шанс из множества, выражаемого числом с сорока тысячами нулей. […] И если начало жизни не случайно, она должна быть созданием целеполагающего разума».241
Доказательство восемьдесят девятое: по определению
Бог, по определению, Сущий (Яхве/Иегова242), т. е. само Бытие и Первоисточник всякого последующего бытия. Следовательно, «Бога нет» это – оксюморон, а «Бог есть» – плеоназм.
Иными словами, если/когда человек отрицает бытие Божие, то он отрицает что-то или кого-то другого (идею, вероучение, идола и т. д.), а не Бога. Можно не признавать Его бытие, не соглашаться с ним, протестовать против него или игнорировать его, но, Бог, не обладая свойством небытия, при этом не перестаёт бытийствовать.243
Доказательство девяностое: текстологическое
Документально подтверждённое свидетельство о событии, наиболее полно являющем Бога людям – земной жизни Христа – дошло до нас рукописях, числом, сохранностью и древностью неизмеримо превосходящих любой другой документ древности, что само по себе уже свидетельствует о божественном вмешательстве в историю мира.
Иными словами, несмотря на все человеческие усилия, в течение первых трёх столетий прилагавшиеся к уничтожению следов богоявления, оно сохранилось в документальном историческом свидетельстве, как ни одно другое событие древности: 1) почти 28000 новозаветных рукописей, 2) коэффициент искажения – 0,02 %, 3) временной зазор между самыми ранними копиями и созданием оригинала – 15–20 лет.244
Доказательство девяносто первое: NDE (околосмертный опыт)
Обильное научное свидетельство об опыте людей, вернувшихся к жизни после клинической смерти, во-первых описывает состояние человеческой души вне тела и, во-вторых, обращает самих этих людей от материалистического к духовному образу их дальнейшей жизни. Следовательно, жизнь духа реальна, и бытие Духа Божия вполне возможно.
Именно религиозная, а не материалистическая интерпретация более полно и непротиворечиво описывает и объясняет переживания, образы и события околосмертного опыта людей, несводимого к нейрофизиологической деятельности уже умершего тела и мозга.245
* * *
Этот мой список ни в коем случае не является ни исчерпывающим, ни даже сколько-нибудь систематизированным и, конечно, может быть дополнен опытом множества людей и людских сообществ. Мне самому он, однако, помог сделать одно важное наблюдение, когда я предлагал его в разное время и в разных обстоятельствах разным группам людей с просьбой отметить в перечне три самых убедительных и три самых неубедительных, с их точки зрения, «доказательства». Этот, соглашусь, далёкий от лабораторной чистоты эксперимент выдавал, тем не менее, довольно устойчивый результат: те, кому нравилась одна группа «доказательств», на дух не переносили другую, а те, кому нравилась другая группа, последовательно отвергали первую. Сами группы варьировались довольно широко по возрасту, образовательному уровню и другим социокультурным факторам: в молодёжном православном лагере они были, например, совсем иными, чем на курсах повышения квалификации учителей-гуманитариев. Однако контрастность мнений уже свидетельствовала о многом: не может быть и, видимо, не до́лжно искать какого-то единого, раз на всегда данного и стопроцентного средства или некоего универсального «разводного ключа», который подходил бы ко всем без исключения гайкам и болтикам человеческой личности. Только терпеливое, последовательное и ни в коем случае не навязчивое свидетельство о Боге не знающему о Нём или отвергающему Его человеку может привести, в конце концов, к тому, что … он на вас же обратит свои упрёки и даже, возможно, свой гнев. «Почему же вы мне сразу-то об этом не сказали и так долго ходили вокруг да около того единственного аргумента, который, на самом деле, важен и решает всё дело!» – этими или почти этими словами выразил один мой знакомый свою досаду и даже, как он признался, гнев на всех тех, кто в течение всей его на тот момент сорокалетней жизни, учёбы в школе и университете, множества семинаров, лекций и проповедей умудрился ни разу не рассказать ему сколько-нибудь толково о том, что новозаветные события, на самом деле, являются историческими, а сведения о них – исторически достоверными. У нас в семье было принято, когда речь заходила о чём-то маловажном или даже совершенно бессмысленном, с иронией и мнимой досадой восклицать: «Вот ведь, вчера бы помер – так бы никогда об этом и не узнал…» В ситуации с моим сорокалетним знакомым всё было с точностью до наоборот: умри он годом или даже днём раньше, и не случись ему столкнуться с тем свидетельством, которое именно для него оказалось решающим и определяющим, не только в продолжение его земной жизни, но и в жизни вечной потеря могла бы оказаться невосполнимой.
Другими словами, причиной неверия многих людей является не отсутствие вполне убедительных свидетельств и доводов, которые могли бы оказаться решающими в их духовном поиске, а невозможность, неумение или нежелание тех, кто этими свидетельствами и доводами располагает, поделиться ими с человеком. Благодаренье Богу, на невозможность – чисто техническую или какую-то ещё – мы можем списать лишь ничтожное число случаев, когда мы со своей стороны искренне хотели бы поделиться своей верой и сделали для этого всё от нас зависящее, но каким-то фатальным образом разговор этот никак не мог состояться.
* * *
В моей личной миссионерской практике, по крайней мере, гораздо чаще случается прямо противоположное, а именно, возможность поделиться своей верой возникает гораздо чаще, чем я как-то специально её ищу и нахожу, а порой и вовсе без каких-либо с моей стороны усилий. Всё, что мне остаётся – с благодарностью принять этот дар Божий и воспользоваться им по назначению.
Припоминаю ситуацию, когда от меня даже этого не потребовалось, и целая до краёв забитая лекционная аудитория услышала моё свидетельство веры абсолютно без моего ведома и даже желания. Я просто перепутал тему лекции. В тот день я должен был читать в двух разных университетах города одну лекцию по педагогике, и другую – об исторических основаниях христианской веры, но по ошибке (или, иначе сказать, провиденциально) открыл на своём ноутбуке вторую презентацию вместо первой. Не сразу, но до организаторов, очевидно, дошло, что приглашённый лектор читает студентам какой-то другой курс, и они мне стали из зала делать страшные глаза и знаки, которые я сослепу расценил как высшую степень одобрения – для многих моих аудиторий исторические свидетельства, и в самом деле, оказываются совершенно новыми и удивительными. По окончании пары им тоже не сразу удалось пробраться ко мне через плотную стену студентов, окруживших и долго донимавших меня своими вопросами. Только уже на кафедре, за чайком и печенюшками, коллеги со всей возможной деликатностью поинтересовались у меня, почему я вдруг решил изменить тему своего доклада, и мне пришлось совершенно искренне перед ними извиниться за происшедшее недоразумение. Лишь несколько позже, припоминая вопросы некоторых студентов, их лица и их глаза, я вдруг осознал, что, по крайней мере, кто-то из них сегодня услышал и обрёл для себя нечто, чрезвычайно важное и, может быть, решающее. А ведь я и не собирался, и не должен был в этот день читать им эту лекцию, и, обращаясь к ним, я принимал их за совсем других людей – аудиторию, ждавшую меня в совсем другом месте во второй половине дня. Эта «история про рассеянного профессора», конечно, скорее исключение, чем правило в моей лекционной практике, но сам тот факт, что мне дали провести презентацию до конца и потом за неё горячо благодарили, видимо, свидетельствует о том, что возможностей свидетельства и даже потребности в нём нам предоставляется гораздо больше, чем мы себе представляем.
* * *
Гораздо чаще верующий человек ищет себе оправдания в неумении как-то так деликатно и ненавязчиво подойти к этой тонкой материи и толково, но без занудства изложить то, что у него на сердце и на уме. Думается, что и это не случайно, ибо, как говорят, случайность – это псевдоним Бога, когда Он не хочет подписываться Своим собственным именем.246 Далеко не всякая оказия и отнюдь не любая ситуация располагает к такому разговору, и, может быть, медицинский принцип «не навреди» в неменьшей степени применим и уместен также и в отношении духовного здравоохранения. Расположить и настроить ум и сердце человека к слышанию и восприятию свидетельства мы сами, как правило, оказываемся не в состоянии, а потому, наверное, и заповедано верующему, как уже упоминалось, не всюду и везде, к месту и не к месту «отчитываться» в своей вере, но «быть всегда готовым дать отчёт в своём уповании с кротостью и благоговением». Стечением обстоятельств, ходом событий, встреч, размышлений и разговоров Господь создаёт и подготавливает в уме и сердце человека ту почву, в которую в должное время может быть посеяно и свидетельство о Нём Самом – личное, историческое, естественно-научное, мистическое, философское и т. д. Как человек на него отзовётся? Ожесточит ли свою душу, засушит и сгноит этот посев? Или позволит ему взрасти, окрепнуть и принести обильный плод? Это решение принадлежит слышащему, от свидетельствующего же зависит лишь готовность, то есть желание и способность этим свидетельством поделиться.
* * *
Описанному в самом начале этой книги случаю предшествовала ещё одна история, а именно, моего поступления в Джорданвилльскую Семинарию. В эту историю пока ещё ни один человек из тех, кому случилось её услышать, не поверил, хотя странного и сверхъестественного в ней содержится, мне кажется, ничуть не более. Если и стоило чему-то поистине дивиться в тот продувной сентябрьский день, когда мы с моей недавней знакомицей Машей Ш. ступили на святую Джорданвилльскую землю, так это – самой этой земле. Со струистого шоссе, по которому мы с ней приближались к закутанными в осеннюю пестрядь монастырским постройкам, открывался вид, требовавший немедленной перемены мысленного объектива на широкоугольник, а также полного отключения звука ради уже совершенно киношного эффекта сакрального безмолвия и затаённости. Проделав над собой эти нехитрые эволюции внимания, мы продолжали вдвигаться в расширившееся пространство кадра по мере того, как оно обволакивало и нас, и увязавшуюся за нами от самой автобусной остановки дворняжку с задумчивым выражением на морде, по-лошадиному утвердительно кивавшую в такт каждому своему шагу и каждой своей собачьей мысли, до которой, впрочем, нам с Машей не было никакого собачьего дела. Но поразительнее всего были, конечно, не эти сами по себе примечательные игры и фокусы изобретательного бытия, а подспудно присутствовавшее в них особое значение этого места, называемого Джорданвилль. Подсказать нам этот скрытый смысл, похоже, пытались со всех сторон на равном расстоянии окружавшие его погосты – русские, американские и общечеловеческие. Он же угадывался в нарочито неправильных изломах горизонта, разделявшего тут не, как ему полагается, небо и землю, а самую душу человеческую – на вполне дольнее и, наоборот, совершенно горнее. Одним словом, монастырь и он же – семинария, в которую мы с Машей приехали поступать на учёбу.
Понятно, что дали нам с ней от ворот поворот, ибо ни ей вписаться в жизнь и быт этой в остальном мужской обители, ни мне, едва ли ни полному на тот момент атеисту со вполне светским же набором привычек и взглядов на жизнь, влиться в бурсацко-монастырский уклад было решительно невозможно. Так, или почти так, мне и объявил своё высочайшее решение настоятель обители и ректор семинарии митрополит Лавр: дескать, тут не из безбожников делают верующих, а из верующих готовят священников. С чем и выставил за дверь. Мои жалкие аргументы, типа, а я, может, и уверую, как только хорошенько узнаю, во что, владыка даже не удостоил ответом, но пользу из этой первой аудиенции с ним я всё же извлёк. Так, например, я заметил в его глазах лёгкое разочарование, когда, вместо того, чтобы согбенно подойти к ручке за благословением, я, как мне казалось, вполне почтительно пожал ему протянутую руку и по своему интеллигентскому обыкновению осведомился, как, вообще, жизнь, и, в частности, как нравятся ему стоящие нынче погоды. Уже на следующий день, едва закончилась ранняя утреня, я предстал пред владыкой вновь – с тем же самым нижайшим прошением, но в гораздо более достойной момента позе. Не явив внешне ни малейшего удивления моей настойчивости, владыка на этот раз выдворил меня уже не сразу, но, впрочем, и не так, чтобы я опоздал на завтрак.
– Ну, допустим, вы уверуете и даже почувствуете призвание к священническому сану, – продолжил он как ни в чём не бывало нашу вчерашнюю беседу. – Шансов-то у вас всё равно никаких: ведь вы же были прежде женаты, а канон православной церкви запрещает рукоположение разведённых.
– Ага, – подумал я про себя. – Значит, вы, владыка, всё-таки внимательно просмотрели и мои документы, и мои заявления, и мою биографию!
Но это – про себя, а вслух я, нисколько не смутившись, предположил:
– Но разве не случалось в многовековой церковной истории прецедентов, когда от этого канонического правила приходилось отступить?
– Ну, почему же? В отдельных случаях и обстоятельствах, когда исключительная праведность и благочестие являли полное раскаяние и глубокую посвящённость кандидата духовному призванию, Церковь брала на себя такое дерзновение, – он на мгновение отвёл глаза несколько вправо и вверх, как бы перебирая в памяти имена и припоминая те самые особые обстоятельства.
– Ну вот! Значит дело моё не так уж безнадёжно! – радостно возопил я, но уже в следующее мгновение понял, что, кажется, отчасти поторопился, ибо взор настоятеля с очевидным усилием и неохотой вернулся откуда-то с предпоследнего яруса иконостаса и остановился на моём сияющем лике. На мгновение мне даже почудилось было, что он и в самом деле прикидывает, не выйдет ли из этого самодовольного сукина сына со временем какой-никакой святой отец. Но, во-первых, лишь на мгновение, и, во-вторых, только почудилось, и дверь за моей спиной была на этот раз прикрыта неторопливо, но плотно и с двойным проворотом ключа.
Явившись пред настоятелевы очи в третий раз на следующее же утро, я уже был почти уверен, что буду зачислен в бурсаки – настолько неожиданным показалось мне само согласие владыки на эту беседу. Правда, за прошедшие сутки успели произойти две знаменательнейшие встречи, о содержании которых, я уверен, владыка был осведомлён. Дело в том, что свалившись описанным ранее утром с неба в эту хранимую Богом обитель, не имея при себе никаких «верительных грамот» из прихода и не умеючи назвать ни единого имени в качестве поручителя или рекомендателя, я был, похоже, тут же причислен к чину кэгэбэшных шпионов, о чём косвенно свидетельствовала и сама моя неуёмная тяга к учёбе в Джорданвилле – пресловутом оплоте белогвардейского зарубежья и, следовательно, потенциально цэрэушной агентуры. Видимо, в качестве такового я и был познакомлен в тот день с одним из послушников, отличавшихся на эту бесовщину особым нюхом, до поступления в монастырь проведшим немалый срок в их злостном окружении. Ему-то я и выложил всю свою неловкую диспозицию: что вот, мол, ничего почти ни про Бога, ни про Церковь Его путём не знаю, но каким-то чудом я же был и крещён, и воспитан в православии, не иначе как молитвами деда, сельского священника-обновленца, расстрелянного в тридцать седьмом и… На этом месте я был прерван, история моя до третьего колена была выверена по составлявшимся и ведшимся, оказывается, в сём монастыре поминальникам всех за веру убиенных красной сатанинской властью, и чуть ли ни поздравлен в связи с этим обстоятельством. Надо сказать, что сам я себя действительно поздравил несколько позже, когда вышел уже поздним вечером под звёзды, щедро понатыканные по исподу небесной чаши, из тесненькой келейки о. Киприана, изливши в его глуховатые уши много всего ему ненужного, к случаю неуместного и к делу неподходящего. Соблюдая, однако, тайну этой моей собственной исповеди, скажу лишь, что дышать после этого в келейке святого старца было уже решительно нечем, и, если бы не его разрешительная молитва, распахнувшая двери и вынесшая меня вон, не испытать бы мне в жизни ни солоно-сладкой бурсацкой участи, ни горько-приторного иммигрантского счастья. Однако испытал и, думаю, именно вследствие облегчения души у отца-исповедника и именно вследствие моей неожиданной родственной причастности к лику невинных мучеников веры. Владыка Лавр, во всяком случае, смотрел на меня на следующее утро чуть-чуть будто бы благосклоннее и, вместо того, чтобы вытолкать взашей навязчивого просителя, только покивал сокрушённо и, ни слова не говоря, занёс руку для благословения, вписав тем самым в славную историю Джорданвиля строку о зачислении в семинаристы заведомого, как я теперь-то понимаю, невера и дремучего невежду в церковной и, уж тем более, монастырской жизни.
https://blogs.ancientfaith.com/glory2godforallthings/2015/04/06/the-mystical-reality-of-holy-week
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе