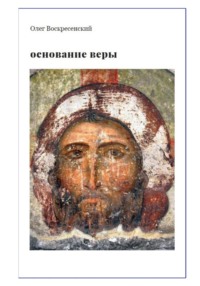Читать книгу: «ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ. Опыт русского православного миссионера из Америки», страница 13
* * *
Однажды, поздним вечером, по окончании застолья, на котором присутствовали и верующие, и неверующие, кто-то предложил помолиться о том, чему эта встреча была посвящена (кажется, приближался один из праздников, и мы обсуждали подготовку к нему). Один из нас прочёл тропарь и молитву по молитвослову, двое или трое ещё сказали несколько слов благодарения и прошений от себя, и потом вдруг один из неверующих произнёс свою молитву… в третьем лице: «И ещё я благодарен Богу за то, что… и прошу Бога о том, чтобы Он…» Я никогда ни дотоле, ни с тех пор не слышал молитвы человека, уже знающего о Боге достаточно, чтобы веровать в Его бытие, но для которого Бог всё ещё продолжал оставаться лишь предметом и объектом веры – загадочным «чем-то» или «кем-то». Чтобы обратиться к Нему «на Ты», требовалось довериться Его присутствию посреди нас, то есть, пережить опыт личной встречи с Богом, то самое «событие/со-бытие», о котором говорилось раньше. Еврейский философ Мартин Бубер в своей книге «Я и Ты» рассматривает эту динамику «со-бытия» и обращения человека к Богу и, в частности, пишет: «К своему Вечному Ты люди обращались, называя его многими именами. Когда они воспевали его, наделённого именем, они всегда подразумевали Ты: первые мифы были гимнами и хвалебными песнями. Потом имена вошли в язык Оно; людьми овладевало неодолимое побуждение размышлять об их Вечном Ты как о некоем Оно. Но все имена Бога оставались священными; ибо они были не только речью о Боге, но и речью, обращённой к Нему».167 Молящийся Богу в третьем лице, очевидно, ещё не находил в себе сил и мужества довериться Ему, но уже готов был приобщиться к нашему общему опыту.
* * *
И, наконец, третье значение этого короткого, но, как оказывается, такого содержательного слова, это – верность. Даже вне контекста становится понятно, что о какой-то иной вере, которая постоянно подвергается испытанию и которая требует от человека труда, старания, терпения и твёрдого стояния в ней, идёт речь в следующих новозаветных стихах:
«Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души».168
«Испытание вашей веры производит терпение».169
«Прилагая к сему всё старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность…»170
Спасительная вера-доверие, как мы только что выяснили, даруется человеку как раз «не от дел», и вера-уверенность относится, главным образом, к сфере человеческого знания, а не деятельности и опыта. Подсказкой в данном случае служит Ветхий Завет, где это значение встречается наиболее часто, причём, как правило, в применении к самому Господу Богу, например: «Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен».171 Или: «Вовек сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен».172 Стихам из Второзакония вторит и апостол Павел: «Нас постигло искушение не иное, как человеческое; но верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести».173 Этого особого качества веры, называемого верностью, то есть последовательного и постоянного утверждения веры-уверенности и веры-доверия в жизни человека, также ожидает от него Бог. Он Сам в высшей и превосходной степени обладает этим качеством и никогда, несмотря ни на какие обстоятельства, не отступает от Своего совершенного замысла в отношении сотворённого Им мира и обетований, данных Им человеку. В Псалме 102 Бог описывается не только как Господь щедрый и многомилостивый, но и – долготерпеливый. А терпеть Ему от людей приходится немало! Каждый из нас в своей жизни терпит лишь выпавшую на его долю меру неправды, обиды, лжи, нечистоты или неверности, а Ему приходится испытывать на Себе всю сумму зла, нести на Себе все грехи мира. Страшно даже представить себе, какое это бремя!
По себе знаю, например, как безумно устаёшь, работая переводчиком в суде, когда к концу дня, всё услышанное – жесточайшие обвинения и жалкие оправдания, явная и неявная ложь, бессмысленности и даже брань – переведённые тобой, настолько тебя переполняют, что уже и не рад бываешь тому, что взялся за этот, на самом деле, совершенно необходимый труд. Впрочем, эта аналогия не совсем точная, поскольку для меня-то рано или поздно наступает этот самый «конец дня», а у Бога, как известно, дней много. Следовательно, и терпеть Ему от нас приходится бесконечно долго. Только от меня одного Он терпел ежедневные оскорбления и непочтительность в течение почти трёх десятков лет, а сколько нас таких! Поэтому, наверное, именно за Его веру-верность, то есть, Его веру в человека, мы Ему должны быть особенно благодарны.
К сожалению, это вовсе не значит, что большинство людей верующих как-то особенно преуспевает в этом отношении, и, скорее, наоборот, именно вера-верность даётся человеку почему-то особенно трудно. Вроде, и доверять Господу постепенно научился, и уверенность в Нём уже никогда не покидает, а вот сохранять Ему верность во всяком слове, помысле, деле, решении и выборе – над этим большинству людей приходится усердно и молитвенно трудиться до конца своих дней. Об этом, вероятно, и писал апостол Павел жителям Фессалоники: «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе».174 Для «совершения дела веры», то есть для того, чтобы она в жизни человека не только была основательна (уверенность), не только деятельна (верность), но и последовательна (верность), стало быть, необходимы все эти три составляющие.
Если же всё более или менее известно, достоверно и понятно, то почему тогда самый первый шаг – решение, призванное изменить жизнь человека, земную и вечную – даётся ему с таким трудом, а кому-то, увы, так и не даётся вовсе? С другой стороны, по свидетельству множества людей об их пути к вере, как раз наоборот, сама встреча со Христом была наиболее естественным и радостным событием в их жизни, а вот труд узнавания Его премудрости и проникновения в глубины Его учения представляется и тяжким, и подчас мучительным. Задача жизни по вере представляется многотрудной и многохлопотной, а то и вовсе неисполнимой. То же, что в обычном случае должно было бы, кажется, облегчать всякий труд – накопленные знания и опыт, значительные материальные ресурсы – оказывается не просто бесполезным, но зачастую и затрудняющим решение задачи. Достаточно вспомнить в связи с этим беспомощность фарисейского начальника Никодима175, никак не могшего взять в толк, как это в его возрасте и положении следует ему родиться «заново» (или, в другом переводе, «свыше»). Титул и опыт учителя Израилева, как видно, ему нисколько в уразумении этого не помогает. Ничего, кроме сочувствия, не может вызвать и облечённый благополучием и властью юноша, обратившийся ко Христу за простым советом – как тут пройти в Царство Небесное.176 Богатство-то, призванное облегчать человеку жизнь, вызвало у него наибольшее затруднение, а присутствовавших при этом разговоре апостолов эта коллизия повергла в настоящий ужас: «Кто же сможет спастись!?»
* * *
На одной из моих презентаций в Магнитогорске, где меня пригласили выступить на городской конференции для учителей-историков, уже по её окончании, этот же вопрос был поставлен с некоторым даже, как я почувствовал, вызовом одной из учительниц истории. Сама презентация, надо сказать, уже отчасти подготовила меня к чему-то подобному. Дело в том, что ещё на открытии конференции мне как её заморскому гостю было недвусмысленно дано понять, куда я попал и с кем мне предстоит иметь дело:
– Добро пожаловать в наш город, стратегически расположенный на границе двух континентов и выпускающий броню для каждого третьего танка в нашей стране!
Надо сказать, что я и в самом деле довольно редко наблюдал такую меру «оборонительности» со стороны своей аудитории, и все мои попытки подобрать какой-то подход к своим слушателям, похоже, рассматривались ими как тактические наступательные манёвры потенциального противника. По тому, как тщательно они записывали за мной, я мог судить, что материал им интересен и важен, но вот какой-либо обратной реакции на свои слова мне добиться никак не удавалось. Подумалось: уж не из того же ли самого броневого листа у них тут изготавливают и школьных учителей, совершенно непробиваемых ни для выражения какого-то своего личного отношения, ни для здоровой доли юмора, ни для провокационных вопросов залу? Посетовав на эту свою незадачу организаторам встречи во время перерыва, я, однако, был совершенно изумлён их впечатлением от происходящего:
– Да что вы?! Какой ещё реакции вы ожидали?! Это же Урал, и народ тут живёт серьёзный и обстоятельный. Послушаем, запишем, подумаем, попробуем, оценим, а потом, может, и дадим вам как-нибудь знать, чего, на самом деле, стоит ваша презентация, ваши материалы и ваши аргументы. Судя, однако, по тому, что ни единая душа не сбежала с конференции во время перерыва, вы затронули в наших учителях что-то для них существенное.
И она не ошиблась, ибо вопросы в конце встречи касались не каких-то технических деталей и методических нюансов, а, что называется, жизни и смерти. В частности, встал и вопрос о том, почему таких подчас титанических усилий требуется для принятия решения о вере в Бога от человека, вполне удовлетворившего своё любопытство по поводу свидетельств её истинности и основательности и, кроме того, убедившегося в предрассудочности наиболее расхожих ложных представлений о вере.
– Да возможно ли, вообще, человеку вот так взять и вдруг развернуться на 180 градусов, решив, что с сегодняшнего дня то, что он полагал самым главным и основополагающим, – ложно, а то, что он по сю пору отрицал и высмеивал, признаётся истинным? – подступила ко мне с вопросом одна из учительниц, всю лекцию просидевшая с нескрываемым скептическим прищуром, будто прицеливаясь в меня в окуляр из своего БМП.
– Тем более что, как выяснилось, сам «орган принятия решения» поражён пороком и, следовательно, в принципе, не в состоянии избрать «не-порочное», – поддержала её коллега, кстати, в открытую записывавшая всю мою презентацию на видео, несмотря на мои настоятельные протесты, обусловленные принятой в Штатах щепетильностью в отношении закона об авторских правах.
По счастью, на памяти у меня ещё было свежи слова замечательного современного православного апологета Сергея Львовича Худиева о том, что «человек не может прийти к Богу (и остаться с Ним) по своей воле именно потому, что как раз воля-то и поражена первородным грехом. Это как если бы мы посоветовали человеку с переломанными ногами прийти в больницу, чтобы ему там их вылечили. Он не может прийти за помощью по той же самой причине, по которой он в ней нуждается».177 Ужас, охвативший апостолов, услышавших от Христа весть о совершенной невозможности спасения при опоре на «собственные силы и внутренние резервы», становится, таким образом, столь же понятен, сколь и недоумение моих магнитогорских учительниц. Ответом и тем и другим послужили слова Спасителя, ставящие всё на свои места: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо всё возможно Богу».178 То есть сам этот труд, совершающийся в человеке и на его пути к Господу, и на его пути с Богом, производится по воле Божией и Его же Святым Духом, а без Его участия старания эти были бы (и бывают) не только тяжкими, но и совершенно бесплодными.
Сколько раз и по скольким поводом мои растущие дети, бывало, взывали ко мне, искусно модулируя своими нежными голосками полное отчаяние и безысходность:
– Ну, па-а-па! Это же та-а-ак трудно!
Уже давно, однако, я от них этого не слышу и не только потому, что они давно выросли и разъехались по белу свету. Встречаемся мы, тем не менее, довольно часто, и ситуаций, в которых этих слов от них можно было бы ожидать, не стало меньше. Просто, они уже давно знают, что я на это отвечу:
– Так это же замечательно! Слава Богу, что это всего-навсего «трудно»! Представьте себе, как ужасно было бы, окажись это совершенно невозможно!
Работа может быть трудна, но – сколько людей на свете ищут и не могут найти, вообще, никакой работы! Лекарство может быть горьким, но – скольким людям на свете оно, вообще, недоступно! Путь может быть долгим, но – сколько людей на свете пребывают в заключении или как-то ещё ограничены в передвижении! Я редко пишу стихи, но как раз на эту тему стишок однажды как-то сложился само по себе и даже – сразу с двумя эпиграфами:
Из дома вышел человек
С верёвкой и мешком
И в дальний путь, и в дальний путь,
Отправился пешком.
Д. Хармс
И вот… Но это ерунда,
И было всё не так.
А. Галич
…И только тот, кто идёт вперёд,
Лишь тот, кто идёт вперёд,
Подошвы – вкривь, и ладони – в кровь,
И пыли набилось в рот.
Ему ни ангелы не указ,
Ни бес ему не указ,
Он с небосвода не сводит глаз
И слышит небесный глас.
И потому, кто всегда в пути,
тому, кто всегда в пути —
Ему не легче, чем нам, идти,
Но легче, чем не идти.
Блажен, кому выпадает путь,
Пред кем отступает жуть,
Во тьму шагнуть и – что будет, будь —
Что будет, уж не минуть.
Ни влево шаг, и ни вправо шаг,
И прямы его стези.
Упрямо голос твердит в ушах,
Что Царство – уже вблизи.
И лишь когда он закончит спор
С дорогою в жизнь длиной,
Услышит: «Шаг твой не зря был спор —
Садись вечерять со Мной».
* * *
Глагол «верить», сам по себе, для христианина чрезвычайно энергичен и динамичен, и одно из афористических определений веры, на мой взгляд, особенно удачно отражает именно это её свойство: «Вера – это то, что мы делаем с тем, что мы знаем». Другие вероучения и вероисповедания часто подчёркивают медитативное и умозрительное свойство религиозного опыта. Вера христиан, прежде всего, деятельна. Православная традиция даже молитвенному (то есть, казалось бы, совершающемуся, прежде всего, в сознании и сердце человека) опыту нашла более энергичное выражение: мы не просто «молимся», где возвратная частица как бы обращает молитву внутрь молящегося, а «творим молитву», совершая, очевидно, некоторый труд и даже производя в результате некоторый плод этого труда. «Самое первое правило, касающееся общения с Богом, правило, которое должен знать каждый: в этом делании нет места воображению. Воображение перекрывает именно те каналы, по которым только и может дойти до нас реальная, действенная (курсив мой – О. В.) благодать», – писал об этом академик С. С. Аверинцев.179
* * *
Этот труд, вместе с тем, вовсе не обязательно должен быть явным и, тем более, признанным. О набожности многих христиан мир узнаёт зачастую лишь после того, как они закончили свой земной путь вполне добропорядочными, как считалось, но не какими-то особенно, как теперь принято говорить, «глубоко» или даже «истинно» верующими людьми. Когда хоронили старого Крамарчука, хозяина ресторанчика восточно-европейской кухни в относительно старой части Миннеаполиса, народу собралось неожиданно много. Сам ресторанчик и магазинчик при нём существовал уже полстолетия и известен был, главным образом, тем, что прямо в его зале, посреди одного из столиков возвышается ни много ни мало памятник пельменю, едва ли ни единственный в обитаемой вселенной, – четырёхгранная стела с нанизанным на неё гигантским пельменем и нанесёнными на её грани десятками названий этого произведения кулинарного искусства на множестве языков мира. Заведение под названием «Kramarczuk’s» было популярно среди любителей польской колбаски и настоящего украинского borscht, сиречь, борща, то есть среди не самой многочисленной части населения штата Миннесота, исторически заселявшегося выходцами, главным образом, из стран Скандинавии и Германии. Каково же было удивление жителей города, когда похоронная процессия, провожавшая в последний земной путь одного из своих достойных сограждан, протянулась в тот день на многие и многие кварталы, и в вечернем выпуске городской газеты появился снимок с вертолёта, с пересекающей едва ли ни половину огромного города чёрной лентой людей и машин, вьющейся от его центра и до самого «русского кладбища» на окраине. Как оказалось из множества интервью, взятых обескураженными корреспондентами у этих людей, все они съехались со своими семьями из разных штатов страны, чтобы выразить свою почтение и свою благодарность человеку, когда-то сыгравшему в их жизни совершенно исключительную роль – дав им их первую в этой стране работу в своём ресторанчике. Мало ступить на берег «страны возможностей» – надо ещё и чтобы кто-то в первый раз поверил в тебя, доверил тебе своё имя, своё имущество и свою репутацию, при этом не зная о тебе лично решительно ничего. Дипломы и рекомендации из стран, которые сами же эти люди по каким-то причинам решили оставить позади, понятно, воспринимаются как чистая формальность, ничего не говорящая о том, с каким человеком работодателю придётся каждый день встречаться, общаться и трудиться. На протяжении своей жизни старый Крамарчук предоставил эту возможность в общей сложности многим сотням людей. При этом довольно скоро выяснилось, что большинство из них не знали друг друга, поскольку проработали у него лишь какое-то недолгое время, получив, таким образом, свою первую американскую строчку в «резюме», после чего находили с её помощью и по рекомендации самого же Крамарчука более выгодную или более интересную работу, освобождая место следующим новоприбывшим иммигрантам. Только услышав о его тихой кончине и собравшись на его похороны, они – а вместе с ними и весь город – вдруг узнали об истинном размахе его ежедневного и незаметного труда веры. А ведь сколько из тех, кого он брал на работу, оказывались нерадивыми или бесчестными людьми, которых ему приходилось гнать взашей, неся при этом убытки и выслушивая жалобы от клиентов. Однако, судя по тому, скольким сотням людям и их семьям он в итоге своей жизни помог, это обстоятельство лишь побуждало его к дальнейшим усилиям веры в Бога и исполнение Его заповедей любви и добродетели. Прихожане местной церкви знали его как видного, не чуждого благотворительности и участия в жизни церкви человека, но, как стало известно лишь по окончании его жизненного пути, истинный труд и подвиг веры старый Крамарчук, на самом деле, совершал никому неизвестным и незаметным образом.
* * *
Итак, «верить» – это глагол, причём, необходимо требующий дополнения, объекта, к которому применяется его действие. Просто верить невозможно, и даже когда в речи мы для краткости опускаем дополнение, тот или иной предмет веры всё-таки подразумевается. Человек может верить или не верить во что-то, в кого-то или кому-то. По мнению Г. К. Честертона, вера в «ничто» тоже совершенно невозможна: «Теряя веру в Бога, человек не становится верующим в ничто. Он становится верующим во что попало».180 По-русски это называется «свято место пусто не бывает», и каждый человек, не найдя или потеряв веру в живого Бога, ищет и находит предмет веры, его более или менее, надолго или накоротко, в той или иной степени устраивающий. Разброс возможностей при этом поистине поразителен: от таких возвышенных объектов личной веры, как наука, искусство и всеобщее благо, до таких вполне приземлённых, как личное благополучие и самоутверждение. Во что же и как же верят неверующие?
* * *
Один мой хороший друг, учёный-физик, как-то спросил меня: «Зачем людям может быть нужна вера, если им дано знание? Как можем мы, обладая разумом, довольствоваться верой?» Признаться, этот разговор возник у нас не случайно, и я уже давно ждал от него подобного вопроса. Мы с ним были знакомы вот уже несколько лет, и у нас обоих было немало случаев убедиться в том, что мы оба – люди вполне практичные, здравомыслящие и, следовательно, разумные. Будучи христианином, я, естественно, не мог не желать, чтобы этот дорогой моему сердцу человек обратился к Богу и обрёл вечное спасение своей душе. Однако если бы я ему вдруг решил воспроизвести по памяти «Четыре духовных закона»181 или зачитать из Писания, скажем, Ин. 3:16182, то на него это, вполне вероятно, произвело бы самое неблагоприятное впечатление. Кому-кому, а уж ему-то было отлично известно, насколько замысловат и многосложен мир, и допустить, что предвечный замысел спасения человечества может быть изложен простым текстом на одной страничке, было бы для него чрезвычайно трудно. С другой стороны, Библия, с содержанием которой он был знаком, как всякий уважающий себя русский интеллигент, не обладала для него никаким особым авторитетом, по сравнению, скажем, с Кораном или Ведой, да и сам факт её древности говорил ему скорее о возможной устарелости её истин, чем об их неизменности.
Две вещи на земле могли повлиять на его мнение: научные факты и произведения искусства. Всю свою взрослую жизнь он занимался добыванием, проверкой, анализом, сравнением и классификацией информации об атомном и субатомном строении мира. Компьютерная база данных, описывающая поведение микрочастиц, которой он оперировал в своей работе, поистине колоссальна, и, кроме того, постоянно пополняется по мере того, как в неё стекаются данные с тысяч приборов, установленных на десятках ускорителей во всём мире, практически не останавливающихся ни днём, ни ночью. И каждое такое показание – неопровержимый научный факт, объективно засвидетельствованный приборами. Даже списав на техническую погрешность некоторый и заранее определённый процент полученных данных, учёный получает возможность делать обобщения и выводить закономерности, с высокой долей вероятности отражающие истинное положение вещей в природе.
Такая методичность и щепетильность высокой науки, на первый взгляд, должна была бы оказаться совершенно несовместимой с искусством, где всё так, наоборот, спонтанно, непредсказуемо и алогично. Мой друг, однако, был весьма тонким ценителем и живописи, и литературы, и музыки, и здорового житейского остроумия. Прекрасное, изящное и гармоничное служило для него не менее авторитетным свидетельством истинности, чем те же показания датчиков. Сделав это наблюдение, я невольно задался вопросом: нет ли чего-то общего между этими, казалось бы, столь разными взглядами на жизнь? Не обладает ли естественнонаучное мировоззрение каким-то качеством, свойственным так же и эстетике? Ведь не случайно же среди выдающихся учёных-естествоиспытателей так часто встречаются люди, одарённые и необыкновенно тонким художественным вкусом. На мой взгляд, этим общим знаменателем для обеих отраслей человеческого знания является то, что называется свободой выбора, а точнее – её отсутствием. Ни в научной деятельности, ни в восприятии произведений искусства моему другу не приходится совершать выбор самостоятельно, то есть выносить решение или суждение об истинности того или иного факта на основании осознанно личного выбора. Ни в том, ни в другом случае он не делает его в силу исключительно своего собственного разумения и благоволения.
Факты, как известно, – вещь упрямая, и естественно-научные данные буквально заставляют человека согласиться с ними, даже если это противно его личным убеждениям или предпочтениям, его жизненному опыту или интуиции. Законы научного мышления сформулированы таким образом, чтобы оставить за учёным минимум, а в идеале – вовсе никакой личной свободы. В академической среде считается едва ли ни дурным тоном, заявлять о своём собственном мнении или личном предпочтении без множества оговорок и условностей. Всё, что может себе позволить учёный, – это представить собранные им данные, выстроив их таким образом, чтобы его аудитории ничего не оставалось, как согласиться с его выводом. Всё, что, в свою очередь, может себе позволить его оппонент, – это представить какой-то иной набор данных или методик. Утверждение принимается в качестве истинного, если оно подтверждается наибольшим или подавляющим количеством внутренне непротиворечивых данных, которые должны буквально припереть оппонента к стенке, и тогда он, не будучи в состоянии выставить сколько-нибудь серьёзных контраргументов, невольно соглашается с предлагаемыми выводами. Ему фактически даже не приходится принимать никакого собственного решения, ибо, как принято считать в науке, «факты говорят сами за себя».
Любопытно, что в области искусства, при всей его кажущейся противоположности научному мышлению, действует тот же самый закон подневольного согласия или, проще говоря, убеждения. Чуткие к миру прекрасного в силу врождённой способности или воспитания люди умеют настолько отдаться власти изящного слова, жеста, звука, цвета или ритма, что гармония формы становится для них абсолютным залогом истинности содержания. Невыразимое никакими словами эстетическое наслаждение и восторг от прикосновения к произведению искусства свидетельствует их душе с ничуть не меньшей силой и неопровержимостью, чем – в научной среде – на них подействовало бы скрупулёзнейшее логическое построение.
Дело, вероятно, в том, что и та, и другая сферы человеческих интересов и увлечений (наука и искусство) отмечены одним и тем же признаком – максимально возможным для разумного человека отказом от ответственности за лично и осознанно принимаемое им решение и, тем более, от самоотверженного посвящения этому решению всей своей жизни. Научное мышление в такой же точно мере, как и эстетическое восприятие мира, требует от человека отвержения своей воли в пользу той или иной, внешней по отношению к нему, силе, будь то непреодолимое давление фактов или сокрушающее душу чувство. Создаётся впечатление, что ни за одно своё решение ему не приходится отвечать лично, и ни в одном из них им в дальнейшем не приходится раскаиваться, ибо ни одно из них он не принял сам, но был вынужден принять, уступив подавляющему его собственные силы воздействию. На случай ошибки имеются надёжно подготовленные рубежи отступления: учёного могут подвести приборы или нелепая случайность, эстета может увлечь и далеко завести игра страстей и образов. Ни тому, ни другому, однако, не приходится винить самого себя, ибо само понятие вины оказывается в таком случае едва ли применимым и уместным. Оно может относиться лишь к решению, принятому человеком по свободному и осознанному выбору, то есть по вере.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе