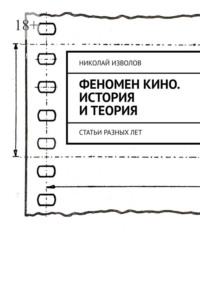Читать книгу: «Феномен кино. История и теория. Статьи разных лет», страница 3
КАДР
Несоответствие систем «естественного» и «механического», функционирующих только во взаимосвязи друг с другом и внутри друг друга, – самая суть феномена кино. Для каждой из них нужны способы внешнего выражения.
Так мы вплотную подходим к проблеме кадра, которую до сих пор тщательно, по мере сил и возможностей, пытались обходить стороной. Несмотря на все приложенные к этому старания, термин «кадр» уже появлялся на предыдущих страницах настоящей работы, и если его нельзя было определить в нескольких фразах, то это потому, что именно самые специфические кинематографические явления наиболее трудно поддаются теоретическим определениям и чаще всего объясняются с помощью конкретных примеров.
Так, для описания феномена кино обычно вполне достаточно упоминания восторгов раннего зрителя от трепета серых листьев на ветру или ужаса от прибывающего поезда. Для определения кадра ограничиваются констатацией его длины и ограниченности рамкой.
И это всё верно. Однако уйти от содержания термина «кадр» мы не можем, поскольку без этого нельзя раскрыть связь элементов кино и «прорастание» их друг в друге.
Задача осложняется тем, что сам термин «кадр» в силу своей неясности и размытости границ требует очень осторожного с собой обращения.
Вспомним, в какой связи кадр уже упоминался нами.
Площадь кадра – «поле зрения» механического «субъекта», плёнки, определяемое фокусным расстоянием объектива, служащего, в свою очередь, посредником между реальным миром и камерой, трансформатором оптической среды.
Кадр – психологический барьер, отделяющий зрителя от зрелища.
Кадр – система, заданная геометрической формой прямоугольника.
Кадр – система, сохраняющая иллюзию трёхмерности и при этом имеющая возможность моментально её разрушить, сосредоточив внимание зрителя на плоской поверхности экрана, т.е. на самом кадре.
Кадр – система, протяжённая во времени, но состоящая из моментальных фотоснимков.
Кадр – система, изменяющая реально существующие отношения предметов между собой и их движение.
Кадр – минимальный материальный кусок конструкции фильма.
Кадр – критерий «документальности» кино; документ предкамерного факта.
Заметим, что слово «кадр» своим происхождением обязано не кинематографу, а фотографии и обозначает фотографический снимок, моментальный или сделанный с длительной выдержкой, но тем не менее имеющий свою эстетику. В кино этим словом называется нечто совсем иное, в практическом смысле – кусок плёнки от одной монтажной склейки до другой. Но функции кадра слишком многочисленны, чтобы можно было остановиться на таком узком определении.
Поскольку уже единичный моментальный фотоснимок с киноленты производит некий моментальный эффект (остаточное зрение), то именно его мы примем за отправную точку наших рассуждений для того, чтобы понять сходство и различие фотографии и кино.
Во всяком случае, кадром и здесь и там называется изображение, которое фиксируется на плёнке за время работы механизма затвора. В фотографии это единичная фотоклеточка, в кино – последовательность снимков. Природная документальность кинокадра, в отличие от фото, сказывается в том, что моментальные снимки следуют один за другим именно в том порядке, в каком были сделаны. Каждый следующий удостоверяет предыдущий. Сырой материал киносъёмки, показанный с той же скоростью, с какой был снят, и не обработанный для получения эффектов, вторичных по отношению к тем, что уже содержатся в самом объекте съёмки, всегда документ предкамерной реальности.
Трюковые операции с моментальными снимками вполне разрешают фальсификацию документа: она может быть незаметна. Манипуляции с движущейся плёнкой могут быть направлены только на выявление самих себя – с целью достижения соответствующего эффекта. Этим объясняется большая степень доверия к документальности кинокадра в сравнении с фотокадром.
В кино очень тесно связаны между собой понятия кадра, документальности и моментального эффекта, причём последний компонент этой триады легче всего воспроизводится при нарушении любого из двух других.
Вообразим ленту, склеенную из моментальных снимков, где каждый вырезан из какого-то кинокадра. При обычной, да и при любой другой проекции на экране изображение окажется мешаниной раздражающих глаз пятен. Но это уже принцип, доведённый до абсурда, – мы получим помеху в чистом виде, не несущую никакой информации.
Эйзенштейн, монтируя известный эпизод разгона июльской демонстрации в «Октябре», заставил «помеху» заработать. Соединяя по два кадрика-клетки с пулемётом и стреляющим из него пулемётчиком, режиссёр заставил зрителя физически ощутить нервную вибрацию оружия – вероятно, при использовании двойной экспозиции такой эффект не был бы достигнут.
Но что в данном случае считать кинокадром? По отдельности снятые длинные планы пулемёта и человека? Или чередующиеся пары моментальных фотоснимков? Или получившуюся в итоге ленту? Ведь отдельно снятые первоначальные кадры здесь были разъяты, двуклеточные единицы монтажной структуры не существуют друг без друга, а итоговый результат нельзя признать непрерывно снятым за время работы затвора.
Эйзенштейн, вспоминая об этом эксперименте, объяснял склейку по два моментальных снимка тем, что один снимок не был бы заметен при проекции. То есть не сработал бы эффект остаточного зрения.
Возможны и другие трюковые операции с плёнкой подобного рода. Например, можно окрасить каждый моментальный снимок целостного кинокадра в разные цвета. Или, взяв соответствующие негатив и позитив одного кинокадра, разрезать их пополам и продолжить негативное изображение позитивным, либо наоборот – такой приём применён, в частности, Кулешовым в «Сорока сердцах» (1930) и Годаром в «Альфавиле» (1965). Очевидно, что это будут эффекты внекадрового происхождения, искусственно создаваемые помехи.
Но если даже счесть кадром кусок плёнки от склейки до склейки, то это вовсе не означает, что он должен быть результатом непрерывной съёмки. Л. Фелонов в книге «Монтаж в немом кино. Ч. I. Фильмы Люмьера и Мельеса» пишет:
«Последовало изобретение Мельесом того технического приёма или трюка, который мы склонны называть монтажом в скрытой форме.
Такой монтаж, обычно неуловимый для зрителя, заключается в сочетании двух кадров, сходных по композиции, снятых с одной точки, но с остановкой для изъятия или перемены отдельных компонентов. Последовательность таких кадров создаёт на экране мгновенную трансформацию мизансцены, персонажей или обстановки, что неосуществимо при обычной съёмке.
Многие волшебные эпизоды Мельеса только кажутся снятыми сразу, целиком, непрерывно, а в действительности они состоят из ряда «подкадров», отдельных фаз действия, тщательно организованных и точно пригнанных друг к другу».11
Итак, способы организации моментальных эффектов «вне- кадрового» происхождения, как и принципы внутрикадрового «скрытого монтажа», исходят из своеобразного закона «двоякого» тяготения: целостный кусок стремится к раздроблению на минимальные составляющие (моментальные фотоснимки) для наиболее ёмкой конденсации моментальных эффектов, а моментальный снимок требует своего продолжения рядом других, сходных с ним и скрывающих иллюзорными средствами происходящие с ними изменения. Обычно эти две разнонаправленные тенденции уравновешивают друг друга, например, в нейтрально-безоценочном хроникальном материале, и тогда мы сосредоточиваем внимание на объекте съёмки, безусловно доверяя форме его изображения. При смещении акцентов в ту или иную сторону важным становится процесс плёночной трансформации, недостоверность передаваемого сообщения.
Поскольку монтаж мгновенно меняет точку зрения зрителя (а это то же самое, что и мгновенное естественное перенесение взгляда), он так же естествен в кино, как и эффект остаточного зрения. Поэтому монтажная склейка может лишь условно считаться границей кадра.
Мысль о том, что монтаж – система, рассчитанная на эффект «естественности», подтверждается следующим. Все существующие способы монтажных соединений, добивающиеся «комфортного», плавного перехода, можно классифицировать по двум признакам. Рекомендуется либо сохранять на экране точку концентрации внимания зрителя, либо монтировать кадры по направлению движения. В первом случае упор делается на зрительную доминанту, во втором – на периферийное зрение: физиологически именно движение опознаётся периферийным, нецеленаправленным зрением, притом что форма, очертания предмета должны быть в фокусе.
Монтажное строение фильма повторяет монтажное строение кадра. Этим, вероятно, объясняется стремление современного кино к длинным планам, а самого раннего – к коротким сюжетам, когда кадр равнялся фильму. Современная техника позволяет создавать такие фильмы, как «На 10 минут старше» Г. Франка: название в равной степени обращено и к снимаемому объекту, и к зрителю, поскольку подчёркивает фактор документированности времени. Первых кинематографистов занимали другие проблемы.
Л. Фелонов подробно пишет об однокадровых фильмах английского пионера кино Дж. А. Смита:
«К своим экспериментам Смит пришёл не сразу, а после создания нескольких комических фильмов, состоящих из одного крупного плана.
В прошлом Смит был фотографом-портретистом, и, конечно, ему приходилось снимать своих заказчиков не только семейными группами и во весь рост, но и приближённо, по отдельности крупным планом, так что переход к портретам на экране был для него вполне естественным. Но портреты в кино не могли оставаться неподвижными, и Смит обогатил их мимической игрой.
На экране портреты потеряли свою скованность и представительность, перестали быть документом, а превратились в некоторую физиономическую игру, порой весьма утрированную и вульгарную. Первым опытом Смита в новом жанре оказался фильм с двумя персонажами (выделено автором. – Н. И.). Он длился всего 40 секунд – просто сидели рядом пожилые супруги, и каждый наслаждался по-своему: он, держа в руке кружку, похлёбывал пиво, она нюхала табак и чихала.
Забавный этот фильм, хотя и лишённый сюжета, понравился публике, и Смит продолжал снимать подобные картинки…
Мы не будем вдаваться в подробное описание этих фильмов, приведём только их названия. По ним легко догадаться, что происходило на экране и чем занимался актёр в том или ином случае: «Первая сигара», «Тупая бритва», «Надоедливая муха», «Тугой воротничок», «Слепой нищий», «Чтение утренней газеты», «Семейная ссора», «Рассказывание анекдота», «Дама за туалетным столиком», «Актёр» (исполнитель гримируется то стариком, то старухой), «Целующиеся негры», «Не та бутылка» (бродяга по ошибке вместо виски выпивает скипидар), «Волшебный эликсир» (старик превращается в молодого человека), «Суфражистка произносит речь», «Монокль мой и Чемберлена», «Конкурс курильщиков».12
Здесь всё верно, за одним исключением: экранные портреты не перестают быть документом (по сравнению с фотографией), а становятся им – документом предкамерной реальности. Очень точно отмечены феноменологическая, неповествовательная природа кино – зритель охотно смотрел эти короткие однокадровые бессюжетные фильмы – и документированность кадра, легко вычисляемая из приводимых Л. Фелоновым примеров: среди шестнадцати упоминаемых названий нет ни одного, которое бы сообщало дополнительную информацию о внутрикадровом действии. Эти названия подобны номерам в каталоге, отмечающем хранимую вещь; в их назойливой тавтологичности по отношению к фильму-кадру нет никакого издевательства над зрителем.
Фильм Г. Франка, показывающий ребёнка, увлечённого каким-то зрелищем (видимо, кукольным спектаклем), заставляет зрителя задуматься о реальном времени, которое малыш тратит на созерцание спектакля, а сам зритель – на фильм; зритель, смотря на мальчика, думает о себе. Называйся фильм «Ребёнок в зрительном зале», подобного эффекта не создалось бы.
Фильм Смита, показывая целующихся негров, называется «Целующиеся негры», а не «Смертельная страсть», например. Кадр с дамой за туалетным столиком называется «Дама за туалетным столиком», а не «Перед балом».
Возвратимся к движению моментальных снимков и попытаемся разобраться: почему при весьма условной документальности фотокадра документальность кинокадра почти никогда не вызывает сомнений. Всегда ли кадр должен двигаться? Плёнка должна. А кадр? Вероятно, нет. Поясним мысль на конкретном примере.
В практике кинематографа широко применяется трюк стоп-кадра. Это повторённый требуемое количество раз, «распечатанный» моментальный фотоснимок. И если на экране возникает изображение, обладающее абсолютной неподвижностью (пустой интерьер, снятый недрогнувшей камерой), то, кажется, не должно быть принципиальной разницы между действительно снятым с реальности куском плёнки и стоп-кадром, распечатанным в лаборатории. Между тем разница есть. Потому и используется этот трюк, что он хорошо заметен.
Стоп-кадр опознаётся даже тогда, когда мы имеем дело с надписью (интертитром), если он не снят с титрового плаката, а распечатан с единичного кадра-клетки. В «натуральном» интертитре всегда заметна пульсация реального времени. Стоп- кадровый интертитр производит впечатление мертвенности, неестественности надписи. Это моментальное ощущение соответствует природе стоп-кадрового времени, неадекватного естественному, природному времени, поскольку оно (стоп-кадровое) не замещается пространством (длиной) плёнки, а наоборот: длина плёнки создаёт искусственное, чисто фильмическое время. Но об этом чуть позже.
Дело в том, что фактура предметов реального мира, проецируемого на экран, подвергается деформации со стороны самой плёнки, фиксирующей изображение. Кристаллическое строение плёночной эмульсии обусловливает неравную плотность фиксирующего материала на разных участках площади кадра, и на экране фактура (видимая поверхность вещей) предметного мира уже разложена изнутри не видимой невооружённым глазом, незаметной на единичном снимке текстурой плёнки. Каждая клеточка непрерывно снятого куска плёнки имеет собственную, неповторимую кристаллическую текстуру, и при проекции она не играет большой роли. А когда умножается один снимок, невидимое становится заметным, поскольку мы наблюдаем уже не столько изображение, сколько разлагающую его текстуру снимка.
Это свойственная самой природе кино естественная помеха, и она связана с последующей жизнью фильма. Перевод изображения с одной плёнки на другую (контратипирование, необходимость которого вызывается тем, что плёнка не может храниться вечно, портится от времени или просто изнашивается) с каждым разом всё больше и больше наслаивает на одном изображении множество различных кристаллических текстур, способных в конечном итоге совершенно подавить изображение. Но это и есть культурный слой со знаком «минус», удостоверяющий функционирование вещи в культурной среде.
Поэтому из двух одинаковых по «возрасту» кинокадров большее доверие и больший интерес всегда вызывает тот, который разрушился больше, хотя информационная насыщенность свойственна, конечно же, другому.13
Разумеется, возможность проявления и огрубления кристаллической структуры снимка ощущалась людьми, пытавшимися определить феномен кино через трепет серых листьев или волнение людской массы. Так, 3. Кракауэр писал:
«Во времена своего исторического рождения человеческая толпа – это гигантское чудовище – была чем-то новым и ошеломляющим. Как и следовало ожидать, традиционные искусства оказались неспособными объять и изобразить её. Однако в том, что не давалось им, преуспела фотография; её техническое оснащение позволяло отображать толпы, случайные скопления людей. Но лишь кинематограф, в некотором смысле завершающий фотографию, сумел показать человеческую толпу в движении. В данном случае технические средства воспроизведения появились на свет почти одновременно с одним из своих главных объектов. Этим объясняется сразу же возникшее пристрастие фото- и кинокамеры к съёмке людской массы. Ведь нельзя же объяснить простым совпадением, что уже в самых первых фильмах Люмьера были сняты и выход рабочих из ворот фабрики, и толпа на перроне вокзала во время прибытия и отправления поезда».14
Заполненность кадра тысячами шевелящихся частиц – такое же феноменологически-эстетическое явление, как несоответствие реальной действительности и кадровой, искажение камерой и образа реального мира, и глазного восприятия, взаимосвязь трюка и эффекта, взаимообращение информации и помехи. Контратипированием наращиваются кристаллы кадровой текстуры, и накопление помех вызывает тот же феноменологический эффект, что и максимально информативная беспристрастная съёмка огромной толпы. Это обстоятельство может быть и творчески обыграно – см., например, «Начало» А. Пелешяна (1967). Однако перегруженность кадра деталями (в равной степени смысловыми и помеховыми) присуща и фотографии, и кино. В чём же уникальность именно кинокадра? Возвратимся к последовательности моментальных фотоснимков, сбалансированной одновременным тяготением к сжатию (вводимой извне механической помехой, трюком) и расширению (накоплением естественных изменений, не всегда помеховых). Что такое моментальный фотоснимок? Ограниченное формой прямоугольника изображение живой реальности. Оно не претендует на то, чтобы документировать время. Выдержка (время работы затвора) в моментальной фотографии влияет на эстетику снимка, и потому она нефеноменологична: зрителю, разглядывающему фотографию, безразлично, равнялся ли фотографический «момент» 1/3 или 1/1 000 секунды, – ему важен конечный результат.
Время разглядывания фотографии не ограничено, тогда как стоп-кадр в кино подвергается смысловому разлому. Стоп-кадр не документирует время, как обычные кинокадры, но пользуется таким же зрительским отношением к себе, как и они, поскольку поставлен в один ряд с ними. Это моментальный снимок, разглядывание которого ограничено во времени, что, хотя и несколько иллюзорно, поднимает его ценность как документа.
Ни в одном из искусств, не исключая музыки, категории времени и пространства не дополнялись естественно присущей материальной реальности третьей составляющей – скоростью. В кино существует эталонная скорость – 24 кадр/с, и отклонения от неё возможны именно по причине существования константы. Это обстоятельство всегда использовалось в трюках, независимо от того, менялась скорость съёмки или нет: при неизменности одной из величин возможно варьирование двух других; поэтому в раннем кинематографе было очень трудно добиться соответствия реального и экранного времени.
Что касается пространства в кинематографе, то оно двояко: это видимое ограниченное пространство экрана и его плёночный двойник. В последнем одна из сторон прямоугольника тяготеет к бесконечному удлинению, и категории времени и пространства (здесь равного «расстоянию») прямо замещают одна другую – протяжённость во времени означает протяжённость в пространстве.
Для того чтобы доказать правомерность этих соображений, зададимся вопросом: всегда ли «моментальный фотографический снимок» моментален? То есть всегда ли неважно время, зафиксированное работающим затвором фотоаппарата (мы сейчас не берём в расчёт кино, поскольку там все последовательности моментальных снимков сняты с одинаковой выдержкой). Скорее всего, это зависит от типа затвора и степени подвижности системы «объектив – плёнка», т. е. от категории скорости, определяемой соотношением времени и пространства (расстояния, длины). Моментальный снимок не апеллирует к понятию скорости, поскольку не фиксирует время в его протяжённости; упомянутая ранее неизменность отношения «объектив – плёнка» объясняется не только постоянством расстояния между ними, но и неподвижностью плёнки в момент работы затвора, тогда как в кинокамере плёнка от нажатия до выключения кноп- ки успевает сдвинуться на определённое расстояние. Иначе говоря, в кино отношение «объектив – плёнка» подвижно: одно движется относительно другого.
Утверждать, что в фотографии нет ничего похожего, было бы неверно. Существуют панорамные фотоаппараты типа «Горизонт», в которых отношение «объектив – плёнка» обладает некоторой степенью свободы. Только здесь не плёнка движется относительно объектива, а объектив относительно плёнки. (Интересно, что такой тип аппарата появился почти одновременно с изобретением кинематографа.) Образуется временной разрыв между началом движения и его концом: категория времени возникает со всей своей очевидностью. Замещение реального документированного времени геометрическим удлинением одной из сторон кадрового прямоугольника на примере панорамного снимка ещё заметнее, чем в случае с кинокадром. Панорамный снимок стремится к увеличению своих размеров; вероятно, его нельзя считать моментальным.
Мы не зря поставили подвижность связи «объектив – плёнка» в зависимость от типа затвора фотоаппарата. Таких типов два, и они разнятся принципиально. Первый тип, «центральный», имеет конструкцию лепестковой диафрагмы и позволяет объективу проецировать внешний мир сразу на всю площадь кадра-клетки. Второй, «шторно-щелевой», как видно из названия, представляет собой шторку с щелью, бегущую вдоль прямоугольного кадра и в различные моменты пропускающую на различные участки кадра-клетки различные участки проецируемой реальности. Разница между этими затворами несущественна, если речь не идёт о панорамном фотоаппарате. В нём так же невозможно применить центральный затвор, как в кинокамере – непрерывно движущуюся плёнку. И в том и в другом случае точка фокуса скользила бы по всему видимому пространству кадра, и никогда не удалось бы получить резкости, требуемой от кадра так же, как и от реальной действительности.
Панорамный снимок – промежуточное звено между моментальным фотографическим снимком (фотокадром) и непрерывно снятым куском скачкообразно движущейся плёнки (кинокадром). Такой снимок предстаёт как своего рода продукт разнонаправленных сил сжатия – растяжения.
В противоположность центральному затвору, максимальным сокрытием своего действия напоминающему трюковую диафрагму, маскирующуюся под эффект зрительного восприятия, бегущая щель всегда остаётся откровенным трюком, а трюк, как мы знаем, по своей природе механичен. И если оборудовать объектив панорамного фотоаппарата Скачковым устройством, то вполне можно получить кусок плёнки, который при соответствующем механизме проекции позволит нам наблюдать на тёмном экране внешний мир через бегущую световую полосу. «Реставрировать» зафиксированную на панорамном снимке реальность удастся ещё проще – если разглядывать снимок через движущуюся шторку с вертикальным разрезом.
Различные отрезки панорамного снимка принадлежат различным моментам времени. Поэтому он документирует заключённое в нём время геометрией своей формы: время замещается пространством, как и в кинокадре. С помощью линейки мы можем вычислить время, разделив длину на известную скорость.
Скептики скажут, что для получения фотографии с большим отношением сторон совсем не обязательно использовать панорамный фотоаппарат, а достаточно скадрировать снимок, обрезав его по своему усмотрению.
Однако это не так. Поскольку кадр – комплексная система с одновременно существующими признаками и есть несколько констант, на которые нанизываются все функции кадра (среди них пара «объектив – плёнка», абсолютная симметричность искривления изображения по всему полю кадра), то всякое вмешательство в сложившуюся систему отношений непременно будет ощущаться. То же самое можно сказать и о трюковой панораме по фотоснимку, да она и не рассчитана на достижение эффекта живой реальности (во всяком случае, так было до появления видеотехники).
Наконец, среди важнейших уроков, преподносимых фотографией, нужно назвать контактную печать. Она позволяет получить безнегативное изображение – то, что фотографы называют «фотограммой».15 На лист фотобумаги накладываются предметы различной формы и различной оптической проницаемости и засвечиваются для получения нужного рисунка.
Фотограммным эффектом в кино обычно обладают помехи «естественного» плёночного происхождения. Дефекты, возникающие от старения фильма, – царапины, фрикционные полосы, потертости, сдвиги эмульсии, а также дефекты фотографического и физико-химического происхождения. Или же это могут быть искусственно вводимые помехи, раскладывающие кадр на минимальные составляющие.
Таким образом, плёнка, пропущенная через проекционный аппарат, экспонированная или неэкспонированная, засвеченная, забракованная, исцарапанная, загрязнённая, со смазанным изображением и т. п., представляет собой самоценную реальность, разумеется, второго порядка по отношению к настоящей реальности.
В кино, как и в фотографии, возможно воссоздание изображения, никогда не существовавшего в действительности – вполне достоверного, но нисколько не претендующего на жизнеподобие. Убедительное подтверждение этому мы находим уже в эмбриональном периоде истории кино. В начале века в Англии Роберт Пол пытался повторить феерические опыты Мельеса. Незнание технологии мельесовского производства доставило ему немало хлопот. Пол использовал сложнейшую по тем временам технологию – он сконструировал аппарат для печати позитива с нескольких негативов, причём достиг при печати комбинированных кадров изумительной точности. В то время как Мельес усердно документировал предкамерную реальность при помощи двойных экспозиций, «скрытого монтажа» и предкамерных трюков, Пол создавал собственную, стопроцентно «помеховую», абсолютно нежизнеподобную и столь же достоверную действительность.
Кадры фильмов Люмьера и Мельеса одинаково документируют предкамерную реальность, и делить кино на игровое и документальное исходя из стилистических различий по меньшей мере неубедительно. Документальность кино – феноменологична; недокументальное (игровое) кино должно пойти против своей природы, как это сделал Пол.
Тогда же в Англии кинокадр, стремящийся к максимально ёмкой структуре, приблизился в однокадровых фильмах Смита к своему идеалу, совместив тавтологические изображение и название с целью наибольшей документальности, и до совершенства ему не хватало только звука.
По всей видимости, кинокадр, использующий одновременно все формы передачи информации – изображение, а также речь письменную и устную (что-то схожее с телерепортажем) – и предоставляющий зрителю полную свободу выбора и мгновенного сравнения всех носителей информации, должен стать «ячейкой» истинно документального кино и всех его возможных ответвлений.
Такая конструкция не будет чем-то неожиданно новым, непривычным для человеческого сознания. Внутреннее (психологическое) наблюдение субъекта (зрителя, читателя, слушателя) параллельно наблюдению внешних систем сообщений, и очень часто, например, человек, читающий роман и увлечённый им, не может объяснить, на чём он сконцентрировал свое внимание в данный момент: на видимом слове, своей внутренней речи или предстающей его воображению картине. Восприятие феномена – процесс переплетения в человеческом сознании и подсознании внешних и внутренних способов выражения.
Кадр – это одна из возможных структур человеческого сознания, тяготеющая к взаимозамещению воспринимаемых времени и пространства в геометрической рамке, сбалансированная давлением внешних помех, стремящихся разложить визуальное сообщение на минимальные единицы, и внутренней потребностью к расширению, накоплению естественных изменений.
Кадр – безусловно внеплёночное образование.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе