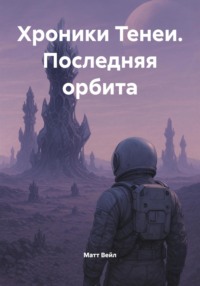Читать книгу: «Хроники Тенеи. Последняя орбита»
Глава 1. Гравий и небо
1. Красный фонарь тишины
Когда всё закончилось – огонь, крик, разгерметизация, срывающиеся с мест аварийные модули, чьи-то полувскрики в комм-канале, обрывающиеся на полуслове, и короткое, осязаемое чувство – "нет, не выживу" – наступила тишина.
Не физическая. Автономные вентиляторы жужжали, как рой насекомых, система мониторинга мигала красным, геолокатор пищал с перебоями, словно простуженный ребёнок. Но в этой какофонии была именно тишина – та, что остаётся после финального "всё", та, в которой уже никто не отвечает, никто не зовёт и не отзывается на вызов.
Посадка, если это можно так назвать, была скорее падением. Капсула несколько раз перевернулась в воздухе, ударилась о склон, ещё и ещё, рассыпая наружный слой теплоизоляции, вгрызаясь в сыпучую породу, пока наконец не увязла наполовину в гравии, скрипя остатками амортизаторов. Всё внутри пахло озоном и оплавленным пластиком.
Оскар Вернер очнулся спустя час или век. Он висел в ремнях, как мясо на крюке, с приоткрытыми глазами, пытаясь различить хоть что-то сквозь запотевший визор. Планета встречала его бледно-сиреневым небом и ландшафтом, не похожим ни на один земной – ни пустыня, ни лес, ни болото, но как будто что-то промежуточное между минералом и живым. Всё было сухим, но текучим; плотным, но гибким. Как будто камни здесь дышат.
Механический голос, ровный и безэмоциональный, был его единственным собеседником:
– Капсула Зет-18. Один выживший. Повреждения: критические. Связь с орбитой: отсутствует. Внешняя среда: анализируется.
Он молча смотрел в потолок, где мигал индикатор сбоя связи. Не было связи. Не было ответа. Не было корабля. Была только планета.
2. Периметр одиночества
Он выполз наружу, шатаясь, с трудом удерживаясь на ногах. Местность расплывалась – не только из-за сотрясения или резкой смены гравитации, но и потому, что она словно не хотела быть увиденной целиком. Контуры дрожали, цвета смещались к краю видимого спектра.
Тел других членов экипажа не было. Ни капсул, ни обломков. Только следы удара – глубокие вмятины, разметанные гравием полосы, в которых могли остаться чужие следы. Или их просто не было с самого начала. Или…
Нет. Пока не думать.
Первым делом – укрытие. Вторым – вода. Третьим – понимание, где он. Всё остальное – потом. Паника – потом. Вопросы – потом.
На четвёртый день он обнаружил их.
Не существ. Их. Потому что не было уверенности, что можно назвать это существами. Они не двигались в привычном смысле – они меняли конфигурацию. Один, напоминавший трёхметровую конструкцию из хитина и кристаллов, появился утром. Стоял в ста метрах, неподвижный. Через час исчез. Или растворился. Или просто стал невидимым – Оскар пока не знал, как функционирует зрение здесь. Может, они не отражают свет. Может, сами становятся светом.
Он не делал глупостей. Не приближался. Не размахивал руками. Не включал переводчики. Просто смотрел. Потом начал записывать.
– Контакт – отсутствует. Реакция – отсутствует. Интерес – отсутствует. Возможность взаимодействия: под вопросом.
С каждым днём их становилось больше. Они появлялись поодиночке, парами, однажды – сразу семеро. Никто не пытался атаковать. Никто не делал шагов. Они словно были заняты чем-то своим. Построением. Перестройкой. Или просто наблюдением. Но не из интереса. Из обязанности?
Он всё чаще ловил себя на мысли, что это не он изучает их, а он стал частью их ландшафта. Он – не человек, а деталь. Рельефа. Системы. Декорации?
3. До Тенеи
Wolf 1069 – тусклый красный карлик в 31 световом году от Земли. Маленькая, холодная, без вспышек, без капризов. Надёжная. Весьма обычная по меркам Галактики – и потому идеальная. Люди не искали чудес, они искали стабильность. Потенциал. Предсказуемость.
Вблизи неё, на одной из узких орбит, удерживалась планета размером с Землю. Она не вращалась – она смотрела в лицо звезде, вечно одним полушарием, как бы прося огня, но не решаясь приблизиться. Там, где свет встречался с тьмой, в серой полосе вечного сумрака, по расчётам могли быть равновесие и вода. Эта зона получила название терминатора.
Планету назвали Тенеей – в честь дочери Океана, затерянной и молчаливой. И именно сюда отправилась первая межзвёздная миссия. Слишком много было вложено, слишком многое поставлено. Экспедиция должна была не просто исследовать. Она должна была ответить.
Землеподобные миры – давняя мечта человечества. И когда автоматические зонды передали данные о наличии атмосферы, пригодной для дыхания, а спектральный анализ подтвердил присутствие водяного пара – решение стало очевидным: экспедиция должна быть отправлена на Тенею.
4 . Корабль надежды – Pax Magna
Корабль, отправленный к Тенее, по имени Пакс Магна, стал гордостью человечества – кульминацией усилий сотен научных учреждений и инженерных корпораций. Экипаж был разделён на три специализированные группы по 18 человек. Каждая из них могла действовать автономно и при необходимости дублировать функции других. Такое распределение было необходимо – в условиях неизвестной среды и высокого уровня риска каждая команда могла стать единственной выжившей.
Состав групп включал планетологов, биологов, специалистов по адаптивной биосфере, инженерных техников и операторов модулей. Обязательным элементом были астрономы и специалисты по мониторингу орбитальных тел – чтобы анализировать активность звезды, движение спутников и возможные аномалии в гравитационном фоне. Особую роль играли представители корпуса космического монтажа – «архитектоны», предназначенные для сборки автономных станций, обустройства энергетических узлов и возведения модульных куполов. Были также офицеры связи, командный персонал и аналитики риска. Все участники прошли многолетнюю подготовку в изолированных средах, имитирующих экстремальные сценарии на неизведанных планетах. в условиях, имитирующих среду неизвестных миров. Он нёс на борту десятки автоматических модулей, строительных и исследовательских ботов, системы терраформирования и длительного жизнеобеспечения. Он был рассчитан на годы автономной работы в условиях полной изоляции.
Первыми на поверхность Тенеи были отправлены автоматические системы – зондовые модули, разведчики, геолокационные платформы. Они передавали стабильные данные в течение первых часов, фиксируя характеристики грунта, химический состав атмосферы и слабые геомагнитные колебания. Только после подтверждения относительной стабильности в зоне посадки было принято решение о спуске первой пилотируемой группы.
Никто тогда не знал, что всё, что должно было стать началом новой эры, обернётся первым шагом в неизвестность. Дальше все пошло не так …
Глава 2. Хроника катастрофы.
1. Первая попытка
– Траектория стабильна. Переход в тень терминатора через двадцать минут. Подтверждаем параметры снижения, – голос пилота звучал уверенно, но что-то в его интонации дрожало.
Передача голосом, как и в былые времена, была скорее ритуалом. Вся телеметрия шла непрерывным потоком: давление внутри скафандров, частота дыхания, температура тел членов экипажа, химический состав пота, импульсы мозга – вся суть человека и машины уже передавалась цифрами. Но голос оставался якорем. Напоминанием, что за миллионами строк данных стоит живое существо.
На центральном командном посту Pax Magna данные стекались на экраны в реальном времени: уровни радиации, температура корпуса, визуальные потоки, динамика работы посадочных двигателей. Всё – в пределах нормы. Почти всё. Один из спектральных сканеров внезапно перестал фиксировать отражённый свет в инфракрасном диапазоне. Сигнал пропал и тут же вернулся, но с шумами.
– Внимание: уровень ионизации в верхних слоях атмосферы превышает прогноз на 12 процентов, – сообщила автоматическая система оповещения ровным, лишённым эмоций голосом.
Офицер связи слушал дыхание спускаемой группы. В нарастающем фоневом шуме, кроме характерного потрескивания передачи, начала проявляться нехарактерная пульсация – будто второй, отложенный голос, звучащий на грани восприятия. Он увеличил чувствительность. И пожалел об этом.
– Есть вибрация, – сказал второй пилот. — В основании кресла. Её нет в протоколе, телеметрия молчит.
– Подтверждаю отсутствие вибрации в телеметрии, – откликнулся оператор.
– Повторяем: все датчики стабильны, – прозвучал автоматический отчёт, – параметры траектории в пределах нормы.
Несколько секунд в эфире царила пауза. Никто не стал комментировать. Но дрожь в спускаемом аппарате продолжалась. Металлическая, будто чужая, вибрация, которую чувствовало тело, но не улавливал ни один прибор.
Вдруг – краткий импульс в канале связи. Необъяснимый, как сжатый вздох. И голос оборвался. Не резко. Он словно затонул в собственном эхе. Мгновение – и наступила абсолютная тишина. Не обрыв. Не взрыв. Просто ничто. Как будто все разом замолчали.
– Попытка перезапуска связи, – озвучила система. – Дублирующий канал активирован. Поиск сигнала.
По протоколу офицер связи должен был запустить аварийное дублирование. Он запустил. И продолжал слушать. Вдруг в фоне прошёл короткий щелчок, словно открылась незаметная дверь. Но за ней – не было голоса. Не было никого.
Экран с видеопотоком застыл. Последний кадр: расплывчатое пятно света на фоне сиреневого неба. Неясно – блик? Отражение? Или…
Началась тишина. Настоящая.
2. Модуль без сигнала
Через несколько часов после исчезновения первой команды орбитальные датчики обнаружили посадочный модуль на поверхности. Он находился в обозначенной зоне спуска, не разрушен, без видимых повреждений. Передатчики на Pax Magna зафиксировали корпус в целости, антенны – на месте, теплоотдача – в пределах нормы.
Но сигналов не было.
Не поступало ни визуального потока, ни биометрических данных. Все каналы связи молчали, как будто внутри – пустота. Отсутствие тревожных маяков вызывало дополнительную тревогу: аварийная система должна была активироваться автоматически при падении давления, прекращении сердечного ритма или повреждении коммуникаций. Но она молчала. Как и модуль.
Начались обсуждения. На борту Pax Magna спорили долго и тихо. Протокол предписывал попытку спасения, но не исключал возможность полной эвакуации. Решение не могло быть простым. Были мнения, что необходимо подождать, послать дронов, увеличить дистанционный анализ. Но время шло. Каждая минута молчания превращала ситуацию в бездну неизвестности.
Командир экспедиции, Талия Мойр, в конце концов произнесла вслух то, что думали все:
– Если они живы – мы обязаны их вернуть. Если мертвы – мы обязаны понять, почему.
И вторая экспедиция начала подготовку к спуску.
3. Вторая экспедиция
Группа спуска была экипирована по высшему уровню протокола: усиленные скафандры с дополнительной защитой от радиации, дублирующие узлы связи, автономные блоки навигации. Все – проверенные технологии. Всё – с оглядкой на первую трагедию.
Капсула вошла в атмосферу в расчётное время. Телеметрия шла стабильно. Оператор следил за биометрией, визуальными потоками, уровнем шума в системах. До самой посадки всё шло идеально. Даже ветер, отмеченный при первом спуске, в этот раз был слабее.
А затем – наступила странность.
Перед самой посадкой – уже на малой высоте – у капсулы исчезли тени. Под ней не было ни полутени от сопел, ни чёткого рисунка от источника света. Камеры фиксировали размытый фон, как будто сама планета «отказалась» от плотности. А потом пришла посадка.
Корабль Pax Magna получил сигнал касания грунта. Потом – краткий отчёт автоматической системы: "Стабильность – в пределах нормы. Экипаж в сознании."
После этого – пустота.
Все каналы замолкли. Аварийные маяки не активировались. Видео и аудио были прерваны, как будто кто-то перерезал не кабель, а саму возможность передачи.
Ещё через час спутники на орбите зафиксировали резкое изменение температуры в радиусе 500 метров от модуля. Колебания спектра напоминали искусственное вмешательство: как будто нечто направленное поглотило излучение. Но кто? Что?
На Pax Magna никто не верил в повторение трагедии. Но она произошла. И была другой.
Первая группа исчезла – внезапно и тихо. Вторая – оставила за собой краткий след, словно кто-то позволил им дойти до финала, чтобы наблюдать за концом. И этот конец – был спланирован.
Командование не сказало ни слова. В голосах оставшихся слышалось только одно: страх стать третьими.
Три дня не поступало ни одного сигнала. Ни от людей. Ни от автоматических ретрансляторов.
Командный центр Pax Magna круглосуточно вел сеансы вызова обеих групп. Использовались резервные частоты, направленные антенны, попытки запустить каскад ретрансляторов на высоких орбитах. Всё – без ответа. Один из инженеров предложил зашифровать сообщение в последовательность магнитных импульсов и сбросить его через выведенный с зонда отражатель. Попытка была проведена – но никаких откликов.
В бортовом архиве накопились сотни гигабайт пустых протоколов. Аналитическая группа начала строить гипотезы: внезапное поле локального экранирования, гравитационные линзы, сбой в алгоритмах распознавания живого трафика. Были даже догадки о внешнем вмешательстве, но они не выносились в официальные доклады.
На третий день аварийная подсистема сама активировала резервный канал. На частоте, близкой к инфразвуку, появился нечёткий, пульсирующий ритм. Он длился шесть секунд. Тональность смещалась, как будто это был не просто звук, а что-то, обладающее структурой. Он напоминал дыхание. Или пульс. Или… счёт?
Попытка расшифровки не дала результатов. Алгоритмы классифицировали его как «непредсказуемый паттерн с элементами биологической модуляции». Позывные повторили ещё раз, уже вручную, – и получили в ответ тишину.
В тот день командование впервые отключило свет в главном зале связи. В темноте экраны казались глазами. Но смотреть было некуда.
4. Последний шанс
Дискуссии длились недолго – но не потому, что было легко принять решение. Просто никто уже не верил, что есть выбор. Pax Magna мог оставаться на орбите ещё долго: запасы были рассчитаны на автономную работу, система жизнеобеспечения работала без сбоев, дублирующие узлы не подавали признаков износа. Но это была отсрочка. Не спасение.
Все ресурсы, ключевые модули, лаборатории, источники энергии – всё находилось в посадочных модулях. Там, на планете. Там, где замолчали первые и вторые группы. Необходимость спуска не обсуждалась – она была единственным способом продолжить миссию и, возможно, выжить.
Командование анализировало данные: отклонения в электромагнитных полях, внезапные тени, исчезающие сигналы, прерывистые телеметрические следы. Ничто не объясняло происходящее. И ничто не говорило, что третий спуск будет безопаснее. Но он был неизбежен.
Формулировка приказа звучала сухо: "Группа Три – к старту. Подтвердить готовность."
Никто не протестовал. Решение уже давно было принято – не в документах, а в сознании каждого. Это не был акт героизма. Это был долг. Или, может быть, обречённость. Но именно так начинается настоящая история: когда дорога назад уже невозможна.
Глава 3. Пределы.
1. День седьмой
На седьмой день Оскар проснулся от толчка. Не физического – скорее внутреннего. Как будто остатки воли, доселе парализованные тишиной и абсурдной надеждой на ответ, наконец собрались в узел и сжались. Он сел, тяжело дыша, глядя на потолок капсулы, где блекло мигал индикатор внутренней температуры.
Четырнадцать дней. Таков был лимит автономности скафандра и аварийных запасов – и то, если экономить каждый глоток, каждую калорию. Но это – в идеальных условиях. А условия были далеки от идеала: фильтры засорялись, аккумуляторы теряли заряд, скафандр всё чаще выдавал тревожные всплески по давлению. Он не рассчитывал дожить до предела. Но теперь – обязан был.
Первые два дня он провёл в оцепенении, действуя на автопилоте, удовлетворяя лишь базовые потребности – тепло, вода, сон. Затем пришёл этап ожидания: быть может, выжил кто-то ещё, быть может, одна из капсул села в пределах досягаемости. Он даже вытащил аварийный передатчик, настраивая его в надежде поймать сигнал – любой, даже слабый. Ничего.
На третий день появились Они. Неясные, чуждые, но реальные. Он надеялся: может быть, контакт возможен, может быть, они помогут, или хотя бы отзовутся. И следующие три дня прошли в попытках достучаться – жестами, словами, светом, резонансами. В ответ – молчание. Он не мог принять, что те, кто проявлялся – не люди, не машины, не что-то третье – никак не реагировали. Но теперь… теперь пришло осознание: контакт – если он возможен – придёт потом. Сейчас ему нужно было выжить. Любой ценой.
Но за этой мыслью пришёл страх. Не абстрактный, философский – физический, плотный, обволакивающий. Он вдруг ясно представил, как закончится эта история: тихо, без свидетельств, без погребения. Просто исчезновение. Его тело, его следы – всё растворится в этой странной, чужой среде, которую никто и никогда не сможет расшифровать. Он – ошибка статистики. Шум. Пыль.
Он открыл внутреннюю консоль капсулы и вывел остаточную карту миссии. По предварительным расчётам, автоматические модули должны были совершить посадку в радиусе пятидесяти километров. Где-то там – резервуары, солнечные станции, контейнеры с питанием, медицинские пакеты, инструменты, навигационные узлы. Всё, что нужно, чтобы выжить – и, может быть, начать сначала. Но на этом голом склоне не было ничего.
Навигационный приёмник работал с перебоями, но всё ещё мог определять магнитные аномалии. Он сверился с последними координатами, переданными из базы до катастрофы. Погрешность была огромна, но лучше, чем ничего.
Оскар поднялся. Его суставы скрипнули, как старые петли. Он знал: дальше – шаг за шагом – нужно двигаться. Каждое утро он будет возвращаться к этим координатам. Каждую ночь – анализировать маршрут. Пока не найдёт хоть что-то. Хоть один маяк. Хоть обломок.
Позади – шесть дней глухого ожидания. Впереди – неизвестность. И семь дней, чтобы её пересечь – прежде чем запасы истощатся окончательно. Он не знал, выживет ли. Не знал даже, имеет ли это теперь смысл. Но умирать без попытки – значило перечеркнуть всё, чему он посвятил жизнь.
2. Архитектоны
Оскар был архитекто́ном – титул, не просто означающий инженера, а обобщающий профессии планетолога, конструктора, координатора строительных операций и куратора экологической адаптации. Архитектоны не только строили, но и проектировали смыслы – они были наследниками и Верна, и Корбюзье, и тех, кто однажды на Земле изобрёл слово "дом".
Оскар пришёл к этому не сразу. В детстве он увлекался вовсе не чертежами, а растениями. Его мать, биолог, работала в институте адаптивной ботаники и часто брала сына с собой – в оранжереи, лаборатории, симуляционные теплицы, где под куполами выращивали земные культуры под условия других планет. Он помнил, как впервые увидел дерево, у которого листья были толщиной в миллиметр, а корни – как у виноградной лозы: «Это для Марса. Оно учится жить в чужом воздухе», – сказала она тогда. С тех пор мысль о жизни, способной выжить и вырасти в любой среде, глубоко засела в нём.
Отец был инженером. Не строгим и не рассеянным, а спокойным, молчаливым. Его хранили воспоминания о том, как они с отцом собирали модели старых космических станций в гараже, где пылились бумажные схемы и настоящие гайки с орбитальных платформ. Однажды они вместе включили старый симулятор гравитационных узлов – и экран вспыхнул, застрял, выдал ошибку. Тогда отец сказал: «Вселенная не обязана работать по нашим формулам. Она просто работает». Он сказал это с улыбкой. И с тех пор Оскар искал баланс между тем, что строится по расчётам, и тем, что выходит за пределы логики.
С юности Оскар с трудом ладил с архитектурными нейросетями. Вместо обычных чертежей они использовали синхронные VR-платформы с прямым нейроинтерфейсом: архитектор мысленно создавал конструкцию, а ИИ-редактор тут же подправлял геометрию, материалы, нагрузки. Но у Оскара всё время возникал конфликт – он мысленно создавал сложные, тектонически выразительные формы, а нейросеть начинала "упрощать", оптимизируя их до скучных, безопасных решений. В итоге он чувствовал, что проектируют не его руки, а чья-то вылизанная логика.
Поначалу он терпел неудачи. На вступительном отборе в университет его виртуальный макет был забракован: система признала элементы "художественно неоптимальными" и удалила почти половину слоёв конструкции, пока Оскар не заметил. На защите его обвинили в «превышении эстетической автономии», потому что он отключил подсказки ИИ и работал вручную – рискуя точностью. Тогда ему впервые показалось, что он ошибся с выбором пути. Но наставник сказал: «Нейросеть – это инструмент, а не редактор. Научись заставлять её молчать, когда нужно». Эти слова он не забыл.
В своих первых проектах он, казалось, проигрывал всё, что можно: габариты не сходились, один из модулей разгерметизировался при симуляции разности температур, а при первом реальном тесте макета он забыл учесть электромагнитное экранирование и вся внутренняя электроника перегорела. Его чуть не отчислили. Но он сам же и переписал всю управляющую архитектуру симуляции – не за неделю, как требовалось, а за трое суток без сна. Это стало его первым настоящим вызовом. И первым шагом к признанию.
Годы спустя он возглавил разработку модуля PlanetHab-X3 – автономной станции, способной адаптироваться к спектральной плотности света, криопочвам и нестабильной гравитации. Этот модуль потом вошёл в состав системы Pax Magna. Он знал его как родного. Строил его в симуляции, в тренировочном цеху, руками и мыслями.
Но даже во всех многоуровневых тренировках, во всех командных сессиях и взаимодействиях с десятками вспомогательных ботов – никто, ни одна программа не готовила его к одиночеству. Ко дню, когда некому будет подать кабель, удержать крепление, разложить схему на поле. Всё, что казалось сложным, оборачивалось теперь пустотой. Оказалось, что настоящая нагрузка – не в сборке модуля. А в том, чтобы остаться одним в его тени. И продолжать идти дальше.
3. Марш одиночки
Он потратил день на подготовку. Сначала укрепил скафандр, проверив все соединения. Затем собрал тележку: взял две параболические антенны связи от аварийного блока, закрепил их на продольной оси из жёсткой балки обшивки, добавил пару натяжных тросов. Примитивно, но работало. Запас воды на неделю, пайки, базовые инструменты – всё уложено, сбалансировано, привязано.
Перед выходом он долго смотрел в сторону горизонта. Здесь не было рассветов и закатов – только постоянство. Синхронное вращение навсегда пригвоздило одну сторону к звезде, тусклой и старой, излучающей в основном в красном и инфракрасном спектре. Солнце Тенеи не грело – оно угрожающе висело у горизонта, словно кровавый зрачок, вечно наблюдающий за границей света и тьмы. Там, в зоне терминатора, где он и высадился, царила тягучая, неуютная полутьма. Вечный сумрак. Мир без времени.
Цвета были невозможны. Ландшафт простирался в грязно-серых, бурых и багровых тонах, словно сама природа здесь страдала от нехватки света. Кристаллы пыли, взвешенные в воздухе, окрашивали всё в ржавчину. Иногда сквозь дымку проступал металлический блеск – обманчивый, как мираж. Воздух был плотным, вязким, будто сопротивлялся вторжению человека. Ни звука, ни движения – только хруст шагов по мелкому гравию, напоминающему измельчённый шлак.
Оскар пошёл. Под ногами ускользала порода: чёрный вулканический песок и гравий перемешивались с тугими жилками неизвестных минералов, отражающих красный свет как застывшая кровь. Тележка скрипела, собранная из двух антенн связи и частей капсульной обшивки – самодельное устройство, не рассчитанное на долгую дорогу. Она цеплялась за выступы, увязала, перевешивала – но держалась.
Он шёл вглубь чуждого мира. Ни одного знакомого силуэта, ни одной формы, за которую мог бы зацепиться взгляд. Всё – иное. Всё – неподвластное человеческой интуиции. Иногда казалось, что местность повторяется, будто издеваясь. Тени двигались без причины. Один раз он принял собственный след за след другого – и испытал краткий, животный страх, что кто-то идёт следом. Или ждёт впереди.
Наконец в тусклой тени звезды проступил силуэт. Огромный. Геометрически правильный. Модуль. Красноватый купол среди скал, как выдох человечества в этом безмолвии. Он затаил дыхание. Сердце застучало. Ускорился. Потом побежал – не думая. Тележка подскакивала, рвалась с рук, падала. Он не замечал.
Но модуль не приближался. Иллюзия. Игра света, искривлённого атмосферной плёнкой. Он вспоминал брифинги, знал об эффекте линзирования, знал, что может бежать к объекту, который кажется в полукилометре, а пройти придётся пять. И всё же – бежал.
Когда остановился, ноги не слушались. Он упал на одно колено. Выдох. Вдох. Мир не менялся. Никакой награды за усилия – только пыль и тени.
Он поднялся. Медленно, с усилием. Теперь – шаг за шагом. С каждым движением он как будто сдвигал целую планету. Но в какой-то момент – дошёл.
Это был настоящий модуль. Один из трёх идентичных, высаженных заранее. Надежда вновь охватила Оскара.
4. Модуль
Он стоял, как реликт из другого мира, другого времени. На фоне низкого неба, прорезанного ржавыми полосами слабого света звезды, модуль казался фантастическим артефактом, застрявшим между эпохами. Его геометрия – почти идеальный конус, скруглённый сверху куполом – была нарушена лишь щупальцами антенн, креплениями дронов и изогнутыми трубами внешнего теплообмена. Он возвышался над пустынным ландшафтом, как затихший вулкан – искусственный, но хранящий в себе былую мощь и обещание жизни. Тяжёлый, замкнутый, он будто сторожил границу между выживанием и забвением.
Металлическая обшивка – титан-углеродное композитное волокно с нанополимерным покрытием – не отсвечивала, а поглощала свет, придавая модулю матовый, почти бархатный оттенок, меняющийся от чёрного до винно-красного в зависимости от угла обзора. Местная пыль уже частично покрыла корпус тонкой плёнкой – как будто планета пыталась скрыть от себя чужака.
Это не был просто контейнер – это был организм. Сложнейшая инженерная система, способная поддерживать автономную жизнь и производство в течение нескольких лет.
Внутри модуля было всё, что должно было обеспечить не просто выживание, а полноценное автономное существование для восемнадцати человек в течение лет, если не десятилетий. Его начинка представляла собой квинтэссенцию земных знаний, собранных и уплотнённых в оболочку из сплавов, способных выдерживать даже сильное планетотрясение, случись оно на Тенее.
Самый верхний – биореакторный отсек не был просто теплицей. Это был биокупол – пульсирующий живой организм, в котором колониальные микроводоросли, лишайники и подземные грибы образовывали замкнутый цикл фотосинтеза. Они были генетически перепрошиты для адаптации к спектру местной звезды: фоточувствительные белки ловили даже инфракрасное излучение и преобразовывали его в энергию жизни. В рабочем состоянии сверху купол подсвечивался мягким биолюминесцентным свечением, словно модуль дышал во сне.
К нему примыкала станция переработки воды и органики – это был целый метаболический организм, в котором шла регенерация не хуже, чем в земной экосистеме. Бактерии, запрограммированные менять метаболизм в зависимости от параметров среды, перерабатывали отходы, воду, углекислый газ, а в аварийных режимах – даже сложные органические полимеры. Всё работало без запаха, без шума – как будто планета сама заботилась о человеке.
Медицинский узел был похож на гибрид операционной и саркофага. Капсула автомеда обволакивала пациента вязким светом сканирующих волн. Манипуляторы хирургической системы могли проводить нейрохирургию в условиях полной автономии. А встроенная база данных фармакологических протоколов была самообучаемой. Даже если на планете возникал новый патоген – система знала, что делать.
Ниже располагался фабрикатор, его называли «карманным демиургом». Он мог синтезировать всё: от винтов до систем жизнеобеспечения, используя органические остатки, металлическую пыль, базальтовую крошку. Строительный алгоритм понимал команды не только в коде, но и в образах, загружаемых с нейроинтерфейса. Он мог напечатать даже подковы для блохи, если оператору пришло в голову подковать блоху, и нашлись бы соответствующие насекомые.
Чуть выше уровня поверхности располагались жилые помещения, камбуз и вирт кают-компания, с пространством памяти. Здесь была вся Земная культура. Бах и Бьорк, Тарковский и Лукас, Гёльдерлин и генеративные поэты из Облака Архивов. Библиотека осязаний, симуляции земных прогулок, запах океана, виртуальный рассвет в Альпах, стук дождя по стеклу, запах джунглей и елового леса. Всё, чтобы не забыть. Всё, чтобы помнить, зачем человек вообще выжил.
Все это питалось энергетическим сердцем – реактором с огромным КПД, который был заключён в саморегулирующийся матричный корпус, способный гасить любой сбой. Реактором, рассчитанным на десятилетия непрерывной работы.
Все эти секции были связаны внутренним коридором, разделённым герметичными отсеками. Система автоматической балансировки давления, фильтрации воздуха и влажности координировалась интеллектуальным помощником – простым, но надёжным. Всё это было создано, чтобы выжить, не просто выжить – жить.
Оскар ощупывал панель доступа. Ни одного сигнала. Ни признака активности. Он знал наизусть его систему авторизации – сам проектировал этот протокол. Ошибки нет, как и ответа от модуля. Оскар сел прямо на пыльный камень. Смотрел в землю. В голове стучало. Потом вспомнил: аварийный порт.
Его ладони тряслись, когда он подключал кабель к аварийному разъёму. Электрический импульс прошёл вглубь корпуса – и утонул. Еще раз… Ни малейшего сигнала. Модуль не откликнулся. Все внутри было мёртво.
Оскар стоял перед ним, как перед запечатанным храмом, которому поклонялся всю дорогу. Бессильные слёзы стучали потекли по щекам. Он закрыл глаза, вжавшись лбом в металл. Всё, что могло быть спасением, – оказалось чёрной капсулой без будущего.
Он закричал, ударил кулаком по металлу. Ничего…
Осознание пришло медленно. Генератор мёртв, все виртуальные системы мертвы, дроны обесточены. Даже аварийный аккумулятор – пуст. Это невозможно, но это случилось.
Он сидел, сжав голову руками. В горле поднимался крик. Не от страха. От обиды. От бессилия. Это должен был быть его спасение. Его шанс. И он исчез.
Но потом – вдох. Медленный. Полный. Он ещё жив. А значит – будет идти дальше. Где-то там, через ещё десять километров, – второй модуль. Второй шанс. Или – финал.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+3
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе