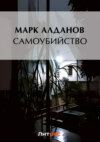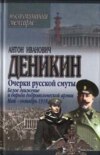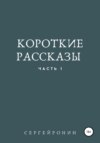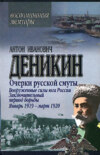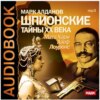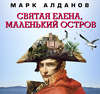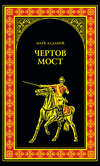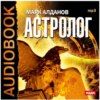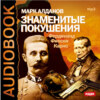Читать книгу: «Самоубийство», страница 37
X
Теперь все было кончено. Больше он ни в чем не участвовал. Потерял способность речи. «Не мог выразить самой простой примитивной мысли», – говорит профессор Авербах. И очень сердился, что его не понимают. Знаменитые врачи, и русские, и выписанные из Германии больше ничего не могли и посоветовать. Он почти не спал. В Москве ходила глухая молва, будто по ночам Ленин «воет как собака», случайные прохожие в ужасе прислушиваются издали. Вместе с тем сознание и после трех ударов иногда ненадолго восстанавливалось. Жена и сестра находились с ним в Горках безотлучно. Приезжали сановники. Пятаков играл на рояле, и, по его словам, лицо Ленина преображалось и выражало детскую радость.
И вдруг он, к общему изумлению, стал как будто поправляться! Сознание вернулось. Чем было занято? Можно лишь догадываться. Едва ли много думал о далеком прошлом. Его детство было очень счастливым. Не мог пожаловаться и на отрочество, оно было самое обыкновенное, «буржуазное»; в гимназии был первым учеником, любил деревню, ее развлеченья, ее радости. Но зачем думать о том, что было когда-то? Не вспоминал и о товарищах юности, тоже было, да сплыло. Едва ли много думал об отдаленном будущем: знал, что далеко заглядывать в будущее никто не может, – мог разве один Маркс?
Вероятно, больше всего он думал о себе, о человеке Ленине, дни которого сочтены. Думал, что оставляет жену одну. Вспоминал Инессу Арманд, – не все было глупо в том, что она порою робко говорила о «моральном начале». Он видел, что принес в мир больше страданий, чем кто бы то ни было другой в истории. Это особенно мучить его и теперь не могло: были готовые и совершенно бесспорные ответы. Да и прежде он не пользовался изреченьями о «любви к ближнему» и «любви к дальнему»: не любил ни ближних, ни дальних.
Не могли особенно удручать его и принятые, беспрестанно повторявшиеся в публицистике слова о готтентотской морали. Для Ленина уже больше двадцати лет хорошо и «нравственно» было то, что шло на пользу его делу, партии, пролетариату, а плохо и безнравственно то, что было им во вред. Следовательно, переоценки, кроме чисто словесной, не было. То, что прежде всеми и им самим называлось деспотизмом, злом, безобразием, теперь оказывалось прямо противоположным. Это было в порядке вещей и вытекало из истинного смысла его учения: говорить прежде надо было иначе, только и всего. И на него нисколько не действовали обвинения в том, что он прежде говорил другое: да, разумеется, прежде восхвалял свободу, проклинал гнет, клялся вести борьбу против смертной казни, распинался за идею Учредительного собрания; но только дураки могли не понимать, что теперь все было совершенно иным: к власти пришли он и его партия.
В самый день третьего удара он заканчивал диктовку статьи, которую неуклюже назвал: «Лучше меньше да лучше». Не от нее ли и случился удар? Это последняя написанная им статья. В ней сказано:
«Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятость. Вреднее всего здесь было бы спешить. Вреднее всего было бы полагаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем, или на то, что у нас есть сколько-нибудь значительное количество элементов для построения действительно нового аппарата, действительно заслуживающего названия социалистического, советского и т. п.»!!
Ему и раньше случалось призывать партию к «самокритике», к борьбе с собственным хвастовством, к проверке собственных действий, к сомнению в «элементах», – под ними, верно, разумел людей. В той «речи», которую он произнес на Четвертом конгрессе Коммунистического Интернационала, тоже были слова: «Надо учиться и учиться». Все же так он отроду не говорил и не писал. Все это – каждое слово – могли сказать и говорили меньшевики, социалисты-революционеры, либералы: именно «лучше меньше да лучше». И как он, самоувереннейший из людей, мог высказать сомнение в том, «что мы хоть что-нибудь знаем»? Значит и он не знал? И Карл Маркс не знал? Было ли это его настоящим завещанием, а не бумажка с оценкой качеств его помощников? Не было ли и других сомнений?
10 октября он вдруг, ни с кем и ни с чем не считаясь, велел подать автомобиль, сел, тяжело опираясь левой рукой на палку, и, к общему ужасу, велел везти себя в Москву, в Кремль. Там его встретили, как встретили бы привидение. Он вошел в свой кабинет, опустился в кресло, посидел – и вышел.
«Накануне рокового дня Владимир Ильич чувствовал себя вялым, – писал Семашко. – Он проснулся в нерасположении, жаловался на головную боль, плохо ел. Проснулся на следующее утро он также вялым, отказывался от пищи, и лишь по настойчивой просьбе окружающих он съел немного утром, за чаем, и немного за обедом. После обеда он лег отдохнуть. Вдруг домашние заметили, что он как-то тяжело и неправильно дышит».
В шесть часов вечера он потерял сознание. Температура быстро повысилась. Через пятьдесят минут он умер «от кровоизлияния в мозг, вызвавшего паралич дыхания».
Верно, половина человечества «оплакала» его смерть. Надо было бы оплакать рожденье.
Послесловие
«Самоубийство» – последнее произведение Алданова. Роман печатался в нью-йоркской газете «Новое русское слово» с 11 декабря 1956 г. по 2 мая 1957 г. Писатель не дождался конца этой публикации: 25 февраля 1957 г. он скоропостижно скончался.
Не случайно, думается, приведен в романе девиз португальского поэта Камоэнса: «Плыть по морям, по которым никто никогда не плавал». Впервые в литературе русского зарубежья Алданов поставил в центр повествования тему: Ленин и Октябрьская революция. К этой теме множество раз обращались в СССР, но книги, прежде всего написанные в годы сталинщины, были деформированы жесточайшей регламентацией, воспринимались как литературные иллюстрации к «Краткому курсу». Алданов полностью разрушает устойчивые стереотипы.
Роман был начат до XX съезда КПСС, набросок одного из фрагментов появился в газете «Новое русское слово» 1 января 1956 г. Но в широком смысле «Самоубийство», несомненно, связано с эпохой разоблачения «культа личности». Хрущевские разоблачения, при всей их бесспорной смелости и огромной важности для судеб страны, трактовали сталинщину как явление случайное, не характерное для гуманной в целом социалистической системы. Алданов же брал тему революции в широком историческом контексте, писал о всесилии тоталитарного мышления, о том, что в самом замысле перехода к утопическому справедливому обществу через насилие был нравственный изъян, зародыш будущей исторической трагедии.
Два десятилетия, изображенные в романе, от II съезда РСДРП до смерти Ленина, охватывают три революции и гражданскую войну в России и Первую мировую войну. Но Алданов меньше всего стремился иллюстрировать общеизвестные исторические факты. Его тема – перелом эпох. Перед читателем проходят портреты кайзера Германии Вильгельма II и императора Австрии Франца-Иосифа, одного из крупнейших политиков предоктябрьской России – Витте, миллионера Саввы Морозова. При всем разнообразии человеческих типов у Алданова в них есть нечто общее. Он цитирует одного из придворных Вильгельма: «Я живу в доме умалишенных». Как умалишенные, сильные мира толкали Европу к войне, к самоубийству.
В романе идет речь о самоубийстве трех персонажей, одного реального, Саввы Морозова, и двух вымышленных, супругов Ласточкиных. Но центральная тема – самоубийство России в революции.
Главное действующее лицо романа – Ленин. О Ленине Алданов-публицист писал много раз начиная с 1918 г., с книги «Армагеддон». В «Самоубийстве» он впервые создает его художественный образ. Алданову превосходно удается передать специфические интонации ленинской речи, он рисует революционного вождя в различных ситуациях, в кругу сподвижников и в борьбе с политическими противниками. В очерке «Картины Октябрьской революции» Алданов писал, что Ленин проявил в Октябре «замечательную политическую проницательность (о силе воли и говорить не приходится)»82. Эти же черты присущи и Ленину – герою романа. Однако уже на первых страницах звучит: «Вы большой человек, Владимир Ильич, но разрешите сказать вам, вы человек нетерпимый».
Нетерпимость, по Алданову, роднит революционеров разных эпох, в ней источник их силы; люди одной страсти, мономаны, способны, как никто другой, подчинять себе ход событий. Но нетерпимость – разрушительная, а не созидательная сила, и ее пагубность рано или поздно обнаруживается. Писатель размышляет о герметизме революционного сознания: уметь не помнить о жертвах, о крови, не жалеть ни близких, ни дальних; насильственный ввод людей в царство предполагаемого социализма должен быть осуществлен любой ценой. Эпизод тифлисской экспроприации призван подтвердить авторскую мысль о безнравственности революционного насилия. В другом эпизоде революционер-кавказец, отошедший от революционной деятельности, вспоминает, как в молодости убил провокатора: «Это не «романтизм»! От меня, революционера, был только один шаг до гангстера». На заднем плане повествования проходят зловещие фигуры Сталина и Муссолини, их исторический час еще не пробил.
В «Самоубийстве» десятки вымышленных персонажей, в их судьбах отражается движение истории. Парное самоубийство супругов Ласточкиных, быть может, самых обаятельных алдановских героев, – кульминационная сцена романа, прообраз гибели русской интеллигенции в революции. Писатель утверждал нравственность самоубийства, когда жизнь становится невыносимой. Но за трагической этой темой звучала непривычная для скептика Алданова тема мажорная и возвышенная: оправдание бытия – в одухотворенной, связывающей на долгие годы любви; любовь сильнее смерти.
Заканчивает роман сильно написанная сцена смерти Ленина. Она разительно контрастирует со сценой добровольного ухода из жизни супругов Ласточкиных. В первой повести Алданова «Святая Елена, маленький остров» Наполеон, подводя итоги прожитого, задается вопросом: «Если Господь Бог специально занимался моей жизнью, то что же Ему угодно было сказать?» В последнем романе Алданов возвращается к этому извечному вопросу. Ответ писателя содержит и оценку содеянного его героем: преступно ради интересного социального опыта жертвовать миллионами жизней, человек живет на земле во имя красоты и добра.
Отдельным изданием роман вышел в Нью-Йорке после смерти писателя, в 1958 г., с предисловием Г. Адамовича. Критик писал, что роман полон живого дыхания, повествовательная манера Алданова никогда не бывала убедительнее и своеобразнее.
Роман «Самоубийство» публикуется по изданию: «Самоубийство» – Нью-Йорк, изд. Литературного фонда, 1958.
А. Чернышев
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе