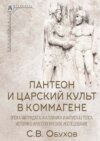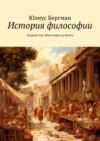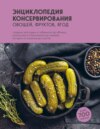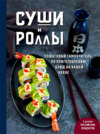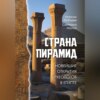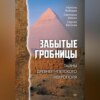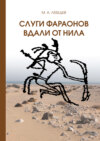Читать книгу: «Красная земля. Египетские пустыни в эпоху Древнего царства», страница 3
К началу XXI в. энтузиазм по поводу возможностей открытия новых общих законов развития общества и формулирования универсальных теорий существенно снизился как среди историков и археологов, так и представителей чисто социальных дисциплин103. В несколько меньшей степени это касается веры в достижимость в обозримом будущем более глубокого междисциплинарного синтеза на основе естественно-научных или цифровых методов. Осознание плато, на которое вышли социальные и гуманитарные науки, породило неизбежную дискуссию о вероятном тупике, в который зашла к началу XXI в. историческая и археологическая теория104. Среди египтологов похожие настроения удачно выразил Дж. Бэйнс: «Некоторые положения о Древнем мире могут быть опровергнуты в случае появления четких и подходящих контраргументов, но это нечастая ситуация; и очень редко что-то может быть подтверждено, если только речь не идет о суждениях, которые настолько очевидны, что не представляют серьезного интереса. Гораздо чаще новые свидетельства обогащают и усложняют картину или вместо ответа на старые вопросы лишь задают дополнительные»105. Одним из результатов наступившего кризиса стало исчезновение больших исторических нарративов. Вот уже более 30 лет106 истории Древнего Египта и Куша, если речь не идет об учебных пособиях, пишутся исключительно для широкой аудитории в научно-популярном формате или подменяются коллективными сборниками обзорных статей и энциклопедиями107.
Как это часто случается, за большими надеждами и планами приходит время кропотливой работы с учетом обогащенной теоретической и методологической базы. В качестве примера таких исследований на материалах Древнего царства по теме настоящей книги можно привести работы М. Ленера и П. Талле, стремящихся использовать максимальное разнообразие данных (археологических, в том числе данных экспериментальной археологии, археоботанических, археозоологических, геоморфологических, письменных, изобразительных и др.) при изучении древнеегипетской инфраструктуры эпохи IV династии108, или работы М. Одлера, посвященные производству, использованию и значению предметов из меди109. Междисциплинарность уже не исчезнет, и кажется очевидным, что она будет определять развитие исследований об эпохе Древнего царства в ближайшие десятилетия. Важно при этом отметить, что осознание пределов возможностей социальных наук не только укрепило статус гуманитарных способов познания, но и привело к повышению внимания к традиционным историческим методам со стороны представителей социальных и даже некоторых точных наук. Это вполне объяснимо, ведь социальные науки заточены под изучение процессов, институтов, агентности (способности индивидов, ландшафтов и вещей воздействовать на окружающий мир), а гуманитарные науки имеют дело со смыслами, их инструментарий позволяет уловить вещи более эфемерные, но часто не менее значимые110.
1.3. Пределы наших возможностей
Лицом к лицу лица не увидать.
Большое видится на расстоянье.
«Письмо к женщине», С. А. Есенин
И предал я сердце мое тому,
чтобы познать мудрость
и познать безумие и глупость:
узнал, что и это – томление духа;
потому что во многой мудрости
много печали.
Эккл. 1: 17–18
Один из парадоксов научного познания заключается в том, что, расширяя объединенными усилиями область знания, ученые одновременно увеличивают границу ее соприкосновения с областью незнания. Иными словами, чем точнее наши сведения о Древнем царстве и чем сложнее и разнообразнее вопросы, которые задаются источникам, тем конкретнее обрисовываются масштабы (еще) непознанного. Превращая незнание в сформулированную задачу, мы можем двигаться вперед в своей научной работе. На этом пути мне видятся три крупных вызова: 1) оценка границ и качественных характеристик нашего незнания; 2) согласование разных типов и видов данных для получения более полной общей картины; 3) определение масштабов изучаемых явлений и траекторий развития выявленных процессов.
1.3.1. Границы нашего незнания
Первая проблема кажется наиболее серьезной. Лакуны в научных данных могут быть порой настолько значительны, что некоторые из них из-за своих масштабов будут попросту не очевидны. Представим, что какие-то категории населения древнеегипетской Нильской долины не находили регулярного отражения в сохранившихся письменных и изобразительных источниках, связанных преимущественно с культурой правящего класса и государством. Они, конечно, должны были оставить свой след в материальной культуре, которая отражает более широкий спектр акторов, агентов, процессов и действий, но интерпретировать ее часто еще сложнее. Как в этом случае можно определить границы нашего незнания, скажем, о структуре древнеегипетского общества? Это, по меньшей мере, непросто.
Выявленные лакуны в данных можно залатать с помощью аналитических методов, но они не компенсируют сами данные. Поэтому заплаты эти регулярно отваливаются и заменяются новыми. Рассматривая наиболее типичные логические ошибки, встречающиеся в египтологических работах, Дж. Ги особенно выделяет игнорирование противоречащих гипотезе свидетельств, поспешные обобщения и использование более ранних допущений в качестве истин111 или, выражаясь словами А. О. Большакова, «традиции, освященной авторитетом времени»112. Ими, конечно, ошибки не ограничиваются. Нередко, к примеру, велик соблазн принять отсутствие данных о явлении за доказательство отсутствия самого явления. Так же легко не заметить систематические ошибки отбора. Ошибок, искажений и упущений избежать нельзя, но можно уменьшить их количество и влияние на итоговый результат, если регулярно сверяться с известными ограничениями источниковой базы и используемых методов.
Эпоха Древнего царства отражена в источниках очень неравномерно. Это касается как текстов и изображений, так и археологических памятников, количество которых колеблется от царствования к царствованию, демонстрируя лишь общую тенденцию к увеличению с III по VI династии, после чего их число снижается. Неравномерность, конечно, наблюдается не только в области хронологии (более поздние источники, как правило, более многочисленны), но также в области материалов (неорганические материалы часто сохраняются лучше, чем органические), географического распределения (столичные памятники изучены лучше, чем провинциальные), типов памятников (гробничные и культовые комплексы часто исследованы лучше, чем поселенческие, производственные или инфраструктурные), их престижности (памятники, создававшиеся для правящего класса, известны подробнее, чем предметы и их комплексы из менее элитных контекстов) и массовости (массовые категории памятников традиционно изучены лучше, чем редкие).
Вероятно, следует признать, что подавляющая часть событий и значительная часть процессов, которым были свидетелями древние египтяне, никогда не были ими отражены в письменном виде113. Из тех, что были задокументированы, очень немногие сохранились до нашего времени. Из тех, что сохранились, далеко не все были найдены. Из тех, что были найдены, не все опубликованы. Не все опубликованные тексты представлены достаточно полно, чтобы их можно было легко использовать в доказательной базе114. Наконец, порой бывает, что не все хорошо опубликованные надписи находятся в поле зрения или доступны конкретному исследователю. Оценить лакуны, возникающие на каждом этапе такого отбора, непросто. Это же в целом справедливо и для изобразительных источников с той лишь разницей, что появились они раньше, а сфера их употребления не была тождественна сфере употребления письменных памятников, хотя с ней значительно и пересекалась. Данные вызовы хорошо осознаются профессионалами, привыкшими работать с традиционными историческими источниками. Позднее я коснусь их подробнее в главе 8, посвященной государственным экспедициям за пределы Нильской долины. А пока перейдем к археологии.
Для историков, филологов или искусствоведов, которых среди специалистов по Древнему миру большинство, ограничения археологов могут быть не всегда очевидны. Формально любое физическое действие оставляет в материальном мире тот или иной след. Однако эти следы сразу начинают преобразовываться, подвергаясь естественным тафономическим процессам: органические материалы разлагаются, металлы подвергаются коррозии, архитектура – эрозии, следы стираются, изначальное положение артефактов (вещей) и экофактов (мягких тканей некогда живых организмов, скелетов, макро- и микроостатков растений и т. д.) нарушается, культурные ландшафты изменяются. Человеческая деятельность влияет на сохранность исторических «улик» о конкретном событии, явлении или процессе столь же сильно: постройки разбираются, памятники переиспользуются, металлические изделия переплавляются, погребения разграбляются, культурный слой нарушается, ландшафты преобразовываются. Парадокс артефактов и экофактов заключается в том, что иногда они могут казаться очень красноречивыми и объективными, но это зачастую иллюзия. Сами по себе, подобно уликами на месте преступления, они молчат, начиная говорить лишь благодаря аналитическим способностям следователя и технологиям. Иными словами, все материальные свидетельства являются таким же конструктом, полученным в результате интерпретаций, как и любые другие свидетельства. С одной стороны, это порождает свойственный археологам, – в особенности изучающим бесписьменные общества, – эпистемологический пессимизм, с другой – стимулирует творческие научные инновации в теории и методологии115. Проработав более 20 лет в различных археологических проектах, вынужден согласиться с расхожим мнением о том, что археологи, занимающиеся письменными обществами, а тем более письменным обществом с такой яркой и, казалось бы, красноречивой материальной культурой, как древнеегипетская, в среднем менее склонны к рефлексии относительно инструментов, используемых для превращения археологических данных в археологическую информацию и археологические свидетельства. Это не отменяет того, что они проводят с артефактами, экофактами или древними ландшафтами ту же интерпретативную работу, что и их коллеги из других регионов, просто качество этой работы может быть ниже, а результаты – хуже.
Возьмем для примера контакты жителей Нильской долины с территориями современных пустынь, и мы увидим множество лакун даже по трем самым очевидным вопросам:
1) Что египтяне искали?
Египтяне эпохи Древнего царства получали из-за пределов Нильской долины широкий набор минералов и органических ресурсов116, а также дичь, скот и людей. Работая преимущественно с эпиграфическими источниками, а не хозяйственной документацией, которая почти не сохранилась, исследователю стоит готовиться к тому, что свидетельства о редких, но важных с политической, идеологической или культурной точки зрения событиях будут доминировать над свидетельствами о регулярных и вполне рутинных поставках или перемещениях ценностей и людей, которые потенциально имели большее хозяйственное значение117.
Многие египетские термины, использовавшие для обозначения минералов118 и органического сырья, поставлявшихся из ныне пустынных областей, не поддаются пока переводу. За редким исключением мы почти ничего не знаем о фактических объемах таких приобретений, конкретных источниках материалов, происхождении животных или переселенцев/пленных119. Археология здесь обычно может дать только самые общие ответы. К тому же археологам куда проще проследить перемещения предметов и материалов, чем выявить стоявшие за этим институты и ответить на вопрос о том, кем были добыты те или иные ресурсы. Нам действительно очень сложно судить, какие минералы и с каких месторождений египтяне были готовы добывать самостоятельно, а какие лишь обменивали у местных жителей в контактных зонах. В особенности это касается не самых ходовых минералов вроде слюды, графита, халцедона, полевого шпата, граната, горного хрусталя и пр.
Даже если мы оставим в стороне органические или малопрестижные дары пустынь и саванн, такие как шкуры, рога, смолы, лечебные растения, необычные камни и окаменелости, раковины, дерево, пигменты или мед, о которых – помимо археологии – данных практически нет, и возьмем лишь камень, шедший на строительство, саркофаги и скульптуру, ситуация все равно будет оставаться непростой. Даже проводившаяся в почти идеальных условиях попытка оценить объем добытого и использованного в Древнем царстве базальта (известны всего одни крупные каменоломни этого времени и практически весь добытый там камень шел на уже раскопанные царские погребальные и поминальные комплексы) дала результаты с двукратным разбросом120. Что уж говорить о других материалах, таких как травертин, кварцит, граувакка, диорит, которые разрабатывались на нескольких месторождениях, а затем находили широкое применение не только в более задокументированной сфере царского строительства и производства, но и далеко за ее пределами. Добавим сюда традиционную для египтологии проблему с определением материалов «на глаз» с последующим воспроизведением этих интерпретаций в литературе. Петрографические исследования с целью точного установления породы камня и источника его добычи очень редки, а когда они все же проводятся, полученные результаты не гарантируют безошибочных выводов121.
То же самое касается другого важнейшего вида сырья – металлов. Возьмем, к примеру, медь. Нам известны основные районы добычи использовавшейся в Древнем царстве меди: Синай и Восточная пустыня, Нубия, Азия и Пунт, – но оценить фактическое значение поставок из этих регионов, их соотношение в общем балансе поступления металла в египетскую Нильскую долину и дельту в конкретные исторические периоды мы пока не можем. Изотопный анализ свинца в медных сплавах помогает установить происхождение руды, из которой был сделан предмет. Но ограничением остается очень небольшое количество опубликованных сравнительных данных изотопных исследований образцов с древних месторождений. Такая ситуация не позволяет пока даже приблизиться к оценке роли не только конкретных разработок, но и целых регионов добычи в обеспечении населения Нильской долины важным металлом122. На это накладывается и проблема существующей выборки: находившиеся в обороте медь и бронза очень ценились, и изделия из них многократно переплавлялись, поэтому большая часть дошедших до нас металлических предметов происходит из погребений или контекстов, связанных с культом и ритуалом123, где у них шанс археологизироваться был выше. Если географическое происхождение медной руды имело значение в культуре (если, например, какие-то месторождения считались символически более значимыми или священными) или экономике (если, например, у государственных и частных мастерских были разные источники сырья), то имеющаяся у нас выборка может оказаться к тому же еще и нерепрезентативной для изучения источников минералов и объемов их добычи.
В завершение добавлю еще один штрих к пониманию масштабов нашего незнания. На типологическом этапе считалось, что единственным известным египтянам медным сплавом была оловянистая бронза, которая стала широко появляться в Нильской долине со Среднего царства124. Однако изучение элементного состава медных изделий на контекстуальном этапе изменило эти представления. Выяснилось, что широко распространенной искусственной добавкой к меди на протяжении всего III тыс. до н. э. в Египте был мышьяк, который мог значительно увеличивать прочность и блеск изделий. В эпоху Древнего царства мышьяковистые бронзы, видимо, были основным материалом для металлических орудий и оружия125. При этом мы пока совершенно не знаем где и как в это время добывали или откуда получали мышьяк древние египтяне126, как он назывался тоже неизвестно. Такие вопросы – в действительности важнейшие для изучения хозяйства и экономики Древнего царства – пока в литературе серьезно не ставились.
2) Как египтяне перемещались?
Многие караванные пути реконструируются гипотетически. Если ранее в основе реконструкций лежали преимущественно разведки отдельных участков на местности с опорой на следы животных, материальную культуру и эпиграфические свидетельства, то теперь, когда поверхность пустыни значительно нарушена, в основе гипотез часто лежит анализ спутниковых данных или пространственный анализ рельефа местности и расстояний127. Порой результаты, полученные при изучении материальных свидетельств и цифрового рельефа местности, входят в противоречие из-за сложностей с учетом дополнительных факторов, таких как, например, древние источники воды. Отделить следы караванов ослов (илл. 11а) времени фараонов от следов более поздних римских или средневековых верблюжьих караванов бывает возможно при разведке на местности или при анализе способов преодоления сложного рельефа128, но более точную датировку способна дать только материальная культура129. А она не всегда сохраняется в достаточном количестве, особенно если по путям перевозили преимущественно контейнеры из органических материалов (скажем, корзины, мешки и бурдюки вместо керамических сосудов). Найденная же в пустынях керамика недвусмысленно говорит только о перемещении вещей, но становится куда менее определенным свидетельством, когда речь заходит о возможном перемещении людей. Вот характерный пример: яркое обнаружение египетской мейдумской чаши времени IV или V династии в Вади Шоу130 в 320 км к западу от III нильского порога и 550 км к юго-западу от оазиса Харга может свидетельствовать о присутствии египтян в этой крайне удаленной местности (и тогда это будет точка на карте для реконструкции караванных путей, которые использовали древнеегипетские экспедиции), но может говорить и о простом перемещении вещей в результате обмена или грабежа, который осуществляли местные кочевые группы. Петроглифы или надписи могут быть более надежными свидетельствами физического присутствия носителей конкретных культур, но опять же не всегда: иногда речь может идти о заимствовании отдельных знаков или изображений.
3) С кем египтяне взаимодействовали?
В археологическом плане население пустынь известно в основном по небольшому набору свидетельств: скромной материальной культуре, петроглифам и погребениям. Стоянки скотоводов III тыс. до н. э. почти невозможно обнаружить без разведок непосредственно на местности; следы таких лагерей, в особенности непродолжительных, обычно очень скромны и невыразительны. Свидетельства установки легких конструкций выявить крайне тяжело, чаще находят кострища, хозяйственные ямы, районы мастерских. Нередко предметы разного времени, разделенные тысячелетиями, могут лежать на одной и той же поверхности, где культурный слой оказывается разрушен или не успевал формироваться131. Некоторые археологические культуры известны преимущественно по некрополям, однако в какой степени география найденных захоронений соответствует ареалам фактической активности представителей этих культур – тоже вопрос без четкого ответа. Численность древних жителей ныне пустынных областей Египта и Судана оценить также непросто, поскольку не хватает данных о социальной структуре отдельных групп и их объединений, их институтах и доступных природных ресурсах.
Итак, объективная оценка границ и качественных характеристик нашего незнания является очень серьезным вызовом. Вторая крупная проблема – это согласование разных типов и видов данных для реконструкции более полной общей картины. Один из крупнейших инноваторов в истории археологии сэр Р.Э.М. Уилер однажды емко и удачно сформулировал основную проблему археологического источника: «Археолог может найти бочку, но при этом совершенно не заметить Диогена»132. Вероятно, Диогена можно попытаться найти сообща благодаря междисциплинарности. Но, во-первых, дошедшие до нас письменные, изобразительные и материальные источники часто повествуют о фактически непересекающихся событиях, явлениях и процессах – и это важнейшая проблема. А во-вторых, чтобы данные было легко сравнивать и анализировать, они все же должны быть однородными. Это касается обоих основных типов данных – и количественных, и качественных. В рамках одного вида данных (в нашем случае это могут быть числа, тексты, изображения, материальная культура) однородности достичь можно, хотя не всегда легко. Но вот согласовать разные виды и тем более типы данных куда сложнее. Классический пример – это соотнесение археологических культур (материальные данные) с известными этнонимами/псевдоэтнонимами (письменные и изобразительные данные)133 или согласование письменных и изобразительных данных о древних природных и культурных ландшафтах с данными археоботаническими, археозоологическими и палеоэкологическими, о чем еще пойдет речь ниже.
Третья проблема – это оценка масштабов изучаемых явлений и траектории развития выявленных процессов. Я упоминаю о ней в последнюю очередь, так как она тесно связана со всем, что было сказано выше. Для ее преодоления необходимо четко понимать границы незнания и стараться согласовывать как можно больше разнородных данных. При этом успех все равно не гарантирован. Следует признать, что для большинства явлений и процессов в жизни древнеегипетского общества эта задача еще не решена. Письменные и изобразительные источники фиксировали в основном события (причем далеко не всегда реальные), культурный слой или естественные отложения также формировались из контекстов, отражающих конкретные события. Группируя события в кластеры и последовательности, мы выдвигаем гипотезы о существовании типичных явлений и процессов. На этом этапе есть много опасностей, в частности, опасность не заметить систематических ошибок отбора, таких как ошибка выжившего. В археологии и истории нередко случается так, что по одной группе акторов или событий («выжившим») наблюдается относительный избыток данных, а по другой («погибшим») их практически нет. В результате можно искать общие черты у «выживших» и упустить из виду не менее важную информацию, которую несут о некогда существовавшей единой картине «погибшие». Лучший пример, пожалуй, – это официальные экспедиционные надписи первой половины Древнего царства («выжившие»). Их число явно не соответствовало числу реально организованных государством предприятий («погибшие»), а сами они, естественно, никак не отражали возможную деятельность на тех же месторождениях не связанных с государством групп (другие возможные «погибшие»).
Повторяющиеся и связанные между собой явления, рассмотренные в диахронической перспективе, позволяют судить об исторических процессах: освоении выходцами из Нильской долины внешней ресурсной базы, изменении масштабов древнеегипетского государства, эволюции древних экспедиционных центров, развитии провинциальных элит, аридизации климата, формировании сообщества экспедиционных участников, усовершенствовании методов добычи полезных ископаемых и т. д. Следует при этом помнить, что многие процессы и в культуре, и в природе не происходят линейно. Они могут испытывать воздействие цикличных (например, сезонных изменений или циклов солнечной активности) и случайных факторов (например, вторжений, наводнений, болезней и т. д.). В результате траектория развития процесса может быть очень замысловатой134. Так, рост масштабов проникновения египетского государства в жизнь населения Нильской долины и окружающих территорий135 не исключал временных откатов к предыдущим состояниям, изменений вектора развития, ускорений или замедлений по объективным (например, климатическим, политическим, экономическим) или субъективным (например, в силу личных качеств правителей) причинам. Поскольку из-за неполноты данных мы не имеем доступа к значительной части «контрольных точек», восстанавливаемые траектории развития процессов могут серьезно отличаться от древней реальности. Это следует иметь в виду, особенно когда речь заходит о поиске взаимосвязей между разными процессами. Например, технологическими и экономическими или климатическими и политическими.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+26
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе