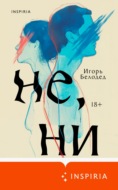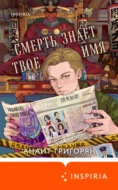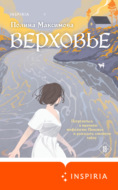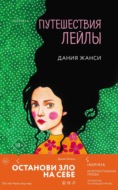Читать книгу: «Цепи меланхолии», страница 4
– А это недурно, очень недурно! – заинтересованно произнесла Аманда, не отрываясь от картины. – Тут есть еще! – воскликнула она и, всучив Чаду первую работу, полезла на полку за следующей.
– Перестань. Кто-то может войти… – попытался было остановить ее Чад, но все было без толку.
Один за другим Аманда доставала и ставила у основания шкафа холсты на подрамнике и без, какие-то картонки, рулон, перетянутый резинкой, – правда, развернуть его она так и не решилась. Внезапно возникший энтузиазм Аманды вдруг захватил и Чада, какой-то дикий азарт толкнул его к двери, и он быстро закрыл ее на замок, чтобы, вздумай кто-нибудь вломиться, можно было успеть вернуть все на место.
– Ты только посмотри на это! – Аманда толкнула его в плечо, глядя на парад выставленных работ, и Чад послушался.
В ту же секунду он осознал пропасть, разделявшую его и более талантливого однокурсника. Шейн, очевидно, не стремился к повторениям, каждая работа казалась окном в мир, где все течет по иным законам. Да, на картинах были изображены люди, но их эмоциям не нашлось бы определения, то были задумчивые и в то же время обезображенные лица, будто мышцы их были червями, копошащимися под кожей.
– Кто это написал? – спросила Аманда.
– Шейн Ростер.
– Вы друзья?
– Не сказал бы.
– Он уже выставляется?
– Пока нет, но думаю, это лишь вопрос времени, – не без досады отозвался Чад. Ему вдруг захотелось исчезнуть, оставив Аманду в студии наедине с работами его товарища, чтобы она могла отдаться созерцанию, позволила им властвовать над ее впечатлительной душой, которая, Чад не мог не признать, в искусстве все же оказалась искушенной. Наблюдая, как Аманда завороженно разглядывает картину, Чад на мгновение порадовался, что Шейна сейчас здесь нет, что он никогда не узнает об этом эпизоде и о восхищении Аманды тоже.
Всем существом Чада вдруг завладело пакостнейшее из чувств, которое так часто без предупреждения поселяется в какой-нибудь робкой, неуверенной душе. Отравляющая зависть, наполняющая горечью и без того страдающее сердце художника, так некстати проявила себя, пришла помучить Чада, напомнить, что отныне ему предстоит всякий раз терзаться при виде чужого таланта. Чад был слишком высокого мнения о себе и решил, что привит от провала, что если заранее не победил в схватке, то по крайней мере основательно к ней подготовился, предполагая, что уровень крепкого середнячка позволит продержаться. Он и подумать не мог, что на соседней полке все это время хранились работы, намного превосходящие его собственные, при том что дело не только в мастерстве, но и в личности художника, в образе мысли и особом отношении к миру. А Чад, увы, не мог похвастать тем, что сформировался как живописец, слишком многое ему нравилось, слишком разное мечтал изобразить, а вот рядом – талант с уникальным видением, оригинальностью мысли, уверенностью – а не самоуверенностью.
Как мучительно осознавать, что в мире полно людей, превосходящих тебя мастерством, как безнадежна эта мысль, как будто не на что опереться и весь твой опыт – пустышка, отрез поролона с обманчивым объемом. Даже умудрившись взобраться на него, под собственным весом все равно опускаешься на землю. Хоть двадцать лет проведи за холстом, будешь так же кусать локти, стоя перед картиной какого-нибудь явившегося из ниоткуда самородка.
– В тот день в галерее ты сказала, что я талантлив. Ты так больше не считаешь?
– Отчего же. Наоборот, я в этом только уверилась.
– Но ты ведь так восхищена работами Шейна, а мои даже смотреть толком не стала.
В темных глазах Аманды промелькнул удовлетворенный огонек.
– Я все еще убеждена, что ты талантлив, просто картины для выставки совсем не отражают тебя, молчат о том, что мучает тебя как художника, что ты воображаешь, оставшись наедине с холстом. Это картины прилежного ученика. Когда-нибудь ты станешь мастером, и тогда я изменю мнение, но пока что тебе предстоит длинный путь.
– Я и есть ученик, – буркнул Чад.
– Где же твой учитель?
– Торп слишком черствый, чтобы дать ценный совет, он не способен писать сам и не позволяет другим. Его душа полна разочарований; все, что он умеет, – брюзжать, чтобы люди не позабыли о его существовании. Нет, такого учителя я себе не желаю. Если уж выбирать, то я взял бы такого, кто мало говорит, но много делает. Какого-нибудь старого сумасброда, малюющего с утра до вечера, живущего в одиночестве где-нибудь на задворках Лондона. У Шейна – дедушка художник, он вырос в окружении холстов и красок, а вот мне повезло меньше. Я только и могу, что рассчитывать на себя.
– Ты так уверен, что обойдешься без помощи других, но вот я здесь, ты сам пригласил меня, чтобы узнать, что я думаю о твоем творчестве, а теперь говоришь, что не нуждаешься в этом.
– Откуда тебе знать, что мне нужно!
– Я не знаю. Но и ты не узнаешь, если не начнешь писать так, как положено художнику. Ты твердишь о самоотречении, честности, но сам при этом прячешься от мира. Искусство – всегда больше, чем холст и краски. Мне кажется, ты должен научиться освобождаться. Ты слишком озабочен чужими достижениями, так много размышляешь о других, тогда как стоило бы дать дорогу собственному таланту.
– К черту все! – воскликнул Чад. – Я и сам недоволен. Все это чужое, хватит мне притворяться! Всякий раз, подходя к холсту, я жалею, что у меня есть тело, будто моя душа заключена в темницу. Мне нужен всего один хороший портрет – и человек, который сможет вдохновить меня. Некто, кто не станет давить. – Он сверкнул глазами в сторону Аманды. – Кто поможет найти свой путь, подскажет, как пройти его без самообмана. Ван Дейк учился у Рубенса, Эль Греко у Тициана, у всякого великого художника был учитель, мне тоже он нужен, – выпалил Чад и, на минуту задумавшись, вдруг добавил: – На днях я узнал об одном художнике, его зовут Оскар Гиббс.
– Не слышала о таком.
– Он сорок лет живет в психиатрической лечебнице, в Бетлеме.
– Бетлем? Знаю, что у них есть галерея работ пациентов.
– Оскар написал кучу картин, вот только все они спрятаны от посторонних глаз. Торп видел лишь несколько и сказал, что они производят страшное впечатление. Я хочу взглянуть на его полотна.
– Зачем?
– Этот пациент, Оскар Гиббс, он пишет с утра до ночи и одержим искусством. Для него нет ничего важнее, и Торп считает его гением.
– Почему он оказался в Бетлеме?
– Торп сказал, что-то случилось с Гиббсом за границей. Что-то жуткое, разрушительное. Торп показал нам репродукции нескольких его работ, они прекрасны. Я не знаю, как он смог написать их, ни разу не покинув больницу. Он никогда не учился живописи, при этом он и есть – настоящий художник. Я не могу перестать думать о нем.
– Надеешься, что он возьмет тебя учеником? – Аманда с недоверием посмотрела на Чада.
– Я хочу узнать, как выглядит настоящий гений, где берет вдохновение художник, которого не заботит ничего, кроме искусства. Пусть он не произнесет ни слова, не посмотрит на меня, лишь бы позволил наблюдать.
– Наверное, человеку свойственно жаждать того, чем, по его мнению, он не обладает.
Чад бросил неопределенный взгляд на Аманду.
– Что ж, если для того, чтобы достигнуть цели, мне придется назваться ничтожеством, я готов на это.
* * *
Из студии они поехали на набережную и долго гуляли вдоль Темзы, глядя на мягкое движение серой реки. Маслянистая поверхность и ее неочевидная глубина притягивали взгляд Чада, он смотрел вниз, дивясь укрощенному могуществу воды. «Если бы не человек и его желание подчинить себе природу, – думал Чад, – река могла быть шире или вовсе иссохнуть. Человек управляет пространством и меняет его правила, но при этом не способен укротить собственный разум…»
Они ели мороженое, Аманда безостановочно шутила, то и дело касаясь Чада, в конце концов взяла его под руку и заявила, что ей скучно. Тогда они поехали в Сент-Джеймс парк, чтобы прогуляться до того, как окончательно стемнеет. Там было прохладно и по-весеннему торжественно, и Чад, чувствительный к красоте и взволнованный длительным пребыванием рядом с Амандой, все не мог собраться с мыслями. День постепенно клонился к вечеру, воздух казался прозрачным, под кронами деревьев собрались тени. Чад и Аманда стояли на мосту. Она разглядывала уток и плавные узоры, которые создавало на воде их движение. Чад решил, что мог бы увлечься Амандой: изящная, но при этом полна жизни, кожа сияет, в осанке горделивость. Чаду было с ней легко. Весь облик ее, миловидность и чувственность создавали ощущение неизбежности их союза, да и тот факт, что она не постеснялась высказать восторженное мнение касательно работ Шейна, говорил о смелости, хотя она наверняка понимала, что Чаду это не понравится. Для подобного нужен характер, нельзя списывать это со счетов; скорее всего, в отношениях Аманда так же честна и открыта, так же предана собственному мнению – замечательные качества, если посмотреть.
Да, она могла бы привлечь Чада, но что-то удерживало его от решительного шага. Он не хотел идти на поводу у чувств, которые уже грозились свалиться ему на голову, – больше, чем привязанности, он боялся изменений и, как истинный творец, не соглашался на рутину там, где должны кипеть эмоции. Едва ли ему приходило в голову, что в отношениях можно находить счастье и покой; Чаду казалось транжирством распылять огонь бушующей в нем страсти на что-то столь конкретное, как человек, пусть даже этот человек – замечательная Аманда. Всем существом его владела жажда иного рода – не обладания, но возвышенности, которую могло дать лишь искусство – этот бескрайний огненный шар, опаляющий каждого, кто взглянет на него. Только искусству Чад желал поклоняться и приносить жертвы. На этом этапе жизни, подобно цветку, обращенному к солнцу, он тянулся к красоте и все же, как художник, не стремился обладать ею. В его сознании, в отличие от более приземленной Аманды, не возникало нужды назвать что-то своим, ему доставало осознания того, что нечто существует само по себе и не зависит от его прихотей.
Чад был напичкан заблуждениями, одно из которых гласило, что искусство менее требовательно, чем любовный танец двух сердец, поэтому он был уверен, что поступит правильно, отказавшись от Аманды. Его душа жаждала подвигов, в воображении он видел себя воином, верным в служении избранному пути. Ему ни к чему препятствия на этой полной приключений дороге, а Аманда казалась хоть и обворожительной, но все же преградой. Это сейчас она ничего не требует и держит дружескую дистанцию, но стоит сделать шаг навстречу, весь уклад его жизни изменится и будет подчинен женским прихотям. Чад будет стараться всячески ей угодить, особенно в первые месяцы, а дальше каждый станет проявлять характер, возникнут противоречия, которые не так-то просто разрешить, не задев чувства другого. Он уже не сможет подолгу гулять в одиночестве, раздумывая над сюжетом картины, острота его взгляда притупится, его одолеет лень, и рано или поздно его затянет в губительную романтическую пучину, из которой уже не выбраться.
Когда на парк опустились промозглые сумерки, Аманда потянулась к Чаду, желая, чтобы он приобнял ее за плечи, но он отпрянул, сделав рефлекторное движение, которое при иных обстоятельствах могло бы остаться незамеченным. Но оно было замечено и заставило Аманду приостановиться и с каким-то новым вниманием взглянуть на Чада. Она ухмыльнулась, как показалось Чаду, с удивлением, но быстро совладала с собой и по пути к автобусной остановке больше не делала попыток к сближению. Трудно было не заметить преувеличенную вежливость, с которой она помахала ему на прощанье из автобуса, стремительно и непринужденно, как если бы хотела поскорее остаться наедине со своими мыслями. Чад тоже помахал ей, вложив в свой жест достаточно тепла, чтобы как-то сгладить неприятное впечатление, и по пути домой больше не вспоминал об этом эпизоде, решив для себя, что все сложилось как нельзя лучше.
Уже лежа в постели, он вновь ощутил принадлежность к чему-то большему и уверенность, что не имеет права растрачивать понапрасну силы. Он подумал, что завтра же спросит Торпа, при каких обстоятельствах тому удалось увидеть спрятанные от публики картины Гиббса и может ли он помочь Чаду тоже увидеть их.
Он уснул с мыслью впредь беречь себя для важного замысла, хотя еще не понимал для какого. С ощущением, что всю свою жизнь он ждал момента для исполнения когда-то данного обета, и вдруг этот момент настал, настал неожиданно и неотвратимо, и единственный выход Чаду виделся в одном – не противиться ему.
Глава 4
Я чувствовал, что озарения и опыты моих счастливых часов не лежат больше в стороне от всяких законов и правил, что посреди строгого ученического послушания пролегает узкая, но ясно различимая дорога к свободе10.
Герман Гессе, «Гертруда»
В лондонской королевской больнице Бетлем находятся две скульптуры. Высеченные из портлендского камня, пугающе реалистичные, фигуры Мании и Меланхолии11 напоминают посетителям о колоссальном прогрессе, который сделала психиатрия за семь с половиной веков – от истоков до сегодняшнего дня. О том, как медленно и настойчиво двигалась она от несвязных, жестоких, разрушающих тело и мозг пациента методов, похожих скорее на пытки, нежели на попытки излечить, до сострадания и ощутимой помощи, до глубокого понимания сложных процессов, протекающих в сознании человека.
Лицо мужской фигуры, изображающей Меланхолию, исполнено печали, рот приоткрыт, губы слабые, безвольные, они не способны проронить ни звука, лишенное силы и смысла слово в них погасло. Взгляд рассеян, как будто фигура чутко прислушивается к чему-то внутри себя, к какой-то ускользающей, неизъяснимой мысли, и это нечто так тихо, что требуется болезненное усилие, чтобы только уловить тающий сигнал, распознать его.
Фигура насквозь пронизана отстраненностью, от нее веет апатией, смирением и грустью, однако жертва всеми силами старается скрыть от окружающих свои страдания, изгибы тела говорят о намерении отвернуться, только чтобы спрятать боль, ясно читающуюся на лице, хотя бы притвориться здоровым.
Противоположность Меланхолии – фигура Мании, она полна силы, от нее исходит решимость, но решимость эта пугает. Мужчина здесь порабощен внутренней борьбой с невидимым противником, мышцы его напряжены до предела, глаза и рот застыли в немом крике, острые скулы выпирают, голова запрокинута, и жилы пронзают камень. На руках – цепи, удерживающие от побега или нанесения себе увечий, но очевидно, что предмет страданий вовсе не они, а нечто страшное, невидимое глазу, но отраженное на исступленном лице, искаженном мукой, нечто, берущее начало в глубинах мятущейся души.
Обе статуи как цельная композиция были созданы датским скульптором Каем Габриэлем Сиббером и в 1676 году подарены Лондонской королевской больнице Бетлем в качестве символа двух широких понятий в истории психиатрии – мании (или буйного помешательства) и меланхолии. Многие столетия именно на эти два термина опирались доктрины о психическом здоровье и именно на них делились все существующие в мире недуги разума. Все когда-либо наблюдавшиеся психические отклонения, видимые и неочевидные, прогредиентные и вялотекущие, пугающие и не вызывающие страха, – все эти помешанные с бредовыми мотивами, сложными зацикленностями и психозами, с самоубийственной печалью и дьявольским смехом, с запретными желаниями и вызывающими отвращение девиациями, всех этих умственно неполноценных, дурашливых, маниакальных, враждебных, запутавшихся, подозрительных, одичавших людей в давние времена делили лишь на два вида: их считали либо буйнопомешанными, либо меланхоликами.
Разделение это не случайно: оно произошло из длительных наблюдений за душевнобольными и основывалось на двух явственных особенностях их поведения, а именно – спокойствии и буйстве. А так как буйных необходимо было изолировать и успокоить, а спокойных – взбодрить любыми возможными способами, годились всякие методы: считалось, что хорошо помогало кровопускание, отвар чемерицы, рвотные и слабительные средства. Все это отвлекало пациента от страданий и изматывало настолько, что он, обессиленный, уже не способен был двигаться. Обливание ледяной водой работало как катализатор ясного ума: состояние шока, в которое попадал душевно страдающий, снижало интенсивность его приступа, в редких случаях полностью останавливало его. Физическая стимуляция подходила меланхоликам: насильственное выведение на прогулку или хождение в железном колесе до полного изнеможения призваны были помочь, как и щекотание, определявшее, не симулянт ли пациент, – в то время считалось, что меланхолики не способны смеяться.
Впрочем, даже эта классификация, различающая лишь два основных состояния, являлась своего рода прогрессом, если брать во внимание тот факт, что в I веке нашей эры Аретей Каппадокийский ввел такое понятие, как «единый психоз», который охватывал все существовавшие виды помешательства. Любое отклонение в поведении, отличие от положенной нормы, вне зависимости от тяжести болезни, считалось и называлось безумием. К безумию причисляли чрезмерную веселость и беспричинную тоску, агрессивное поведение и сексуальные расстройства, отказ следовать законам общества или семьи, выполнять требования мужа или чрезмерную чувственность. Бледность и потливость считались не следствием болезни, а ее источником, эпилепсия – наказанием Божьим, падение оземь от удара божественной руки как нельзя лучше подтверждало эту теорию. Не счесть количества сожженных на костре душевнобольных, не способных постоять за себя, доказать непричастность к сделке с потусторонним; завет Парацельса о том, что дьявол предпочтет скорее здоровую душу, чем больную, не спас несчастных от печальной участи. В те времена мало кто обращал внимание на то, что «одержимые» нередко выздоравливали, если им оказывалась хоть какая-то помощь.
Долгое время считалось, что на состояние больного влияют наружные факторы, такие как климат, вода, ветер и солнце, смена дня и ночи, перемена сезонов и окружение. Кроме того, надлежало сохранять в балансе все жидкости организма, коими являлись кровь, слизь, желтая или черная желчь, любой перевес в одну или другую сторону сигнализировал об отклонениях со стороны психики. Поэтому врачи проводили трепанации, чтобы через отверстие в голове дурной дух или же черная жидкость могли покинуть тело и принести облегчение страдающему.
Гиппократ предположил, что место, где развиваются психические расстройства, находится в теле больного. Такая простая и привычная нам мысль должна была пройти путь длиной в несколько столетий, чтобы окончательно утвердиться и потеснить собой гуморальную теорию, так вдохновлявшую Средние и местами даже Новые века. И именно Гиппократ обнаружил источник, питавшийся плодами безумия и порождающий его, – мозг и только мозг он называл побудителем смеха и радости, недовольства и печали. Мозг, а не мышцы или надпочечник, не желчь и не кровь, был ответственен за то, что человек терял связь с реальностью, что его мысли начинали течь без его контроля и разум тонул в чертогах темноты.
Но даже когда источник проблем был найден, это стало не финалом, а лишь началом череды предположений, теорий и чудовищных опытов. Теперь объяснения болезням мозга давались сугубо практические, происходившие из наблюдений за поведением пациента, и редко были подкреплены хотя бы каким-то доказательством. Мозг считался то слишком сухим, то слишком влажным, он был то горячий, то холодный, его правильной работе мешала погода, регуляция желез и густота крови, токсины, алкоголь, привычка лгать и склонность к азартным играм. Пациента кололи иглами, ставили горчичники, секли розгами и пускали кровь, измеряли вместимость черепа и лицевой угол. И так как помощи им никакой не оказывалось, страждущий мог найти утешение только в разговорах с философами: доподлинно известно, что Платон и Аристотель вели прием таких несчастных и считались врачевателями душ. Благодаря мудрости и опыту, чуткости и вниманию они могли оказать компетентную помощь нуждающимся, которая, впрочем, едва ли становилась для них спасением, лишь ненадолго облегчая симптомы.
Это было темное, невежественное время, и должно было пройти множество столетий до того, как начали появляться зачатки интереса к процессам, протекающим в сознании человека, чтобы возникло желание разобраться в самом понятии душевного расстройства. Когда это, наконец, произошло, перед врачами встала необходимость в специальных домах, где можно было наблюдать и лечить страждущих. Нужно было отделить больных от здоровых, и если со спокойными все было более-менее понятно, часто такие люди получали кров и заботу, так как считались благословенными Господом, то с буйными никто не хотел иметь дела. Если у них имелась семья, то ее члены стыдились и прятали неудобного родственника подальше от глаз, если же не находилось близких, способных обеспечить надлежащий уход, то такие люди могли беспрепятственно выходить на улицы и вытворять там все, что взбредет в голову.
Долгое время эти несчастные существовали где придется: в госпиталях, монастырях, в тюрьме или подвале собственного дома, на улицах или в клетках, установленных где-нибудь на центральной площади. Еще в IX веке в больницах общего типа выделялись специальные палаты для душевнобольных, их наблюдали, ухаживали по мере сил. Но именно в позднее Средневековье необходимость изоляции и организации быта подобных пациентов стала очевидна. В Германии открылась одна из первых психиатрических лечебниц, а следом по всей Европе появлялись все новые подобные заведения.
Поначалу они не носили специализированный характер и не выглядели как больницы, часто под нужды пациентов отдавались большие фермы, где они выращивали овощи и трудились на благо общества. Но со временем количество психиатрических заведений росло, а вместе с ними и число нуждающихся в помощи, всегда превышая вместительность: стоило дверям открыться, палаты заполнялись и переполнялись в считаные дни. В Испании появился целый ряд психиатрических клиник, в Швейцарии пациентов держали на цепи, но ежедневно угощали красным вином, во Франции появились приюты-больницы. Психиатрия как наука постепенно наращивала мясо знаний на костях собственного невежества, обретая если не понимание, то по крайней мере желание узнать своих подопечных, откликнуться на их безмолвный призыв о помощи.
В своем трактате «О священной болезни» Гиппократ описывал безумие наравне с другими недугами, рационально призывая смотреть на него как на любую другую великую болезнь, никак не выделяя и не наделяя особыми свойствами, и считать причины, вызвавшие ее, сугубо телесными, а никак не божественными. Тем не менее в XIII веке на английском медицинском небосводе, словно в пику словам великого философа, в Лондоне воссияла Вифлеемская звезда12. Воссияла, чтобы явить миру Бетлем – одну из старейших ныне действующих психиатрических больниц в мире. Больницу, которая оставит в истории темный и пугающий след, о котором современное общество предпочитает не вспоминать из стыда и горького сожаления.
Открытию Бетлема предшествовало важное событие: Саймон Фитц Мэри, политический деятель и шериф Лондона, вернувшись из Крестового похода, в котором, по его уверению, он выжил благодаря Деве Марии и Вифлеемской звезде, пожертвовал участок земли за Лондонской стеной епископу Вифлеема. В 1247 году благодаря усилиям Фитц Мэри на участке при монашеской общине появился благотворительный госпиталь для ухода за нуждающимися, а позднее – Вифлеемская больница, ставшая известной под названием Бетлем или, как ее позже окрестили в народе, Бедлам.
Изначально она располагалась на двух акрах земли, представляя собой компактное цельное здание с двором и маленькой часовней, вмещавшее в кельи небольшое количество пациентов. В то время это была не вполне больница, а скорее монашеский приют для немощных, которым нечем было заплатить за лечение. В Бетлеме они могли рассчитывать на кров и помощь, а в ответ обязывались носить на груди вышитую Вифлеемскую звезду. Больше ста лет Вифлеемская больница оставалась благотворительным приютом, в котором необходимый уход оказывали монахи, и вполне вероятно, она продолжила бы существовать в таком виде и дальше, но в 1403 году произошло событие, навсегда изменившее ход ее истории.
Их было шестеро. Шесть бедняков, которые оказались в Бетлеме из потребности в помощи, как и всякие другие, бродившие в те времена по улицам в великой нужде в пище и крове, заботе и исцелении. Но истинная нужда их заключалась в ином. Сознание неизвестной шестерки было порабощено дьявольской одержимостью, на него был наброшен покров темноты, выражаясь научно, они были menti capti – заперты в чертогах собственного разума. Иными словами, шесть этих несчастных были безумцами. Истории неведомы их имена, они остались для нее лишь странниками на длинной дороге лишений, болезней и нищеты, дороге, которая ведет к забвению всех вступивших на нее. И все же эти несчастные не позабыты, они известны нам как первые пациенты Бетлема, и именно с них берет отсчет долгая и темная история этой старейшей из клиник, древнейшей из тюрем души.
В те далекие времена не умели лечить безумие, потому что безумие не считалось болезнью. Болезнью можно было назвать то, что имело отличительные признаки: сыпной тиф, дизентерию или проказу. Высыпания на коже служили признаком чесотки, а кровохарканье – туберкулеза. Душевные болезни, в противоположность этому, – таинственны и непостижимы, они не имеют источника, по крайней мере видимого, ведь молчание или буйство – это проявления внешние, причина же, породившая их, лежала глубоко, и обнаружить ее не представлялось возможным.
Однако нужно было любым способом сдержать неистовую, сатанинскую силу, что пугала всякого, лицезревшего ее. Силу, которая превращала свою жертву в дикого зверя, лишала человеческого облика, наделяя чувствительностью к потустороннему, заставляла проявлять низменные пороки. Подобная сила непременно должна была быть искоренена, укрощена, а ее обладатель – наказан в назидание другим.
Очень скоро Бетлем стал напоминать тюрьму, на его стенах появились кандалы и цепи, в камерах, рассчитанных на четверых, размещали по несколько десятков человек, их морили голодом и жестоко истязали. Пациенты превратились в заключенных, но содержались намного хуже, чем самые отъявленные негодяи, – они сидели в камерах, прикованные к стене, умирающие от жажды и холода, искусанные клопами, с незаживающими ранами от лечебных пиявок. На запястьях гнили циркулярные кровоподтеки от сдерживающих вязок, конечности усыхали от непрерывного нахождения в цепях, мужчин избивали сокамерники, женщин насиловали. Попадая в Бетлем, единственное место, где, как ожидалось, им должны были помочь, несчастные оказывались в ужасающих условиях, выбраться из которых было невозможно. Однако, несмотря на тяжкие условия содержания, а скорее, из-за отсутствия альтернатив, в госпиталь продолжали свозить «заключенных».
В таком виде, в тяжелейших санитарных и финансовых условиях, клиника просуществовала еще три столетия и к моменту переезда на новое место почти полностью состояла из «лунатиков»13, число которых неизменно увеличивалось с каждым годом.
Правительство решило подарить госпиталю новую жизнь, и в 1676 году Бетлем обзавелся статусом больницы и новым местом. Громадное здание внешним видом напоминало дворец, его широкие корпуса, раскинутые по обе стороны от главного строения, были просторными, а фасад с большими окнами – величественным. Такая помпезность служила двум целям: она привлекала пожертвования и могла вмещать больше пациентов и визитеров. В те времена Бетлем мог посетить любой желающий, за небольшой взнос ему дозволялось бродить по коридорам и заглядывать в камеры, словно в зоопарке, где вместо животных находились люди. В поисках нескучного досуга чинные лондонцы целыми семьями приходили в Бетлем на выходных и с превеликим любопытством разглядывали сидящих на привязи людей, приходя в ужас от их вида и в то же время обретая внутреннее спокойствие: все эти чудовища теперь изолированы от общества, а значит, не смогут навредить другим. Какой прогресс!
Эпоха no restraint14 еще не наступила, и в Бетлеме вовсю практиковались варварские методы сдерживания – от приковывания цепями и смирительных рубашек до окунания в ледяную воду и кровопускания. Бетлем сменил фасад, но не избавился от методов, которые никто в современном мире не смог бы назвать гуманными: сваленные в одну кучу тела, словно по чудесной случайности еще функционирующие, вынуждены были постоянно соприкасаться друг с другом, плодя грязь и бациллы, разнося смрад, рвотные и фекальные массы, кровь, гной и прочие производные организма. Эпилептики в припадках извивались на ледяном полу, буйные бились головой о стены, пока, залитые собственной кровью, не теряли сознание, меланхолики, забившись в угол, тряслись от страха. Мужчины и женщины, иногда и дети, одетые в жалкие обноски, а порой полностью обнаженные; грязные, скорчившиеся от боли и страданий пациенты Бетлема стенали о помощи. Впрочем, помощь всегда была на подходе: избиения, пытки и продолжительный голод – безумие превратило заключенных Бетлема в подобие животных, и уход они получали соответствующий, проводя годы, а порой и десятилетия запертыми в клетках, пока смерть не становилась для них избавлением.
Таким было лечение в Бетлеме в XVII веке, и в понимании лечащего персонала все эти зверства исходили из желания помочь, ведь за каждым ударом розги, за каждым опрокинутым ведром с водой и пустой миской стояла забота – намерение изгнать нечистый дух, освободить разум от скверны. И пусть санитары могли входить в палаты, лишь предварительно подвязав к носу губку, промоченную уксусом, уверенность их от этого не сбавлялась: безумие нельзя вылечить, но можно наказать носивших его в себе.
Бетлем был преисполнен страданием, и многие годы из его окон по окрестностям неслись мучительные стоны, плач и лязганье цепей. Ему потребовалось два столетия, чтобы осознать ошибочность взятого курса, а также развернуться в сторону науки, куда уже давно смотрели другие психиатрические госпитали, такие как Сальпетриер и Бисетр. Силами Филиппа Пинеля15 пациенты освобождаются от оков, школы пневматиков и последователи гуморальной теории окончательно остаются в прошлом, вслед за этим расцветает новый подход к лечению пациентов: применение варварских методов порицается обществом, и врачи, используя новейшие знания о разуме и его особенностях, все чаще задумываются о терапии душевных болезней.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе