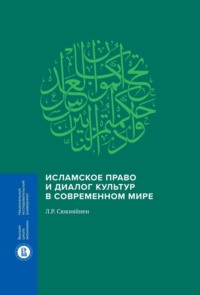Читать книгу: «Исламское право и диалог культур в современном мире», страница 3
В связи с этим немалый интерес представляет оценка соотношения шариата и фикха, с учетом которой можно полнее раскрыть связь этих понятий с исламским правом.
Соотношение между шариатом и фикхом
В современной исламской мысли имеется несколько позиций по вопросу о том, как взаимодействуют между собой шариат и фикх.
Достаточно распространенной является взгляд, в соответствии с которым шариат и фикх рассматриваются практически как синонимы. Точнее, фикх воспринимается в качестве науки о шариате15. Очевидно, такой подход предполагает, что шариат сводится лишь к предписаниям, касающимся внешнего поведения человека, и к тому же включает не только положения Корана и Сунны, но и выводы, сформулированные доктриной с помощью рациональных шариатских «указателей» в рамках иджтихада. Иными словами, шариат, с одной стороны, понимается достаточно узко, поскольку вопросы религиозной догматики и этики остаются за его пределами, а с другой, наоборот, крайне широко, раз в его состав входят все правила, выработанные фикхом. Одновременно как бы снимается вопрос о том, как соотносятся друг с другом божественное откровение, воплощенное в Коране, и рациональное человеческое начало, представленное иджтихадом, а различия между правилами, основанными на этих двух, весьма разных, источниках, стираются.
Если приведенная выше точка зрения ставит между шариатом и фикхом знак равенства, то другая позиция, напротив, проводит между ними четкую, хотя и не наглухо закрытую границу. Сторонники этой концепции исходят из того, что шариат исчерпывается положениями Корана и Сунны16. Если эти источники не содержат точного решения поставленного вопроса, то ответ на него лежит формально за их пределами и должен быть найден с помощью рациональных методов, что является задачей фикха. Пока поиск нужной нормы ведется в Коране или Сунне, действует шариат. Как только возникает необходимость сформулировать правило путем иджтихада, в дело вступает фикх. Получается, что эти явления как бы разделяет незримая черта, пролегающая там, где заканчивается сфера шариата и начинается область фикха. Иначе говоря, в отличие от мнения, рассматривающего шариат и фикх как совпадающие по содержанию понятия, данный подход оценивает их как не пересекающиеся между собой феномены.
Еще одна концепция отталкивается от уже охарактеризованного взгляда и также включает в шариат все обоснованные фикхом выводы. Вместе с тем она не ограничивает шариат лишь нормативной составляющей, а добавляет в него предписания догматического и нравственного характера. При этом данный подход учитывает, что фикх занимается не всеми положениями шариата, а только его «поведенческими» нормами. В итоге фикх воспринимается в качестве лишь одного, хотя и крайне важного элемента шариата17. Понятно, что такая оценка основывается на том, что шариат шире фикха, который целиком входит в его состав. А связь между этими явлениями представляется как соотношение целого (шариата) с одной из своих частей (фикхом).
Многие современные исламские ученые придерживаются иного подхода. Они также считают, что шариат не исчерпывается правилами внешнего поведения людей. Но в отличие от сторонников предыдущей концепции включают в шариат не все сформулированные фикхом правила, а только те из них, которые доктрина прямо заимствует из Корана и Сунны Пророка18. Иначе говоря, приверженцы данной точки зрения берут за основу аргументы, отстаиваемые представителями двух уже рассмотренных подходов. Согласно одному из них, как было отмечено, шариат не сводится к своему нормативному элементу, а в соответствии с другим предписания Корана и Сунны достаточно последовательно отличаются от выводов, сформулированных фикхом на основе иджтихада. Результатом этого анализа является понимание шариата и фикха как частично совпадающих и в то же время расходящихся между собой явлений.
В рамках такого понимания их соотношение по объему можно оценивать по-разному в зависимости от исходных критериев. С одной стороны, по сравнению с фикхом шариат в целом отличается большей широтой, поскольку наряду с правилами внешнего поведения включает догматические и нравственные предписания. Но, с другой стороны, в нормативном смысле уже фикх представляется явлением более широким в сопоставлении с шариатом, так как не ограничивается немногочисленными положениями Корана и Сунны Пророка, обогащая их нормами, сформулированными с помощью рациональных «указателей» на основе иджтихада.
И наконец, еще один взгляд на обсуждаемую проблему. Его разделяют те, кто следует иной логике оценки соотношения шариата и фикха и сравнивает их не на основе формальных рамок нормативного содержания, а с учетом иных критериев. Это понимание проблемы обусловлено тем, что шариат представляет собой своего рода исходный пункт и одновременно конечную цель фикха. Шариат предлагает основополагающие нормативные предписания (чаще всего самого общего свойства) и способы формулирования конкретных решений, которые берет на вооружение фикх, формулирующий с их помощью ответы на конкретные вопросы. Причем такие выводы доктрины могут изменяться вслед за изменением времени, обстоятельств и условий. Главное, чтобы при этом были реализованы требования шариата. Постижение его нормативного содержания является целью и смыслом такого рационального понимания.
Иначе говоря, соотношение шариата и фикха воспринимается как связь причины со своим следствием, исходных предписаний с их конкретизацией и претворением в виде отдельных правил и оценок, божественного откровения, воплощенного в Коране и Сунне, с творчеством муджтахидов, которые связаны рамками шариата, но в то же время могут понимать последние по-разному19.
Наглядной моделью такой точки зрения, на наш взгляд, является плодоносящее дерево. Шариат в этом случае сродни плодородной почве и корневой системе. Они прямо не зависят от человека, поскольку, в сущности, являются божественным даром. Без них вырастить спелые и полезные человеку плоды невозможно. Но этого также нельзя достичь без усилий и профессиональных знаний тех, кто выращивает такое дерево и ухаживает за ним. Человеческий вклад в урожай напоминает фикх, сердцевину которого составляет иджтихад – рациональное творческое начало. Иначе говоря, труд человека дополняет божественное откровение и превращает его в нечто реальное, удовлетворяющее человеческие потребности. Ведь в приносимых культурным деревом плодах божественное начало уже невозможно отделить от земных усилий.
Такая условная модель удачна еще и потому, что отражает одну из главных черт фикха: как дерево одного сорта может давать плоды разного качества в зависимости от почвы, климата и ухода, так и общие исходные начала и предписания шариата могут воплощаться в несовпадающих конкретных правилах. Данное несовпадение объясняется как особыми историческими обстоятельствами, культурными и иными условиями, так и различиями во взглядах отдельных школ фикха и даже отдельных муджтахидов. Интересно, что если шариатские «указатели» исламская мысль считает центральным элементом «корней» фикха, то сам фикх она нередко называет «наукой о корнях». Так что и с этих позиций модель дерева как символическое выражение соотношения шариата и фикха представляется оправданной.
Важно иметь в виду, что все приведенные выше позиции относительно взаимосвязей шариата и фикха имеют под собой достаточные основания и акцентируют внимание на различных аспектах данной проблемы и сторонах рассматриваемых явлений. Кроме того, необходимо учитывать, что та или иная точка зрения на определенном этапе становления фикха и его исторического развития могла быть актуальна более других. Например, представление о том, что шариат и фикх не пересекаются, хотя и не отделены друг от друга непроницаемой стеной, отражает сложившуюся в первые века ислама ситуацию, когда стала ощущаться недостаточность конкретных предписаний Корана и Сунны Пророка. В то время разработка фикхом рациональных способов формулирования решения по вопросам, обойденным в шариате молчанием, вполне могла восприниматься как нечто, выходящее за пределы собственно шариата.
Вместе с тем авторитет разработанных доктриной конкретных норм всегда зависел от того, насколько доказательна была их обоснованность предписаниями шариата. Поэтому оценка фикха как подчиненной по отношению к шариату науки о правилах внешнего поведения, извлекаемых из Корана и Сунны, достаточно убедительно доказывает правомерность подхода к шариату и фикху как к совпадающим по смыслу понятиям.
При этом следует принять во внимание формируемое в последние десятилетия современной исламской мыслью представление о том, что нормативная сторона шариата воплощается и реально существует для человека только в форме выводов фикха. Попытка понять смысл любого предписания шариата всегда предполагает подключение человеческого интеллекта и тем самым означает вступление в область фикха. Не случайно некоторые крупные современные исламские мыслители подчеркивают, что шариат в нормативном смысле представляет собой всю совокупность выводов фикха, вынесенных его различными школами на всем протяжении его развития20. По логике этот процесс раскрытия нормативного содержания шариата через фикх идет постоянно, в том числе и в нынешнюю эпоху.
Такое понимание очевидным образом перекликается с оценкой соотношения рассматриваемых явлений как связи между причиной и следствием, исходными началами и результатом, наиболее адекватно отражая потребности именно нашего времени и обосновывая приоритетные направления развития современного фикха. При этом шариат представляется одновременно исходной основой фикха и конечной целью его как науки, призванной, отталкиваясь от предписаний Корана и Сунны, раскрывать их смысл через формулирование конкретных внешних правил поведения, которые являются претворением шариата в определенное время и в данных условиях.
Возникает вопрос: можно ли, анализируя соотношение шариата и фикха, обнаружить в них нечто отвечающее требованиям права и на этом основании сделать вывод о существовании исламского права как юридического явления в научном смысле?
Отражение в фикхе правовых начал
Как универсальный комплекс самых разнообразных, в том числе несовпадающих в различных школах, правил внешнего поведения фикх, конечно, не является правом в том или ином его понимании, сложившемся в современной юридической науке. Это относится и к фикху в значении доктрины, которая подходит к взаимоотношениям людей в целом с позиций не права, а шариата. Поэтому трактуемый таким образом фикх не может безоговорочно считаться исламской правовой доктриной или юриспруденцией в буквальном смысле слова.
Вместе с тем фикх-доктрина, в целом развиваясь на протяжении веков в общем русле религиозных представлений, под влиянием практики сумела выработать ряд концепций, которые спонтанно приближались к усвоению правовой идеи, ориентировались на некоторые юридические критерии.
Неудивительно, что это касается прежде всего оценки внешнего поведения в мирской сфере. Дело в том, что фикх предъявляет строгие требования главным образом к выполнению мусульманами религиозных обязанностей и соблюдению культовых запретов, а по отношению к мирским делам занимает иную позицию. Здесь на первый план выходит стремление оградить человека от чрезмерных обременений, не сковывать его жесткими ограничениями, в чем сказывается склонность ислама к умеренности, поиску компромиссов и неприятию крайностей. Исламские мыслители подтверждают эту черту шариата и фикха следующими стихами Корана:
– «Желает вам Аллах облегчения, а не затруднения» (2: 185);
– «Он избрал вас и не наложил на вас в [исполнении обрядов] религии никакого затруднения» (22: 78);
– «Аллах не возлагает ни на кого сверх его возможностей» (2: 286).
Если по вопросам религиозного культа фикх исходит из допустимости только прямо предписанного шариатом, то в «земных» взаимоотношениях людей действует противоположный принцип – презумпция дозволения всего того, что не запрещено Кораном и Сунной в конкретной и однозначной форме. Эта идея закрепляется хорошо известным выводом фикха, согласно которому исходной оценкой действий, слов и вещей является разрешение. Как говорят мусульманские правоведы, в сфере отношений верующих со своим создателем действует принцип неукоснительного следования тому, что однозначно установлено (иттиба), а связи людей между собой основаны на ином начале – творческом выборе поведения (ибтида) в рамках самых общих требований21.
Таким образом, мирская область отличается от религиозной превалированием субъективных прав над обязанностями и закреплением достаточно широких рамок индивидуальной свободы.
Следует обратить внимание и на обоснованную в рамках фикха классификацию субъективных прав, различающую права, которые принадлежат Аллаху, и права отдельных лиц. При этом, отталкиваясь от религиозной природы прав Аллаха, традиционная фикх-доктрина понимала их в мирском смысле как права всей мусульманской общины. А современная исламская правовая мысль, развивая данную концепцию и придавая ей юридическое содержание, трактует указанные права в качестве публичных интересов22.
Кроме того, нашедшая отражение в шариате религиозная идея братства и равенства мусульман явилась основой разработки фикхом концепции равенства в регулировании внешнего поведения, включая равенство в формальном смысле. Эта идея получила закрепление, например, в установленных фикхом основах шариатского правосудия, в центре которых – формально равное отношение судьи к участникам судебного процесса. Этот вывод можно подтвердить следующей выдержкой из знаменитого письма халифа Умара бин аль-Хаттаба, написанного в форме наставления одному из судей: «Относись к людям как к равным, общайся с ними одинаково и проводи с ними время поровну; следи также за соблюдением равенства в отправлении правосудия с тем, чтобы благородный не домогался своего самоуправства и произвола [в его интересах], а слабый не терял надежды найти у тебя справедливость»23.
Можно упомянуть и другую концепцию, согласно которой практически все поступки человека в мирской области могут оцениваться как с религиозной точки зрения, так и с позиций суда24. Причем мусульманский судья-кади в своих решениях учитывает лишь внешне выраженное поведение человека, что наглядно проявляется в известном высказывании: «Я сужу по внешней стороне дела, ибо скрытый смысл поступков ведом одному Аллаху»25.
С акцентом на внешние факты, служащие основой судебной оценки, связана также разработанная фикхом концепция «шариатских уловок» – стратагем26. Их смысл заключается в том, чтобы обосновать альтернативу запрещенным сделкам. Речь идет о таких формах мирских отношений, которые, взятые в отдельности, являются допустимыми, но в своей совокупности обходят установленный шариатом запрет. Например, современный фикх исходит из того, что аренда с условием последующей передачи арендованного имущества в собственность нанимателю не может быть оформлена в одном договоре. Ведь при этом нарушается установленный шариатом запрет на заключение контракта, который по своему смыслу подразумевает одновременное совершение двух сделок и потенциально может привести к ростовщичеству. Поэтому достичь желаемого результата в строгом соответствии с исламским правом можно только при заключении двух договоров. Один из них оформляет отношения аренды и содержит обязательство передать имущество в собственность, а другой предусматривает такую передачу в форме купли-продажи или дарения, совершаемых по истечении аренды или даже во время ее действия.
Немалое практическое значение имеет разработанная в рамках фикха концепция деления всех обязанностей на две большие группы. Первая включает такие императивные предписания фикха, которые в равной степени распространяются на всех индивидуально (например, содержание мужем своей жены и детей). А вторая представлена обязанностями, исполнение которых одним или несколькими субъектами освобождает от этого бремени других (например, ведение джихада или пресечение поведения, отклоняющегося от предписанных шариатом требований)27.
Еще одной из ключевых концепций фикха является обоснование строгого следования императивным предписаниям Корана и Сунны. Одновременно четко определены обстоятельства, которые освобождают человека от исполнения обязанности, если это ему не по силам или ущемляет его признанные интересы, а значит, вступает в конфликт с целями шариата28.
Концепция целей (ценностей) шариата, к которым относятся религия, жизнь, разум, честь и достоинство, установленный порядок продолжения человеческого рода, а также собственность, занимает особое место среди общетеоретических конструкций фикха. Считается, что любое правило мирского поведения, сформулированное фикхом, в конечном счете направлено на реализацию одной или нескольких отмеченных целей, которые находятся в иерархическом соподчинении: наивысшей из них является религия, а низшей – собственность. Такое соотношение следует учитывать, если нужно предпочесть одну норму из ряда возможных правил, отстаивающих разные ценности29.
К целям шариата имеет отношение и концепция интересов человека, лежащих в основе всех мирских правил фикха. Исламская мысль исходит из того, что указанные интересы делятся на три категории: жизненно необходимые нужды; потребности, удовлетворение которых освобождает человека от житейских тягот, а также желания и стремления, позволяющие в случае их реализации раскрыть все способности и наилучшие качества людей30.
Следует также отметить разработанную фикхом концепцию оснований правил внешнего поведения, прежде всего мирских. Мусульманские юристы полагают, что у любой нормы имеется определенное основание, объясняющее ее целесообразность. Суть данного подхода выражена в максиме «в своем действии или бездействии норма следует судьбе своего основания».
Идея интересов человека тесно связана в фикхе с концепцией справедливости. Конечно, справедливость понимается исламской доктриной в первую очередь как религиозно-этическая категория. Считается, что справедливость в разных словесных формах упоминается в Коране несколько десятков раз. В нем, в частности, говорится:
– «Когда выносите вы решение, будьте справедливы» (6: 152);
– «Прежде воздвигли Мы посланников Наших с убедительными доводами и ниспослали с ними Писания и весы, чтобы придерживались люди справедливости» (57: 25).
Однако, отталкиваясь от этих религиозных постулатов, фикх обращается к таким проявлениям справедливости, которые имеют правовое значение. Показательно, что именно идея справедливости вместе с акцентом на необходимость удовлетворения интересов человека как основу всех правил внешнего поведения рассматривается фикхом в качестве стержня шариата31. Отметим также, что фикх традиционно выделяет три основы исламской власти и правосудия: справедливость, совещательность и равенство32.
Наряду с этим, исламская мысль, особенно современная, подчеркивает, что при оценке взаимоотношений людей фикх должен ориентироваться на такие начала, как усредненность, умеренность, избежание крайностей, постепенность, исключение вреда33.
Только с помощью названных выше концепций и начал фикх может перевести религиозно-этические постулаты Корана и Сунны на язык практических норм, отвечающих потребностям регулирования мирских взаимоотношений людей. Без них «корни» фикха (включая все шариатские «указатели» и «установленные шариатские методы») оставались бы простым техническим инструментом, который сам по себе не в состоянии обосновать верный выбор среди множества правил внешнего поведения, предлагаемых разнообразными школами фикха.
С исламской точки зрения в правилах внешнего поведения, сформулированных с учетом отмеченных концепций и начал фикха, претворяется смысл шариата и его общая направленность34.
А в юридическом отношении речь идет о разработке фикхом таких конструкций, которые приближаются к идее права, помогают реализовать ее в конкретных правилах внешне выраженного поведения, а кроме того, предпочесть из огромного числа разнообразных и противоречивых выводов доктрины те, которые отвечают критериям права.
Общие принципы фикха – квинтэссенция юридических особенностей исламского права
Как уже подчеркивалось, в российском правоведении нет единого взгляда на исламское (мусульманское) право, его соотношение с шариатом и фикхом, а также на взаимодействие в нем религиозного и юридического начал. Можно отметить два полярных подхода к этой проблематике. Согласно одному из них исламское право, под которым подразумевается шариат, вообще не является юридическим феноменом или в крайнем случае представляет собой смесь права с религией и нравственностью. Причем в этом конгломерате право, по существу, не отделено от иных социальных регуляторов и даже занимает подчиненное по отношению к ним положение. Не случайно сторонники такого понимания подчеркивают, что сам термин «мусульманское право» используется лишь по традиции, так как в действительности он обозначает не юридическое в буквальном смысле, а более широкое социальное явление. В русле такой логики само мусульманское право они называют «неотдиффе-ренцированным», поскольку в нем юридические элементы якобы не получили значительного обособленного функционирования35.
Другая позиция формально исходит из существования исламского права в юридическом смысле. Об этом однозначно говорит то, что ему отводится самостоятельное место в ряде исследований по теории права и практически во всех работах по сравнительному правоведению и правовым системам (семьям) современного мира36. Очевидно, такой подход предполагает признание юридического характера исламского права. В противном случае его анализ в рамках юриспруденции выглядит нелогичным.
При всей кажущейся противоположности этих двух взглядов на исламское право у них есть одна принципиальная общая черта: их адепты не делают попыток выявить суть данного явления, серьезно обосновать или опровергнуть наличие у него признаков права.
Противники отнесения исламского права к юридическим категориям просто ссылаются на то, что оно опирается на религиозные источники и распространяется на мусульман. Этого, по их мнению, достаточно для вывода о том, что так называемое исламское право, по сути, не существует как юридическое явление, а составляет неотъемлемую часть религии ислама37.
Исследователи, которые априорно исходят из юридической природы исламского права, также не утруждают себя изучением его качеств как права. Раскрывая его особенности, они обращаются не к анализу собственно юридических характеристик указанного феномена, а к специфике шариата. Таким образом, сам предмет изучения подменяется: вместо права им становится религия. В итоге стремление описать исламское право в качестве юридического института невольно приводит к обратному – фактическому доказательству того, что оно правом не является38. В этом отношении позиции сторонников характеристики исламского права как юридического феномена и тех, кто отрицает его юридическую природу, при всей внешней взаимной противоречивости, по сути, смыкаются. Между прочим, такая же логическая непоследовательность пронизывает работы практически всех крупных западных специалистов по сравнительному праву39.
Действительно, если исламское право полностью сводить к шариату, сомнения в его юридической природе трудно опровергнуть. Ведь, взятый в целом, шариат – прежде всего и преимущественно религиозное явление. Даже его нормативная составляющая в буквальном смысле выступает в виде религиозных предписаний. Это относится и к шариатским правилам мирского поведения человека, которые так называемая голландская школа изучения исламского права без достаточных оснований считает юридическими.
Если характеристика шариата как неотъемлемого элемента религии, на наш взгляд, вполне очевидна, то определение природы правил фикха не столь однозначно. Напомним, что под фикхом исламская мысль понимает как науку о шариатских правилах внешнего поведения, так и сами указанные нормы. Среди этих предписаний имеются такие, которые отвечают юридическим критериям, а потому являются нормами исламского права в точном научном значении. Иными словами, исламское право не сводится к шариату, а представляет собой ту часть норм фикха, которые имеют правовой характер.
Вместе с тем одного указания на место исламского права в его соотношении с шариатом и фикхом недостаточно для раскрытия его юридических характеристик. Дело в том, что если без всяких оговорок считать шариат стержнем религии ислама, а фикх – наукой о шариатских правилах внешнего поведения и комплексом норм, «извлеченных» из шариата, то и исламское право как часть фикха оказывается погруженным в религию, выступая неотъемлемым ее элементом. Откуда же тогда берется исламское право?
Отвечая на этот вопрос, отметим, что само по себе шариатское правило поведения, сформулированное в Коране или в хадисах, которые отражают Сунну Пророка Мухаммада, не может считаться юридическим только на том основании, что по своему нормативному содержанию отвечает правовым критериям, т. е. регулирует отношения между людьми по принципу формального равенства. Ведь даже когда религиозный и юридический источники предусматривают, казалось бы, одинаковые правила, говорить о полном совпадении таких норм вряд ли корректно. Прежде всего потому, что их основания и вкладываемый в них смысл различны: правовые нормы ориентируются на формальное равенство, а религиозные постулаты воспринимаются в качестве заповедей высшей, божественной, справедливости.
Механизм действия этих не совпадающих по характеру норм включает разные инструменты. Правовые регуляторы в том или ином виде исходят от человека (точнее, фиксируют определенную форму отношений между людьми) и ориентированы на критерии юстициабельности, а религиозные – выступают в глазах верующих в качестве божественного веления и в своем действии опираются на внутренние убеждения, совесть и богобоязненность.
Юридические правила, с одной стороны, и основанные на вере предписания – с другой, по-разному воспринимаются сознанием и имеют различных адресатов: правовые нормы обращены к субъектам права, а религиозные – к верующим. Поэтому действие норм того и другого рода обеспечивается неодинаковыми способами. Нарушение правовой нормы предполагает вполне земную санкцию, применяемую публичной властью. Причем на практике далеко не всякое правонарушение влечет юридическую ответственность. А отклонение от религиозного правила, независимо от того, установлено ли оно земной властью или нет, означает грех. Не раскаявшегося в нем верующего неминуемо ждет божественная кара. Неизбежность потустороннего наказания для грешника совсем не одно и то же, что вероятность подвергнуться санкции для правонарушителя. И дело тут не в тяжести ответственности, а в самом ее характере.
Иными словами, простое внешнее совпадение словесных формулировок правовой и религиозной норм не должно заслонять глубоких различий между ними. Этот момент приобретает ключевое значение для понимания исламского права, к которому никакие нормативные предписания шариата именно в силу своего религиозного характера сами по себе не относятся. Однако при определенных условиях они становятся основой, источником выводов фикха, отвечающих правовым требованиям.
Роль фикха-доктрины в переводе шариатских положений на юридический язык в зависимости от характера данных религиозных постулатов проявляется в нескольких формах. Выделяются три их основные разновидности. К первой относятся самые общие наставления, принципиальные ориентиры шариата, которым должен следовать человек безотносительно области своего поведения. Другая также представлена достаточно общими правилами Корана и Сунны, которые касаются определенной сферы человеческих отношений, но допускают различное понимание и толкование. Наконец, существуют вполне конкретные предписания относительно разных сторон внешнего поведения людей. По мирским вопросам в шариате такие четкие нормы крайне малочисленны, а явно преобладают многозначные правила и общие ориентиры.
Говоря о конкретных правилах шариата, важно иметь в виду, что фикх не просто включил их в свой арсенал, а дополнил многими необходимыми деталями и условиями, истолковал нормативный смысл этих правил, дал определение содержащихся в них терминов. Тем самым, не потеряв значения религиозных заповедей, предписания шариата явились основой, источником норм иного свойства. Доктрина смогла осмыслить многие из них в правовом ключе. Конечно, отнюдь не все положения Корана и Сунны, касающиеся поведения человека, пройдя через горнило фикха-доктрины, превратились в правовые нормы. Но очень многие приобрели юридический характер и стали относительно независимыми от своей религиозной основы.
Крупный мусульманский правовед Абдель Ваххаб Халлаф в своей известной статье, посвященной отражению в шариате интересов человека, приводит показательный пример творческого отношения фикха к осмыслению шариатских предписаний. Он напоминает, что Коран устанавливает обязанность по содержанию кормящих матерей: «Отцу же надлежит обеспечивать мать пропитанием и одеждой [все это время] по доброй воле» (2: 233). Буквальная формулировка данного положения прямо предусматривает норму, в соответствии с которой содержание кормящей матери возлагается на отца ребенка. Одновременно указанное правило, взятое в своем прямом значении, косвенно указывает и на другую конкретную норму, согласно которой содержание детей – долг отца и никого иного. Вместе с тем то же кораническое предписание в своем общем прямом смысле предусматривает еще одну норму, возлагающую на отца ребенка также расходы, связанные с лечением матери и обеспечением ее медикаментами, поскольку в этих услугах она нуждается никак не меньше, нежели в пище и одежде. Смысл возложения на отца указанной в Коране обязанности состоит именно в том, чтобы удовлетворить первоочередные потребности матери ребенка, что позволит ей выполнять в отношении него свои функции. Поэтому кораническое предписание следует толковать расширительно, не ограничиваясь его буквальной формулировкой, а принимая во внимание преследуемую им цель – обеспечение матери всем необходимым40.
Подобным осмыслением конкретных предписаний Корана и отличается роль фикха в формулировании относительно самостоятельных норм, которые, по существу, достаточно далеко отходят от своей религиозной основы. Кстати, этот момент четко прослеживается в рассмотренной выше концепции источников («указателей») фикха, – представлении о том, что конкретные положения Корана суть не сами правила поведения человека, а всего лишь их источники, из которых фикх «извлекает» соответствующие нормы.
Начислим
+20
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе