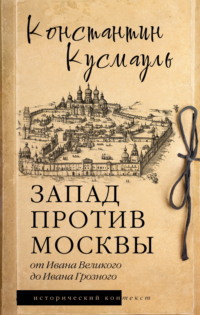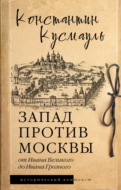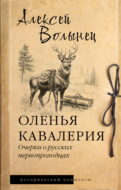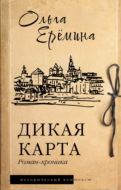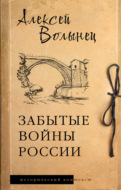Читать книгу: «Запад против Москвы. От Ивана Великого до Ивана Грозного», страница 4
Отмыть агентов. Миссия выполнима!
За Тревизано и Вольпе неожиданно вступился Венецианский сенат. Ещё несколько лет назад сенаторы отвергли полукриминальный проект Вольпе, заподозрив, что никакой Ахмат никакие деньги не просил за союз с турками, а идея Вольпе – это всего лишь попытка наживы. Но теперь сенаторы пишут активно и обсуждают ситуацию с пленением незадачливых «переговорщиков».
«Иоанн Баптиста Тревизано был задержан вместе с Иоанном Баптистой Вольпе, – докладывают на заседании Сената 20 ноября 1473 года, – первым, кто выдвинул и предложил это скифское предприятие. О его, Тревизано, аресте тогда писал нам – очень мягко и вежливо – сам великий князь. В совете было принято решение ответить великому князю и направить посла с деньгами для освобождения упомянутого секретаря и возвращения его на родину». А далее сенаторы говорили, что теперь «скифский поход» становится возможным, и если от царя рутенов удастся получить согласие, то специальный посол Антоний Гислард готов будет проехать по территории Московии вместе с Тревизано на юг до хана Ахмата. Но если московский князь будет против таких переговоров, то пусть разрешит Тревизано вернуться из московской тюрьмы назад, на родину.
Обсудив это на заседании, сенаторы проголосовали за то, чтобы написать слёзное письмо в Москву по поводу судьбы горе-переговорщиков: «за» было 146 человек, «против» высказались двое.
Иван III получил послание сената и прочитал: «Чрезвычайно огорчает нас, что Иоанн Баптиста Тревизано, наш секретарь, оказался на подозрении у вашего величества, как будто он приехал или был послан нами ради того, чтобы причинить волнение и неудобство вашему государству. Это всегда было не только чуждо нашим намерениям, но противно им и противоположно. Ведь мы неизменно желаем сохранить всех христиан и печёмся об их благополучии… Поистине, пишем мы с целью, чтобы ваше высочество знало всю правду: послали мы упомянутого нашего секретаря не для того, чтобы каким-либо образом, в связи с татарским ханом, вызвать что-нибудь затруднительное или опасное для вашего государства и для ваших дел, а потому что, побуждаемые письмом упомянутого яснейшего хана, (мы стремились), чтобы он, если можно, отвёл и удалил от ваших границ и ближайшего с ним соприкосновения свои войска, стоящие по соседству с вашим государством, избавив вас от связанных с этим действий и тягот; чтобы он повёл эти войска через области, примыкающие к Средиземному морю, а именно к той его части, которую называют Евксином, или Великим морем, к берегам Дуная, для подавления (турок), общего врага всех христиан, захватчика Восточной империи, которая в случае, если в императорском доме не будет потомка мужского пола, принадлежала бы светлейшему вашему господству по праву вашего благополучнейшего супружества».
То есть в этом письме сенаторы бросают Ивану III геополитическую приманку, заверяя его, что часть земель, которые попали под власть Мухаммеда II, турецкого султана, по праву принадлежат именно московскому князю. Это Константинополь и львиная доля земель исторической Византии, на которые Иван III имеет все права как муж «дщери» последнего византийского императора Фомы Палеолога. По мысли итальянцев, Иван должен был оценить преимущества унии и антитурецкого союза.
Конечно, великий московский князь был не столь наивен, чтобы купиться на эту западную лесть. Наследников у покойного императора Фомы хватало, взять хотя бы братьев Софьи, всем им могли достаться любые некогда византийские земли.
Параллельно с письмом правителю рутенов сенаторы пишут и самому Тревизано. Первые строки письма дали понять московскому пленнику, что теперь за «переговорный трек» с Ордой будет отвечать не пройдоха Вольпе, а он, Джованни Баттиста Тревизано: «Трудности и опасности, в которые ты попал в связи с нашими, а также с твоими собственными делами, особенно тревожат нас (сейчас), потому что поистине никогда так, как теперь, не желали мы более упорно и жадно, чтобы ты предпринял путешествие к татарскому хану». Письмо завершается так: «Если светлейший великий князь русский не пожелает даровать тебе пропуск для прохода (в Орду) – хотя, как нам кажется, этому трудно поверить – и ты никакими способами не сможешь попасть к хану другой дорогой, то в таком случае, освобожденный и отпущенный великим князем, отложив путешествие к татарам, возвращайся к нам».
Таким образом, в руках Ивана III оказалась не только жизнь неудачника Тревизано, но и дальнейшая возможность его участия в переговорах с ханом Ахматом.
Ордынская дипломатия Тревизано
Как и предполагалось, в Московию обе грамоты повёз посол Антонио Гислард. Его кортеж ехал, доверху наполненный подарками, которые Тревизано должен был передать Ахмату. В Москве Иван III всё-таки решил отпустить Тревизано в Орду вместе с московским послом Дмитрием Лазаревым и татарским послом, ехавшим обратно домой, Кара Кучуком.
Окончилась ордынская миссия Тревизано только через полтора года. Он вернулся в Венецию с двумя татарскими послами. Один из татарских дипломатов, полководец Ахмата Тамир, неожиданно заверил итальянцев, что венецианцы для хана – это «друзья из друзей и враги их врагов».
Вручив послам две тысячи дукатов за сговорчивость и дружелюбие и отправив их домой, Тревизано отбыл в Литву к королю Казимиру IV. Пока Тревизано заговаривал Казимиру зубы, что хан обещал, мол, он никогда «не пойдёт по землям» Польско-Литовского государства, папский посол Филиппо Бонаккорзи в Венеции убеждал сенаторов в обратном. Сам Филиппо пользовался иммунитетом и правом на безопасность только в Венеции, так как в Риме он был практически в розыске из-за того, что обвинялся в давнем покушении на Папу Павла II. К 1476 году Бонаккорзи, некогда известный в Италии содомит, отбыл в Литву, где трудился официальным послом и воспитателем сыновей Казимира IV.
Вскоре из Литвы в Венецию вернулся Тревизано. Прочного союза Запада и хана Ахмата так и не получилось. «Скифское предприятие» потерпело неудачу, следы Тервизано, как и Вольпе, навсегда теряются в Италии. Странное стечение обстоятельств: оба главных участника – известные дипломатические интриганы – просто исчезли с лица земли. О них, как по команде, замолчали все исторические источники.
После исчезновения главных папских переговорщиков, Тревизано и Вольпе, Ахмат начинает действовать в одиночку. Пока хан собирал войско, в далёкой Москве воеводы Ивана III готовились встретить его на реке Угре, чтобы, победив, сломать западно-ордынский южный проект.
За год до этого в московских палатах Софья Палеолог родит на свет мальчика. Сначала его нарекут Гавриилом, но вскоре он получит княжеское имя Василий. Пройдёт еще много лет, и Василий унаследует правление в русском государстве. Жизнь Василия и его матери Софьи будет нелёгкой, полной опасностей и заговоров. В тот момент, когда повивальные бабки обмывали новорожденного, в далеком Новгороде зарождался кружок прозападных еретиков, которые сыграют в судьбе страны важную роль и едва не приведут к катастрофе.
Глава 3
Борьба за балтийский торговый хаб
Рождение магистра
Вальтер фон Плеттенберг, магистр Ливонского ордена, был архитектором антирусского мирового порядка на северо-западных границах Московии начала XV века. По крайней мере, пытался такой порядок создать.
Будущий магистр Ливонского ландмейстерства Тевтонского ордена родился в семье провинциального дворянина. Ему повезло: он был вестфальцем. В конце XIV века рейнцы и вестфальцы будут бороться за контроль над Ливонией. Победят последние. По кривым улочкам ливонских городов будут ходить пьяные орденские монахи и петь «Wir haben enander wohl geheit». Песня заканчивалась словами: «В нашем успехе не благодарите никого из баварцев, швабов и франков».
Более пятнадцати лет Плеттенберг хладнокровно карабкается по административной лестнице, начав с самых низов, с самой низшей должности бакмейстера (ответственного за выпечку хлеба). Воистину: европейская бюрократия – самая бюрократическая бюрократия в мире!
Вскоре он понимает, что тихое перебирание монашеских чёток и должность орденского завхоза – это удел слабых. А Плеттенберг хочет быть сильным. И тут происходит его первая победа: во главе орденских отрядов он аннексирует Ригу. Время идёт, амбиции растут, и вот уже Плеттенберг предлагает своему патрону, магистру Тевтонского ордена фон де Борху, проект отторжения Пскова от набирающей силу Московии.
Магистр понимает: завхоз Плеттенберг – талантливый ученик, он мыслит стратегически, не то что эти вечно осторожные Габсбурги и прочие Папы Римские. Когда на Западе становится понятно, что ещё немного, и русский князь Иван III возьмёт под контроль балтийский торговый хаб, к Плеттенбергу начинают прислушиваться.
Балтийский торговый хаб
История балтийского торгового хаба (евразийского торгового узла) начинается ещё в VIII веке. Именно в это время на Ладоге появляется славянская конфедерация. Тысячи купцов из Северной Европы, Азии, византийских владений и даже из Индии и Китая бьют по рукам и заключают сделки. Новгородская Первая летопись и отчёты археологических экспедиций подтверждают, что восточные славяне активно воюют с норманнами за контроль над Ладогой: «И встали словене и кривичи и меря и чудь на варяги и изгнали (их) за море». «На варяги» русские встали по-взрослому. К IX веку викинги теряют военный контроль над Ладогой и начинают просто торговать.
Вскоре ладожский хаб блокируют волжские булгары, затем перерезают несметные монголы. Однако уже с XIII века северная торговля смещается западнее, к Балтийскому побережью. В это время немцы начинают активно колонизировать данные земли. И вот уже Папа Римский Иннокентий III в 1207 году разрешает молодому ордену Меченосцев оставлять себе треть завоёванных земель. Дранг, как говорится, нах Остен!
Пока феодальные княжества воевали друг с другом, крупная военно-торговая сила, известная как Ганзейский союз, делала деньги. Псковское и Новгородское княжества были связаны по рукам и ногам невыгодными торговыми условиями ганзейских дельцов, но активно торговали. Всё изменилось с того времени, когда Иван III решил стать великим князем единого государства. До этого уже много сотен лет на Руси никто так не делал. И сразу же родилась новая реальность: установление торговых и дипломатических отношений со странами Северной Германии, Польши, Дании, Швеции, территориями Прибалтики.
Сразу же обнаружились препятствия геополитического характера: оказалось, что между всеми этими странами есть противоречия, на которых можно играть в своих интересах. В истории балтийского торгового хаба к середине XV века русские княжества были просто крупными торговцами. После присоединения Новгорода в 1478 году оказалось, что Московию на Балтике совсем не ждут. Главным врагом была Ганза и её кабальные торговые условия. Вторым врагом был Ливонский орден.
Ливонский узел был интереснее и состоял из противоречий между Данией, Ганзой и Швецией. К концу XV века сама Ливония почти на 40 % контролировала балтийский торговый хаб. Император Священной Римской империи германской нации, чьей провинцией была Ливония, уже считал себя хозяином Балтики, как вдруг великий князь Московии дважды переворачивает геополитическую игру.
Фритрейд по-ганзейски
До Ивана Третьего русские княжества не интересовало масштабное влияние на Балтике. Достаточно было почти трехсотлетней истории торговых отношений с хозяевами хаба, Ливонией и её «финансовой дочкой» Ганзой. Общая русско-ливонская граница в XIV веке составляла ни много ни мало почти 500 километров (из них почти 480 – вдоль Псковского княжества).
В Новгороде с незапамятных времен существовал Ганзейский торговый двор, где-то между улицами Ильинкой и Славной. На пике торговли русские построили в Риге даже «Русскую деревню». Из-за разницы стандартов ганзейцы неплохо зарабатывали на русских. Например, купец, взявший в Таллине 15 мешков соли, мог по той же цене в Новгороде или Пскове продать всего 12. Двадцать процентов натуральной прибыли – мечта! Нибуров мир, заключенный в 1392 году, был триумфом «торгового этапа» русско-ганзейских отношений: «чистый путь», отсутствие пошлин, фритрейд да и только!
Присоединение Новгорода первоначально никак не повлияло на характер русско-ганзейских отношений. В феврале 1478 года, когда Иван III был в покорённом северном городе, он подтвердил право свободной торговли ганзейских купцов, гарантировал беспрепятственный путь и объективное разбирательство в суде. Однако в Новгород приходит информация, что недавно русские купцы были ограблены и убиты некими шведами. Иван III распоряжается арестовать нескольких ганзейцев для профилактики. Но нападения на русских продолжились. Через несколько месяцев были арестованы псковские купцы в Дерпте, а в январе 1480 года с территории Ливонии неизвестная вооруженная конница и вовсе разгромила десяток псковских деревень и убила жителей. Вскоре в Москве узнали, что Ливонский орден и Любек подписали военный договор о нападении на северные русские земли. Была готова и материальная база: все участники союза с ливонских городов должны были собирать 1 % от стоимости всех товаров, которые привозились в Ливонию. На эту приличную сумму нанимались головорезы, которые и нападали на русские северные деревни.
Через семь лет в Новгород прибывают некие Тидеман Геркен, Иоганн Гакке и Иоганн Рутерт, послы Дерпта и Ревеля. Послы требуют заключения договора с Москвой о новгородской торговле на прежних условиях. Прежних – это до 1478 года, когда Новгород был самостоятельной республикой и зарабатывал только сам для себя.
Старые условия были максимально непрозрачными: разные системы мер и весов и прочие уловки делали русско-ганзейскую торговлю убыточной для Руси. Поэтому Москва потребовала уравнять единицу измерения, к примеру, русского воска «капь» с «капями» всех ливонских городов. Другие статьи касались вывоза из Ливонии лошадей. Прежние условия запрещали привозить боевых коней на Русь. Подобные санкции, установленные Ганзой и Ливонским орденом, наносили прямой ущерб обороноспособности страны. Часто ганзейцы и ливонцы просто отбирали купленных русскими лошадей на границе, даже не выплачивая компенсации. Другие статьи (о защите прав русских купцов в Дерпте и Нарве, об отмене всяких ограничений на любые товары) также должны были защитить отечественную торговлю.
Ревельские и дерптские послы в тот приезд в Новгород 16 дней «ходили праздно» и отвергли все статьи русского проекта договора. Запад предпочитал неравноправие, когда речь шла о деньгах. В итоге в Новгороде приняли компромиссный вариант: «сохранить старину», то есть все преимущества Ганзы, в обмен на общее обещание не чинить препятствий русским купцам. «Чистый путь» русским купцам на море должен был означать компенсации, которые Ганза должна будет платить за ограбление отечественных купцов.
Интересно, что у Ивана III был план ротации новгородского купечества. После присоединения, в зиму 1478/79 годов, из Новгорода на восток Московии потянулись скорбные обозы, в которых, закутавшись в соболиные шубы, сидели опальные новгородские купцы. За ними ехали сотни телег с многочисленным дорогим скарбом. Больше никогда новгородские торговые люди не увидят своих земель. Так началось переселение, или «выведение», сытого новгородского купечества и замена его московским, тверским, рязанским и т. д.
Новые купцы столкнулись с несправедливостью ганзейских условий и сразу же высказали своё несогласие: отказались торговать солью и мёдом в бочках без взвешивания. Когда возмущённые ганзейские переговорщики примчались в Москву выяснять, в чём дело, Иван III остроумно ответил, что это он запрещает своим новгородским купцам торговать без взвешивания. Тем самым условия договора 1487 года формально не были нарушены.
Ещё через несколько лет московский князь запретил немецким купцам «колупать» воск. Ранее воск отколупливали, если была потребность проверить его качество. Русские торговцы не были против: их товар был на высоте. Но была проблема: покупатель не платил за отколупленный воск, что было невыгодно продавцу. Отныне такую хитрость ганзейцам делать запретили.
Московия была не единственной страной, где в конце XV века начали бить по рукам ганзейским мошенникам. В Англии Генрих VII также ограничил свободу торговли по-ганзейски, разрешив торговлю только английским кораблям. К ограничениям на хитрых ганзейских купцов присоединился и датский король Иоанн, подняв пошлины и запретив торговлю с датскими крестьянами.
После заключения русско-датского договора и визита в Москву личного капера датского короля в ноябре 1494 года в Новгороде был закрыт Ганзейский двор, а ганзейские купцы были арестованы.
Санкции и параллельный импорт
В самом начале ноября 1470 года в Новгороде при странных обстоятельствах умирает архиепископ Иона. Тот самый, что прекрасно ладил с великим князем и просил его «тихими очами взирать на Новгород». По городу ползут слухи: никак Борецкие отравили. Марфа Борецкая и двое ее сыновей – настоящие лидеры антимосковской оппозиции. Потерю независимости Новгорода они воспринимали как личную трагедию и прямую агрессию Москвы. Борецкие пишут письма литовскому королю: уж лучше быть колонией Литвы, чем идти под руку московского царя.
Некто Кирилл Иванов сын Макарьин, посланный Борецкими в Вильно, падает в ноги польскому королю Казимиру IV и просит установить протекторат над Новгородом. У Казимира иной план. Он посылает своего секретного агента Кирея Кривого к хану Ахмату с предложением совместно разнести Москву в щепки. Но азиатская дипломатия затягивает чужаков, как муху в смолу: Кривого маринуют в Орде год, так и не дав ответа.
Уже через несколько лет Иван III въезжает в Новгород на белом коне. В Волхов летят неуёмные сторонники продажи суверенитета. Марфа Борецкая, эта «окаянная Далила», «злохитрева жена», арестована и вскоре умрёт в сырых и холодных монастырских стенах.
После присоединения Новгорода к Москве русские из торговых партнеров впервые в истории становятся для коллективного Запада геополитическими противниками.
Второй удар по тонкой балтийской шахматной доске западной дипломатии Иван III наносит почти сразу же. В 1492 году напротив ливонской Нарвы (практически окна в окна) он приказывает возвести крепость Ивангород. Летописец вспоминает: «Иван Васильевич всеа Русии собра воеводы своя и повеле поставити на рубежи близ моря Варяжского на устие Наровы реки во свое имя град Иваньгородъ; и оттоле престаше немцы ходити на Русь». Строительство идет немыслимо быстро: через два месяца на новые каменные стены русские затащили первые пушки, нацеленные в сторону Нарвы.
Еще через четыре года Иван III распоряжается окончательно ликвидировать торгового посредника: в Новгороде закрывается Ганзейский двор, арестованы 49 немецких купцов, у которых изъято товаров почти на 100 тысяч марок. Это огромная по тем временам сумма!
Осознав, что новый дерзкий русский игрок на Балтике нарушает привычный миропорядок, в дело вступает Плеттенберг. Он отправляет одно за другим семь посольств в Москву. Затем просит Ганзу полностью прекратить любую торговлю с русскими! На ландтаге2 в Валке летом 1498 года с подачи Плеттенберга принимается решение запретить продажу русским стратегического товара: оружия, пороха, селитры, меди, свинца, серы, любой металлической посуды и проволоки. Однако достаточно быстро через Выборг налаживается параллельный импорт в обход ливонских санкций. Посредниками и контрабандистами неожиданно выступают карельские крестьяне.
Магистр Ливонского ордена, император Священной Римской империи германской нации и даже Папа Римский в панике: ещё пара лет – и русские впервые в своей истории экономически нейтрализуют посредничество немецких портов и возьмут под контроль весь балтийский торговый хаб. Монархам, курфюрстам, магистрам, наместникам в Германии, Швеции, Дании, Ливонии, Франции, Ватикане необходимо срочно объединить свои силы и отказаться от взаимных противоречий! Именно об этом в своих посланиях нервно говорит Вальтер фон Плеттенберг – человек, впервые прокричавший на всю Европу: «Русские идут!»
Игра в кальмара
К XIV веку на Балтике тесно переплелись интересы воюющих друг с другом Швеции и Дании. В борьбу за «суверенитет над Балтикой» (dominium maris Baltic) включаются немецкие ордена и ганзейские купцы. Далее «по течению» барыши от балтийской торговли не прочь подсчитать Северная Франция, Голландия, Англия и даже Священная Римская империя.
Игра стоит свеч. Тот, кто контролирует балтийский хаб, будет сказочно богат. Через этот регион на Запад идут самые главные стратегические товары: соль, сельдь, рожь («хлеб бедняков»).
На севере, недалеко от очень размытых границ Новгородской республики, вовсю промышляет военно-торговый блок Дании, Норвегии и Швеции – «Кальмарская уния». Цель унии – вернуться в Прибалтику и уничтожить торговое влияние Ганзейского союза! Швеция мечтала вернуть времена, когда она топтала ногами рыцарских коней балтийское побережье. Но удар по «Кальмарской унии» неожиданно наносит московский князь Иван III, подписав договор между Данией и Московией 8 ноября 1493 года. Он получит два названия: «Копенгагенский трактат» и «Договор о Любви и Братстве».
Для заключения договора в Москву прибывает датский посол Иоганн Якобсон. Дания и Московия договорились выступить единой военной силой, если для них будет угроза со стороны Швеции. Датчане готовы были дать отпор великому княжеству Литовскому, напади они на русские земли, а русские согласны были ударить по Швеции, если она будет угрожать Дании. «Кальмарское братство» рушится на глазах!
К тому же Иван III и король Дании Кристиан I договорились о том, что русские и датчане на приграничных землях могут свободно заниматься своим хозяйством: «А которые наши земли сошлись с твоими землями, ино рубеж ведати на обе стороны по старине: которые земли и воды, и ухожаи (пастбища), и ловища, и всякие угодья издавна потягли к нашим землям, и в те земли, и в воды, и в ухожаи, и в ловища, и во всякие угодья тебе и твоим людем у нас и у наших людей не вступатись…». Датские и русские послы отныне могли «держать путь свободный» и следовать друг к другу «без всяких зацепок».
Пока послы Дании и Московии согласовывали договор, по Европе поползли интересные слухи, мол, 13-летний наследник датского престола Христиан II хочет жениться на дочери московского князя Ивана III. Ещё на Западе заговорили, что Дания отдаёт Руси Финляндию и Ливонию. После появления этих слухов особенно заволновались Швеция и Литва.
Но вскоре на Западе узнали, что в Москву для подписания договора прибыл человек, которому уже были заготовлены виселицы в доброй дюжине европейских стран. Иван III принял в Кремле грозу шведского и ганзейского флота, главного пирата Балтики Якоба Хуннингхезена. Пират-капер много лет громил и грабил ганзейские и шведские корабли и был героем десятков страшных историй, которыми на Западе моряки пугали друг друга, предостерегая от появления на Балтике. Корабли Хуннигхезена доставили к границам Руси долгожданные пушки и порох, это было лучшим аргументом в пользу русско-датского мира. Через несколько месяцев, когда стало известно о визите страшного датского пирата в Московию, по Европе пополз интересный слух. Говорили, что капер пригнал к русским берегам целую пиратскую флотилию, которая вот-вот уничтожит шведский и ганзейский флот.
Что же заставило Ивана III нанести дипломатический удар по «Кальмарской унии»? Русская разведка доносила, что Ливонский и Тевтонский ордены, а также Швеция ведут военные приготовления. Их цели – удары по северным русским землям, прежде всего по Псковскому княжеству, а также установление блокады товаров, идущих на Русь по Балтийскому торговому пути. В Москве стало известно, что шведский лорд-регент Стен Стуре ведёт переговоры с ревельским городским советом о союзе с Таллином и магистром Ливонского ордена против России. Архиепископ Риги Михаил вызвался помочь ревельцам и шведам: он приказал внимательно зарисовывать рельефы местности, лесные дороги, речные берега территорий, граничащих с русской землей. Такие карты нужны были для планируемого нападения ливонско-шведско-прибалтийской группировки на Московию.
Видимо, узнав о нездоровой активности на ливонской стороне, Иван III принимает решение начать подготовку к будущей войне за Балтику. Других вариантов у него не было, особенно когда он понял, что Литва переходит к торговой блокаде Московии. Блокада эта, установленная в 1494 году, продолжалась почти 20 лет!
Помимо союза с Данией московскому князю на севере был нужен ещё один союзник – образование, которое находилось бы в конфликте либо со Швецией, либо с Литвой. Идеальным кандидатом показался Тевтонский орден. Внимание Ордена к Москве было вынужденным не только потому, что Литва угрожала землям и Москвы, и Кёнигсберга, но и потому, что патрон тевтонов император Максимилиан Габсбург хотел включить Москву в антитурецкий проект. Для этого он был не против русско-орденских контактов.
К концу XV века Тевтонский орден находился почти в вассальной зависимости от Литвы, о чём свидетельствовал подписанный ещё в 1466 году Торуньский мир. Максимилиан обещал ордену военную помощь и покровительство в обмен на разрыв Торуньского мира. Обо всём этом знал Иван III и умело использовал тевтонов в своей балтийской шахматной игре. Осенью 1491 года в Москву прибывает посол Максимилиана Георг фон Турн, он же Делатор, он же итальянец на немецкой службе Джиорджио Делла Торре. Фон Турн в Кремле предлагает Ивану III взять «на соблюденье и в сень свою» Гданьск и Торунь, то есть защитить их от «литовского кесаря Казимира». Московский князь согласен, но с тем условием, что об этом в качестве вассала Москвы попросит тевтонский магистр. Это уже было серьезное заявление: впервые в своей истории русский правитель осмелился взять тевтонов в вассалы.
Почему же так были важны эти спорные и потенциально конфликтоопасные города: Гданьск и Торунь? Дело в том, что через них по узкому торговому коридору в Московию периодически попадало оружие и порох. Об этом знал и Максимилиан, поэтому он и предложил обмен: Торунь и Гданьск на благосклонность Ивана III в вопросах вступления в антитурецкую коалицию.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе