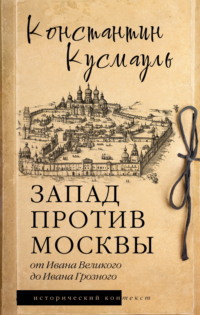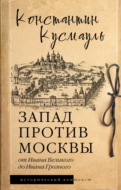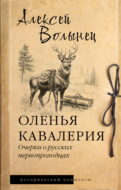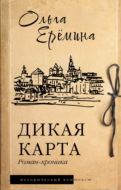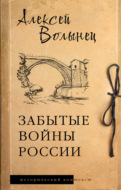Читать книгу: «Запад против Москвы. От Ивана Великого до Ивана Грозного», страница 5
Иван III ломает европейскую игру
На Западе понимали, что «Кальмарский союз» разрушается Москвой, которая умело играет на противоречиях стран-участниц. Понимали также, что становить русских на Балтике поможет только втягивание их в большую геополитическую игру. Во-первых, можно вынудить Московию войти в состав антитурецкого союза. Ещё можно снова попытаться вручить Ивану III корону империи Габсбургов, превратив русских в провинцию империи. Ну и, наконец, добиться унии с Москвой, ликвидировав православную церковь.
Незадолго до русского наступления на Балтику в Москву прибывает посол императора Священной Римской империи германской нации Фридриха Третьего Николай Поппель. Он привозит два заманчивых предложения. Первое – московский князь, так и быть, может принять корону императоров, признав старшинство Фридриха. Ну и второе: почему бы Ивану III не выдать свою дочь за кого-нибудь из дома Габсбургов, например, за маркграфа Баденского Альбрехта? Иван отказывается, глаголя: «Мы, Божиею милостью, государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога».
У Московии масса соседей, послушных и не очень. Играя на противоречиях между ними, можно выиграть больше, чем от европейских союзов. Негласный мир с Турцией и расположение его вассала крымского хана – прекрасный козырь в борьбе с общим противником Польшей.
По поводу династического брака Иван ответил: «Ежели спросят, намерен ли великий князь выдать свою дочь за маркграфа Баденского, то ответствовать, что сей союз не пристоен для знаменитости и силы государя российского, брата древних царей греческих, которые, переселяясь в Византию, уступили Рим папам. Но буде император пожелает сватать нашу княжну за сына своего короля Максимилиана, то ему не отказывать и дать надежду».
Вскоре в Москву прибывают венгерский посол Сантай и австрийский посол Михаил Снупс. Московский царь и великий князь приказывает Сантая напоить до чертиков и выведать его тайные мотивы. А к Снупсу приставить Сеньку Зезвидова, местного придворного агента-«послуха», чтобы тот всё про него разнюхал, что да как замышляет против государя русского. Снупс был окружён такой заботой, что вздохнуть без присмотра лишний раз не мог.
Наметившийся было союз и династический брак «на равных» с империей Габсбургов к 1491 году окончательно расстраивается. Выясняется, что за спиной московского правителя римский король Максимилиан заключил Персбургский мир с Ягеллонами и отдал им протекторат над Венгрией. Москве становится очевидно: все эти «игры в договор» с Западом в лице одного из Габсбургов – ловушка, смысл которой прост: спровоцировать Московию на войну с Казимиром IV в полной изоляции.
Идея унии также была обманом «коллективного Запада». Сама идея активно продвигалась Литовским княжеством. Первой жертвой политики Папы Римского станет митрополит Иосиф, которому Папа откажет в признании, если тот не перейдёт в католичество. Иосифу пришлось прогнуться под католическим прессом. Вскоре при дворе молодого польского короля Александра происходит утечка документов. Агенты Московии читают эти бумаги и почти дословно передают текст послания Папы: «Если русское православное духовенство примет все важнейшие католические догматы, то ему будет разрешено иметь жён и совершать Евхаристию на квасном хлебе».
Чашу терпения Ивана III переполняют сведения о том, что его родную дочь (по совместительству жену короля Александра) в Литве буквально гнобят за её православную веру. Папа Римский, узнав, что Елена Иоанновна упрямствует в деле смены веры, грозит принудить её к переходу в католичество «мерами церковного принуждения», а если надо, то и «разлучить её с мужем». Для отца, московского князя, это было унижением.
Запад снова обманывает и в вопросе унии. Иван III понимает: любые договоры и обещания заключаются в Европе только в её собственных интересах и в любой момент будут нарушены. Верить ничьим посулам нельзя!
Вереницы итальянских, немецких, датских и даже польских послов и их речи прояснили для Ивана III главное правило дипломатии: только игра на противоречиях способна разбить антирусские блоки, как это произошло с «Кальмарской унией».
Накануне русско-шведской войны
Договор Москвы и Копенгагена, разрушив «Кальмарскую унию», сдвинул на Балтике, казалось, неподвижные тектонические плиты. Теперь впервые в истории Россия входила в военный союз с Данией, а Швеция могла заключить в объятия Ливонский орден – извечного врага северных русских княжеств. Такое положение все больше напоминало шахматную партию, которую явно начал разыгрывать московский князь.
Пока Иван III продумывал дальнейшие ходы, на другой стороне геополитической балтийской доски вели переговоры два интересных человека: глава Тевтонского ордена в Ревеле Иоганн фон дер Рекке и комендант Выборга Кнут Поссе. Рекке предложил заслать на границу Ливонии и Московии как можно больше агентов, чтобы они тотчас докладывали о всех движениях русских: купцов, горожан, крестьян и особенно вооруженных групп. Поссе был более интересной фигурой, чем карьерист Рекке. Комендант Выборга по происхождению был датским шведом – идеальный манкурт. Но это ещё не всё. Однажды он отвёл Рекке в выборгское подземелье, в котором он проводил алхимические опыты, варил зелье и резал лягушек и змей, пытаясь получить яды.
Пока Поссе варил свои яды, к августу 1494 года на русской стороне ливонской и шведской границы воеводы Ивана III готовили войска. В Москве посчитали поводом для беспокойства дерзкие вылазки шведских солдат на земли новгородских карел. Дальше – больше: в новгородских февральских сугробах в 1495 году были найдены два трупа. Крестьяне из ближайшей деревни их опознали. Это были некто Мартын да Иван. А убили их какие-то иностранные люди в больших санях. Оказалось, что, узнав о стягивании русских войск к границе, шведы послали своё посольство в Новгород, а по пути отправили на тот свет этих двух бедолаг. Поняв, что из окрестных изб за ними наблюдают сотни глаз, решили от греха подальше повернуть назад. Война была неизбежна!
Русско-шведская война
В конце марта 1495 года в Стокгольме совет уже несуществующего «Кальмарского союза» решил собраться для обсуждения того, «что же необходимо делать в отношении этих немилосердных русских, которые увеличивают свои силы…». Шведы и ливонцы решили попробовать вбить клин в союз Дании и Москвы, предложив датчанам вернуться во времена «Кальмарского договора» и вместе контролировать Балтику. Однако магистр Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг не спешил в Стокгольм. Он вёл свою игру. Магистр как истинный человек Запада и видный русофоб надеялся на то, что в предстоящей войне Московии и Швеции орден будет стоять в стороне и ждать поражения одной из сторон.
В тот год Плеттенберг был ещё абсолютно уверен, что слабая Московия, находящаяся в тисках европейских санкций, без артиллерии, пороха и серебра, неизбежно потерпит поражение в войне со Швецией и больше никогда не сунется на Балтику.
Русское наступление на Выборг началось осенью 1496 года. Крепость стояла намертво, русским войскам удалось только взять её в осаду. Воевода Даниил Васильевич Щеня захватил 90-километровую прибрежную полосу.
Верховный магистр Тевтонского ордена Иоганн фон Тифен написал прокуратору ордена в Рим: «Мы посылаем также копию письма господина ливонского магистра, прочтя которое, вы узнаете и однозначно поймёте, какая забота наш орден беспокоит. Нужно бояться, если Господь на небе не поможет своим христианам, то русские схизматики произведут в Ливонии такое же стенание, бесчеловечную жестокость, убийства и пожары…»
Пока в начале декабря Иван III и его воеводы снимают осаду Выборга, из Нарвы в Ревель отправляется интересное письмо. «Дружески доводим до вашего сведения, – написано в письме, – что мы послали наших разведчиков, одного – в Новгород, где он был четыре дня кряду. Он сообщил нам, что великий князь с двумя сыновьями находится в Новгороде и что он объявил сбор войска на Неве для похода… Разведчик говорит, что великий князь намерен наступать всеми силами на город Ревель, да не допустит этого Господь. Тот же разведчик сообщает, что он приказал расширять дорогу… к новому русскому замку, куда, как говорят, он сам должен прибыть».
«Новым русским замком» в анонимном письме назван город, который дерзко за несколько лет до этого менее чем за один год построил Иван III, – это Ивангород, который недавно был взят и разрушен шведами.
Новый поход «на Корелу да к Новугородку немецкому на Гамскую землю» начался в январе 1496 года. Русская дворянская конница стремительно прошла к Нишлоту (тому самому «Новугородку»), затем разбила шведов у Ульфсборга, после чего, пройдя по Тавастгустской области, прошла еще 500 километров в районе Невы.
В этот самый момент впервые Плеттенберг примеривает на себя роль военачальника и просит одного из герцогов прислать ему наёмников, чтобы отправить их в подкрепление к шведам. Но сам магистр отнюдь не торопится заключать договор со шведами от лица ордена. Не изменил он своего мнения и после того, как русские захотели взять в осаду Нарву, приближаясь непосредственно к ливонским землям.
Понимая, что силы неравны, шведы направляют письма в города Ганзы, а затем – во многие германские города. Но самым интересным посланием было письмо шведского регента Сен Стуре лично Папе Римскому Александру VI. В ответ на него Папа разразился гневной прокламацией о русских «схизматиках», «врагах истинной веры» – варварах, уничтожающих всё на своем пути. «Если не будет найдено быстрое необходимое средство, – пишет Папа, – то… шведское государство вместе с ливонской землёй и провинциями, к ней прилегающими, так и будут пребывать в страхе, что эти схизматики сделают их рабами».
Теперь «русская угроза» для Запада – это больше, чем просто военное противостояние. Это борьба с московитами – варварами, заблудшими язычниками, людьми, исключёнными Западом из человеческой цивилизации.
Умный Плеттенберг, прочитав очень патетичный и «лирический» призыв Папы ко всем подряд бороться с русскими, понимает: святой престол пока не готов взять на себя военную и политическую миссию объявления войны далекой Московии. Магистр Ливонского ордена видел, что Швеции на помощь не стремятся ганзейские города. Да и главный политический камертон для ордена император Священной Римской империи Максимилиан Габсбург тоже поддерживает Данию и хочет продолжения антитурецких переговоров с Иваном III.
В августе на день святого Варфоломея шведы берут и громят Ивангород. Возглавлявший оборону князь Иван Бабич и все защитники с жителями были безжалостно уничтожены. Тела князя и его жены сброшены шведами со стен крепости. Вскоре так же быстро и стремительно, как в своё время был построен Ивангород, русские его восстановили.
Крепость Нарва стояла напротив Ивангорода, и шведский наместник постоянно наблюдал за перемещением русских в возрождающейся цитадели: «День за днём они подвозят и тащат строительные материалы и прочее для восстановления ворот, башен и помещений. Каждый день подходит всё больше людей. Слух идёт, что… оба новгородских посадника набирают в Ижорской земле великое ополчение».
Тревогу из-за восстанавливаемого «Города Ивана» выразил в своём письме верховному магистру фон Тифену недавно избранный имперский магистр тевтонского ордена Андреас фон Грумбах: «…нашему ордену на границе лучше быть соседом Швеции, чем с неверными русскими схизматиками».
Пока в Ивангороде шла стройка, Иван III узнал, что некоторые ливонцы помогали шведам грабить и уничтожать город. Такого московский князь не прощал! Это понимал и Плеттенберг, поэтому приказал по всей Ливонии готовиться к войне.
Шли месяцы, а русские, подтянув к границе с Ливонией серьезные силы, всё не начинали войну. Напряжение росло. В зимние дни 1497 года Плеттенберг писал: «Мы должны пребывать в таком сильном напряжении… каждый день и каждый час ожидать их нападения». Уже тогда ожидание русских для Запада было довольно страшным испытанием.
Почему же Иван III не стремился начать войну с Ливонией? Пока Плеттенберг ждал удара русских, в самой Москве произошёл заговор против наследника престола – Дмитрия-внука. Руководил заговорщиками думный дьяк Дмитрий Гусев. Он принадлежал к заговорщицкой еретической группировке Елены Волошанки (мамы Дмитрия-внука) и Фёдора Курицына.
Сам Дмитрий Гусев за несколько лет до этого сопровождал Елену Волошанку в Литву и вёл там какие-то переговоры. Другим участником заговора был некто Афанасий Еропкин, чей родственник дипломат Михаил Кляпик-Еропкин, кстати, был замечен в русской дипломатической свите во время поездки ко двору Максимилиана. Защищая внука, Иван III, не зная всего замысла заговорщиков, сделал «нужные выводы»: Гусев и Еропкин действовали якобы в интересах Софьи Палеолог, замышляя уничтожить любимого внука. Значит, Софья и ее сын и есть заговорщики, которых надо если не казнить, то надолго отправить в опалу.
Прозападная группировка Волошанки-Курицына, организовав «крамолу Дмитрия Гусева», добились трёх важных результатов: во-первых, ставленник заговорщиков Дмитрий-внук не просто будет защищён отцом Иваном III, но и коронован как наследник престола. Во-вторых, главный политический противник Софья Палеолог и её сын Василий будут подвергнуты опале. В-третьих, заговорщикам-еретикам удастся отвлечь Ивана III от мощного русского наступления в Ливонии, которое вполне могло завершиться разгромом Ливонского ордена и переходом балтийского торгового хаба под весомый контроль Москвы.
Помимо новости о заговоре в Кремль приходит весть о том, что в Казани «шибанский царь Мамук со многою силою» сверг промосковского ставленника Мехмет-Амина. Иван III принимает решение перебросить часть войск из-под Нарвы на Восток. Но всё-таки среди всех плохих новостей Иван III получил одну хорошую: датский посол привёз сообщение, в котором говорилось, что шведы обратились за помощью к королю Дании Гансу с согласием признать его шведским королем в обмен на то, что Ганс убедит московского князя заключить мир. Иван III соглашается остановить войну и заключает 6-летнее перемирие со Швецией. Условия мира были приемлемыми: шведы обязывались «блюсти» и защищать русских купцов в Выборге, Нарве, Таллине.
В конце 1597 года король Дании Ганс захватывает Стокгольм и становится шведским королём. Московский князь доволен: стратегический военный союзник Дания добилась своих политических целей, а Москва выхлопотала отличные торговые условия на Балтике. Иван III оказался настолько рад своим успехам, что вскоре даже предложил датскому королю заключить брак Василия Ивановича с королевской дочерью, принцессой Елизаветой. Король Дании, впрочем, отверг это заманчивое предложение.
А какова судьба русско-датского союза? После войны со Швецией его на прочность проверил Плеттенберг. Он предложил королю Гансу заключить с Ливонией мир. Но Ганс потребовал взамен некоторые эстонские территории, на что Плеттенберг согласен не был.
Приготовиться Ливонии
Получив отказ от Дании, Плеттенберг начал готовиться к войне с Московией. С границы по реке Нарве ему поступали тревожные вести: около Ивангорода, на противоположном от Нарвы берегу русские разработали очень странные мосты. Мостовые модули имели большую ширину, годную для прохода конницы, и очень быстро соединяются между собой специальными скобами. Через Нарву такой мост может быть проложен в считаные минуты.
Плеттенберг в ответ на приготовления русских начал активно вербовать наёмников из Швеции и Дании, буквально задерживая на ливонских землях всех вооружённых людей, и пеших, и конных, и даже тех, кто плыл по воде. Магистр писал в Ревель: «Когда прибудут корабли с наёмниками, вы должны задержать этих людей вместе с кораблями… чтобы они помогли защитить эту страну, потому что в ней нет кнехтов».
Весь 1497 год ливонцы ловили русских рыбаков и торговцев и периодически вешали их за браконьерство и незаконную торговлю. Управляющий Нарвой частенько жаловался на нехороших русских, которые рыбачили на нарвском берегу. «Накануне Троицы, – говорилось в одном из писем, – один русский ловил рыбу на нашем берегу. Я приказал своему управляющему посадить русского в городскую тюрьму за браконьерство. Потом я его отпустил. Позже… люди управляющего схватили какого-то русского, торговавшего солью, и на следующий день повесили».
Пока ловили и бессудно казнили русских рыбаков, Ливония по-прежнему оставалась одна перед угрозой вторжения войска Ивана III. Это понимали на Западе. Мечта о возрождении хотя бы слабой тени «Кальмарского союза» витала в те годы в воздухе.
Осенью 1497 года после смерти фон Тиффена Немецкий орден временно возглавил некто Вильгельм фон Изенбург, который предложил создать антимосковскую коалицию в лице Швеции, Ливонии и Дании. Представляя свой план европейским лидерам, Изенбург писал: «Много лучше и более необходимо оказать русским вооруженное сопротивление, вторгнуться в их страну и принудить их принять христианскую веру, как была принуждена Пруссия нашим орденом с помощью христианских князей, государей и властей Любека».
Эти строки шли в унисон с позицией Папы Римского Александра VI Борджиа: если Москву нельзя сподобить приять унию и убраться с Балтики, то её можно заставить сделать это военным путём.
Когда датский король Ганс отказался от участия в антирусской коалиции, то Изенбург предложил участие польскому королю Яну Ольбрахту. Чтобы Ольбрахт был сговорчивее, Изенбург под гарантии самого Максимилиана, императора Священной Римской империи, обещал ему шведскую корону. Изенбург писал: «Королевства Польское и Шведское, земли Пруссии, Ливония со всеми ганзейскими городами достигнут союза и взаимопонимания и будут достаточно сильны, чтобы оказать сопротивление неверным русским».
Пока поляки думали о перспективах такого антирусского союза на Балтике, Плеттенберг решил действовать на опережение. Он приготовил свой геополитический план блокирования Ивана III на севере и решил вписать в него самого Папу Римского.
«Аптекарь сатаны»
Плеттенберг берёт бумагу и ровным почерком крепкого хозяйственника пишет своему покровителю великому магистру Тевтонского ордена Иоганну фон Тиффену про русскую угрозу ливонским городам и всей Балтике. В конце просит аудиенции у самого Римского Папы.
Плеттенберг хочет создать первую в мире военно-религиозную западную антирусскую коалицию. Осенью 1498 года он отправляет ко двору Папы Римского своего агента, епископа Ревеля Николая Роддендропа. Папа Александр VI вяло ответил в своём послании, что правители Дании и Литвы должны отказаться от всех договоренностей с Москвой. Копии этого послания на всякий случай доставлены в Швецию, в Священную Римскую империю.
Плеттенберг понимает: у него есть прекрасный шанс стать не просто орденским ливонским управителем, но политиком европейского уровня. По совету римского императора Максимилиана, нужно только уговорить Папу Римского начать крестовый поход против опасных и несговорчивых русских. Во всей этой истории Плеттенберга смущало, что Максимилиан так увлечен идеей втягивания русских в антиосманский союз, что даже не пошевелил рукой, чтобы поддержать план антирусского европейского союза. Поэтому вся надежда Плеттенберга была только на Папу.
Сам Папа Александр VI, он же Родриго из династии Борджиа, он же «главный развратник Рима», он же «аптекарь сатаны», был человеком, опасным для всех, кто его окружал. Немногие его противники, оставшиеся в живых, боялись широкого обнародования фактов «святейшей» жизни. По Риму ползли странные слухи:
– А вы слышали, что Папа Римский соблазнил свою дочь Лукрецию и живёт с ней?
– Знаете ли вы, что во время помолвки Лукреции Александр устроил настоящую оргию?
– Ну а как же договор с турками? Говорят, Папа его тайно подписал?
– У Борджиа своя коллекция ядов. К своим противникам он посылает наёмных убийц!
После письменного общения с Иоганном фон Плеттенбергом «аптекарь сатаны» подписывает буллу, в которой разрешает проповедь крестового похода против русских только на территории балтийских сюзеренов. Всем участникам, естественно, обещано отпущение грехов. Плеттенберг рассчитывает не на это. В его представлении Папа должен стать организатором военного похода против Москвы, а не раздавать благословления. Папа осторожен, он, в отличие от Максимилиана, грезит другим проектом, в который можно попробовать вписать Московию мирно, – проект принятия русскими унии.
Уния ему дороже, чем прожекты Плеттенберга. К тому же накануне приезда последнего Папа задумал грандиозный бизнес-проект. Александр VI подумывал вот-вот объявить крестовый поход против турок, и в типографиях уже были заказаны сотни тысяч типовых индульгенций. Покупатель подобной бумаги мог считать себя не только прощённым от всех грехов, но и виртуальным участником будущего антитурецкого крестового похода, ведь деньги от их продажи должны пойти на финансирование этого мероприятия. Так что Папе было явно не до предложений Плеттенберга.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе