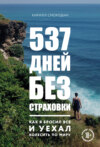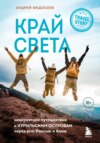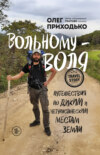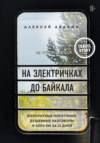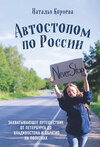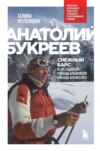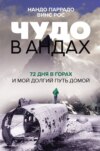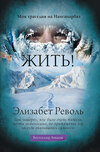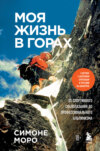Читать книгу: «537 дней без страховки. Как я бросил все и уехал колесить по миру», страница 3
У пчел выходных не бывает
Часть вторая
Трудились мы каждый день, и поверьте, на пасеке всегда есть чем заняться. Мы вставали в 7 утра, умывались, завтракали, а в 8:30 начиналась работа. Каждый день мы удивлялись, что появляются все новые и новые задачи. Были и регулярные работы, такие как: сбор роев с пчелами, заселение пчел в ульи, строительство рамок. Чаще всего пчелы собирались на деревьях и кустах. Рой надо было собрать в роевню (переносной улей), где пчелы находились до самого вечера. Вечером из роевни мы переселяли пчел в улей, создавая тем самым новую семью, которая в будущем будет приносить мед. И так изо дня в день. Надо отметить, что босс Зиннур не внедрял инновации со времен… Босс Зиннур никогда не внедрял инновации. Он работал по старым, но проверенным методикам пчеловодства, благодаря которым мы с Оскаром прочувствовали все прелести жизни олдскульного пчеловода.
Поначалу я опасался больших роев и приближался к ним с осторожностью. Рой – это огромная движущаяся и гудящая масса пчел. Черная субстанция из насекомых, которая живет своей жизнью. Страшно представить, что будет, если опустить руку в эту массу. Скорее всего, на месте руки останется обрубок. Конечно, так никто не делает, но моя больная фантазия рисовала разные варианты.
Самое тяжелое время на пасеке с 12 до 15 часов. Летом в Башкирии очень жарко, к тому же нам приходилось надевать костюм-скафандр, защищающий от укусов пчел. Однажды, в один из таких жарких дней, босс попросил выкосить траву около ульев. Задача звучала безобидно, пока мы не приступили к работе. Представьте, что вы сидите дома и смотрите спокойно телевизор, и тут вдруг к вам врывается великан и переворачивает диван, раскидывает вещи и громко шумит. Мне кажется, что именно так чувствовали себя пчелы в тот день. Они очень разозлились. Целыми семьями они кружили у моего лица. Каждую секунду я ощущал дискомфорт. От пчел меня отделяла тонкая сетка на лице, о которую они отчаянно бились, стараясь меня достать. Часто пчелиное жало доставало до кожи через защитную одежду. Адская жара провоцировала снять хоть на секунду головной убор. Иногда пчелы заползали в дырку на штанине, которую я забывал зашить, и это придавало особых ощущений.
Это был непростой день. Я старался привыкнуть к психологической пчелиной атаке и сравнивал насекомых с японскими камикадзе, которые тоже погибали после атаки. Я пытался сделать их условия жизни лучше, а они этого совсем не понимали. Оскар тоже нервничал, но виду не подавал. Он оказался стойким и физически сильным малым. В головном уборе пасечника он не сильно отличался от рабочего на китайских рисовых плантациях. Я глядел на эту картину посреди башкирского края, и это поднимало мне настроение в сложные минуты.
Как же Оскар оказался в Башкирии? Его мечта – побывать в Лондоне. Долгое время он работал в Малайзии поваром, но рутина пожирала его день за днем и однажды он собрал рюкзак и отправился через громадный континент к заветной мечте. Что-то мне это напоминает. Наши желания были и правда похожи. Странные, ветреные, авантюрные. Я смотрел на невысокого худенького китайца с черными волосами и маленькими карими глазами, но с волевым характером и огромным желанием дотянуться до мечты. Путь Оскара лежал через Юго-Восточную Азию, Монголию, Россию, Европу, а мой в точности наоборот, и мы встретились где-то посередине. Наверное, дорога послала мне Оскара для понимания, что я далеко не один такой отчаянный дуралей в этой Вселенной.
Жаркие дни на пасеке сменяли друг друга. Я не заметил, как пролетела неделя или больше. Дышалось легко и бодро. Со временем я привык к укусам пчел и тяжелой работе и даже к тому, что постоянно бился лбом о дверной косяк. Я видел плоды своего труда, работая на свежем воздухе, как работали наши предки, которые были ближе к природе. Забытые чувства цифрового века. Сегодня люди бегут от природы в города, но кто знает, может быть, скоро все изменится.
Багровые закаты
Часть третья
Чтобы найти интернет в глухой башкирской деревне, нужно потратить месяцы, а может быть, и годы. Изучив местность вдоль и поперек, мы с Оскаром нашли связь на одной из цветочных полян. Поляну мы окрестили волшебной. Оттуда мы с Оскаром связывались с внешним миром. Однажды на одном из магических сеансов я получил сообщение от журналистки из башкирской газеты. Она предложила сделать репортаж про пасеку. Потолковав с боссом и получив разрешение, мы, попивая чай и черпая мед из ведра, сидели и ждали прибытия прессы.
Путешествие – это эмпирический путь разрушения шаблонов. И мой стереотип в отношении провинциальной журналистики был разрушен в пух и прах. Дарья Петрова оказалась большим профессионалом. Она задавала интересные вопросы и делала фотокарточки, а мы с Оскаром рассказывали о буднях на пасеке. Оскар иногда отвечал по-русски фразами, которым я успел его научить. Матерные словечки он придержал.
Среди многочисленных вопросов, адресованных боссу Зиннуру, в мою память врезался один. Даша спросила Зиннура про отдых. А именно, давно ли он куда-нибудь ездил?
– Да куда я ездил? Никуда я не ездил. Всю жизнь тут. Летом пасека. Зимой скотина. Я даже болеть не имею права. Хозяйство, знаете ли, – улыбнулся босс.
Я размышлял над его словами. В них была какая-то несправедливость мира, а с другой стороны, он счастлив на своей пасеке с родными башкирскими пчелами. Босс принимает работников из разных стран. Общается с ними и слушает истории со всего мира, путешествуя таким образом с гостями. А здесь его дом, его земля.
Мы проводили Дарью, пожелав ей доброго пути. Я залез на забор и наблюдал, как у реки резвятся мускулистые, переливающиеся на солнце лошади. Очень захотелось искупаться, но нельзя. Уже третий день в нашем районе ищут утопленника. В Башкирии большая проблема с молодежью. Босс рассказывал много подобных историй. Молодые люди, не уехавшие в большие города, пьют, употребляют наркотики и заканчивают жизнь самоубийством. То повесится кто-нибудь, то застрелится, то в реке утопится. Босс говорил, что такие случаи в башкирских деревнях стали обыденностью. Хотя что я знаю об этой стране? Разве такое только в Башкирии? И разве нормально называть это обыденным? Больше вопросов, чем ответов. Хотя только так, задавая вопросы, можно приблизиться к тому, что принято называть истиной.
Солнце садилось. Мы стояли втроем с Оскаром и Зиннуром, молча глядя на багровый закат. Так красиво и тихо. Словно вся Россия замерла, наблюдая, как очередной день уходит в небытие. Я слегка повернул голову к Зиннуру и, не отрывая глаз от заката, спросил:
– Босс, а может быть, что молодежь вернется в деревни и займется сельским хозяйством?
– Не знаю, – задумчиво ответил Зиннур. – Могу сказать одно: пчеловод – это призвание. Если бы появился какой-нибудь хороший парень с большим желанием, то я бы ему обязательно помог. А так, эээ. Одни пьяницы.
Мы опять замолчали. Оскар не знал русского языка, но мне показалось, что он понимал суть разговора. Последние лучи блеснули на небосводе. Я буду скучать по этому месту. По запаху земли и цветов. По песням Оскара. По тому, как мы ели мед из ведра и пили воду из миски, из которой пил бродячий кот. Как дождь заливал нашу деревянную лачугу, а мы заклеивали щели пластиковыми пакетами. И, конечно, по сказочным багровым закатам. Даже по дверному косяку буду скучать, который принял на себя 15 ударов моего лба.
Солнце окончательно пропало где-то за темным лесом, но не навсегда. Через семь часов оно разбудит нас теплыми утренними лучами, и начнется новый день сельской жизни. На пасеке я провел три недели. И одним ясным утром босс Зиннур, похлопав меня по плечу, вручил трехлитровую банку меда и мы попрощались. Я вышел на дорогу, чтобы продолжить кругосветное путешествие. Может быть, когда-нибудь и я заведу пасеку или клочок земли, где буду выращивать домашние помидоры и виноград и поставлять их на стареньком грузовике в рестораны города. Может быть.
P.S. К РАССКАЗУ «КАК Я СТАЛ ПЧЕЛОВОДОМ»
– Репортаж Даши Петровой можно найти на просторах интернета под названием «Кому в Башкирии медом намазано».
– Оскар спустя три месяца добрался до Лондона. Он прислал мне фотографию на фоне башни Биг-Бен, но почему-то у него не было переднего зуба. Я решил не уточнять. Мало ли что случается в пути.
Что там на Урале?
Шел 35-й день кругосветного путешествия. Я в Челябинске сижу в квартире фотографа и моего друга Максима Тарасова и пытаюсь переварить происходящее. Больше месяца прошло с того момента, как я вышел из дома. После работы на пасеке я успел зависнуть в Уфе и даже снялся в рекламе пряников. Надеюсь, я никогда не увижу этот видеоролик, потому что моя актерская игра была ужасной. Трехлитровую банку меда, полученную от хозяина пасеки, я расфасовал по маленьким емкостям и отправил друзьям и знакомым.
Покинув Башкирию, я автостопом отправился в суровый Челябинск. На трассе меня подобрал Леха Меркулов – настоящий коренной челябинец. Его уральский лексикон и разговоры о геях я запомню надолго. Не любят они их там, если вкратце. В Челябинске я сначала ночевал на лесопилке, где работал Леха, а потом переместился к Максу, с которым мы познакомились на каучсерфинге, а потом сдружились и неделю колесили по Челябинской области.
Среди увиденного в Челябинской области больше всего меня поразил город Карабаш. По неофициальным данным, Карабаш является одним из самых загрязненных городов России. Эту информацию проверить сложно, но через полчаса нахождения в городе во рту появился кисловатый вкус, напоминающий пальчиковую батарейку, если ее лизнуть. Еще через полчаса добавилось першение в горле и начали слезиться глаза. Причина – медеплавильный комбинат, который долгие годы трудился на благо страны без очистных сооружений, выбрасывая ядовитые отходы в воздух. В июне 2010 года в Карабаше наблюдалось уникальное природное явление – преждевременная осень. Пожелтели листья, пожухла трава и сгнил урожай на близлежащих участках. В Карабаше есть свои городские достопримечательности, а именно железный крест величиной 25 метров, установленный на облысевшей от промышленных выбросов горе и, видимо, символизирующий, что жителям этого города осталось надеяться только на бога. Население города, кстати, составляет 11 тысяч человек.
Я стоял на выжженной горе рядом с огромным крестом, и казалось, что это декорации к фильму-апокалипсису. Высоченная труба завода торчала в центре города и пыхтела, распространяя грязно-зеленый дым по горным массивам. Тонны черного пепла и отходов обступили город со всех сторон. Карабаш утопал в них, уходя дальше и дальше под землю. На фоне громадных гор пепла я увидел малюсенькую точку. Я вглядывался в движущуюся соринку, пока очертания не стали более ясными, и я понял, что это очередной самосвал везет отходы в Мордор. Простите, в Карабаш.
Что заставляет человека жить здесь? Заводить семью и воспитывать детей? Неужели нельзя все бросить и найти себя в другом месте? Да, кто-то должен обогащать медь, но почему я? Мои мысли прогнали капли дождя. Местные жители не советуют попадать под дождь в Карабаше, потому что отходы из трубы, смешиваясь с водой, образуют серную кислоту, которая может выжечь растительность не только в полях и лесах, но и на голове человека. Мы с Максом решили вернуться к машине и начали спуск, но погода так быстро менялась и за несколько минут разбушевалась не на шутку. Поднялся ветер, небо почернело, словно подсказывая нам: «Бегите, глупцы!» Не пожелав превращаться в карабашскую лужу, мы понеслись с горы к машине что есть сил, но все равно намокли. Мы запрыгнули в автомобиль, отдышались, подождали эффекта, но мутаций не произошло.
Удивительно, но на следующий день мы с Максом оказались на одном из самых чистых озер в России. Озеро Тургояк находится в 60 километрах от страшного Карабаша, и вода в озере считается питьевой. Тургояк – озеро сильное, и, сидя на берегу, я ощущал всю его мощь. Я не увлекаюсь эзотерикой, шаманизмом и к «местам силы» всегда относился со скептицизмом, но на Тургояке я ощутил невероятное умиротворение и внутреннюю теплоту. Эти ощущения откуда-то из детства. Когда тебе девять лет, летние каникулы только начались и ты сидишь чумазый на пирсе, пытаясь разглядеть, что происходит под водой. Не переживаешь, не анализируешь и не планируешь, а просто бултыхаешь ногами, наблюдая, как рыбки разбегаются, а потом собираются вновь, чтобы изучить твои потертые пятки.
Я взглянул на Макса. Ветер трепал его волосы, а он смотрел вдаль и думал о чем-то своем.
– Макс!
– Да?
– В чем смысл жизни?
– Жить. Все просто.
P.S. К РАССКАЗУ «ЧТО ТАМ НА УРАЛЕ?»
– Максим Тарасов и сейчас живет в городе Челябинске, и если вам повезет и он вас приютит, то знайте, что вы большой счастливчик. Макс – это глубина.
– Медеплавильный комбинат в городе Карабаш работает и по сей день.
Горный Алтай
Дом для всех
Часть первая
Дальнобойщики, дорожная пыль, тяжелый рюкзак, голод и жажда, холод и жара – вечные спутники бродяги-автостопщика. Если кто-то питает иллюзии, что путешествие – это чистая романтика, то он ошибается. Однако все невзгоды и дискомфорт перекрывают сильнейшие эмоции и необъяснимые изменения, происходящие внутри.
Поколесив по жаркому Казахстану и проехав его с запада на восток, я вернулся на территорию Российской Федерации, а затем решил направиться в Горный Алтай. На тот момент я ничего не знал об этом регионе. Из словосочетания «Горный Алтай» напрашивался единственный логичный вывод, что там есть горы. Как и во многие места во время путешествия, я ехал интуитивно, ничего заранее не планируя.
Я держал путь в село Чемал, в легендарный «Дом для всех». Место встречи путешественников со всего мира. В доме можно было жить бесплатно, если ты адекватный, доброжелательный и неприхотливый человек. Хотя и это не обязательно. Пристанище бродяг в Чемале представляло собой девять соток земли и деревянный одноэтажный дом. В доме была кухня и комната для сна, в которой люди спали на полу, как шпроты в банке, плотно прижавшись друг к другу. В доме пахло старым деревом, горными травами и крепким табаком, а на стенах висели географические карты Алтая и записки от путешественников. По периметру дома, на каждом свободном клочке земли были расставлены палатки. В них жили ребята, которым не хватило места в доме, или попросту любители свежего воздуха. Атмосфера в «Доме для всех» чем-то напоминала советское кино. Повсюду бродили бородатые мужики в свитерах, вкусно дымившие папиросами, а девушки прихлебывали чай из алюминиевых кружек, задумчиво глядя на вершины гор.
За ужином, когда тени от громадных гор ложились на село, а языки костра прыгали по темному алтайскому небу, жители дома собирались за столом и травили байки. У всех ребят была какая-нибудь своя увлекательная история, и вскоре такая история появилась и у меня.
Ороктойские пещеры
Часть вторая
Это был мой первый день в «Доме для всех». Я добрался автостопом до Чемала с водителем, похожим на Вадима Галыгина, правда, шутил он не так хорошо, зато угощал семечками и квасом. Захлопнув дверь грузовика, я на несколько минут присел у дороги на трухлявое дерево, чтобы сделать запись в блокноте.
«Добрался до села Чемал в Республике Горный Алтай на 50-й день путешествия».
В селе меня встретила Ольга Крехова, девушка, поддерживающая порядок в «Доме для всех», среди самых беспорядочных людей в мире. Мы шли вглубь деревни, обсуждая Севастополь и Крым. Оля бывала в тех краях и вообще была тертым калачом и навернула автостопом не одну сотню километров по России. В процессе разговора я оглядывался по сторонам, поражаясь удивительным видам. В Чемале настоящий Горный Алтай только начинался, но даже там я уже мог насладиться величественными темно-зелеными хребтами гор, нависшими над крохотным селом.
Пройдя через двор, пестревший цветными туристическими палатками и сохнущим на веревках бельем, я направился к входу, но не успел открыть дверь, как она резко распахнулась и на пороге возник худощавый парень с живыми бегающими глазами.
– Здорово! – Он протянул мне жилистую, сильную руку. – Меня Вова зовут, а это моя жена Маша, и мы идем в Ороктойские пещеры, с нами хочешь? – выпалил он на одном дыхании.
Я, признаться, был очень уставшим после нескольких дней автостопа, и расстеленные коврики для сна, которые я заприметил в комнате, манили мое тело. На долю секунды я замешкался с ответом, но вспомнил, что в путешествии я нахожусь в режиме «всегда говори да» и открыт всему новому.
– Да, хочу, – ответил я. – Надо брать спальник или палатку?
– Нееее, – протянул Вова, – сегодня точно вернемся! Воды захвати!
Сегодня точно вернемся… В тот день я не подозревал, что скоро эта фраза станет легендарной. К нашей команде присоединился Дима, бородатый и веселый парняга из Ярославля, который бросил работу на заводе и уехал покорять Алтай. Димон – русский человек, который любил душевные разговоры, горы и водку. И надо сказать, что последнее никак его не портило. Голубоглазый, коротко стриженный, крепкий, он носил синюю шапку «петушок» и не имел табу для разговоров. Вова и Маша оказались семейной парой из Беларуси, которые, так же как и я, отправились в кругосветное путешествие. Вова – рыжеватый, подтянутый и невероятно живой молодой человек, а Маша – красотка-блондинка с голубыми глазами и внешностью, задуманной для глянцевых журналов, а не походов по алтайским горам.
Изначально, покинув «Дом для всех» почти в час дня, мы понимали, что это довольно поздно, но это нас не остановило. Я бросил рюкзак и теплые вещи, захватил бутылку воды и бодреньким шагом направился вместе с ребятами к дороге.
На Алтае, и в частности на Чемальском тракте, движение очень неактивное. Автомобили появлялись нечасто, и желающих подвезти четырех бродяг оказалось немного. Мы уже подумывали разделиться, чтобы увеличить шансы, но вдруг возле нас остановился старенький джип. Без лишних слов водитель сделал жест головой, подсказывающий, что надо загружаться в автомобиль. Мы переглянулись, уселись в машину и, поблагодарив в один голос водителя, тронулись по тракту. Водителем оказался бывший чемпион СССР по вольной борьбе. Он ехал на спортивную базу, где тренировал молодое поколение. Угрюмый мужик был неразговорчив и явно не одобрял нашу затею передвигаться автостопом по Горному Алтаю. Высаживая нас у поворота на базу, он предупредил о медведях и недружелюбных алтайцах. И, усмехнувшись, добавил, что пьяные алтайцы даже поопаснее медведей будут.
Мы не проехали и половины пути, а часы показывали три часа дня. Выйдя вновь на дорогу и подняв большой палец вверх, я стоял в ожидании транспорта и нового незнакомца за рулем. Ты никогда не знаешь, кто будет этот человек, с какой судьбой, переживаниями, характером. Еще одна машина пронеслась мимо, я вздохнул и невольно оглянулся. Позади меня раскинулись алтайские пейзажи, будто сошедшие с картин русских живописцев. Я представить не мог, что живу в стране с такими красками. Тысячелетние горы, покрытые соснами, кустарниками и мхом, возвышались над изумрудной рекой Катунь, которая с шумом неслась под нами, огибая камни и скалистые повороты. На ярко-голубом небе без единого облака кружили птицы, было так тихо вокруг, и мне казалось, что я слышу их редкие взмахи крыльев. И среди этой дикой красоты пролегала дорога, на которой стояли четыре путника с поднятыми вверх пальцами.
Стрелки на часах незаметно подобрались к пяти часам вечера. Сначала «уазик» с грустными монголами, потом местный рыбак, который тоже сокрушался нашим нищебродством, но мы все-таки добрались до развилки на село Ороктой. Оттуда мы уже пошли пешком в сторону пещер, зависнув ненадолго на железном мосту через широкую и бурную Катунь. Уже в тот момент, глядя с моста на могучие горные хребты, начали появляться мысли, что нам придется ночевать не под крышей «Дома для всех».
Мы шли по пыльной проселочной дороге, глядя по сторонам в поисках заброшенных домов, но делали это скорее в шутку, надеясь, что договоримся переночевать в селе. За новыми и новыми изгибами дороги раскидывались невероятной величины поляны, на которых изредка, но можно было увидеть диких мускулистых лошадей, неторопливо пощипывающих траву. За очередным поворотом показалось село Ороктой, которое оказалось практически безлюдным, и даже единственный продуктовый магазин был закрыт. На улице потихоньку темнело, и с гор повеяло тревожной прохладой.
– Володя, – негромко обратился я. – Полагаю, что нам придется заночевать где-то.
– Да, что-нибудь придумаем, – откликнулся Вова.
Мы добрались к пещере в семь часов вечера, преодолев пешком 12 километров, 3 из которых в гору с сильным уклоном. На высоте 1500 метров над уровнем моря мы обнаружили небольшой вход, заросший кустами и травой. Отдышавшись, мы осмотрели вход в пещеру, из которого повеяло диким холодом. Солнечные лучи пробивались сквозь деревья, но мы понимали, что из пещеры выйдем уже в сумерках. Неподалеку валялась зимняя одежда, оставленная добрыми людьми для новых посетителей. Мы облачились в грязную и не очень приятно пахнущую одежду, став еще больше похожими на бомжей, и нырнули в недра пещеры.
Внутри по ощущениям было градусов 5–6. Стены покрыты льдом, изо рта валил пар, а с потолка грозно свисали прозрачные сталактиты. Кроссовки скользили по обледеневшим камням, а мозг противился спуску в тесные каменные коридоры. Я прикасался рукой к холодным стенам, и на них отражалась моя тень. Проходы были очень узкие, и порой нам приходилось ползти на животе, как настоящим спелеологам. В некоторых местах, пролезая под огромными вековыми глыбами, я замирал на несколько секунд, представляя, как многотонная скала с легкостью может придавить меня и оставить здесь навсегда.
Изрядно замерзнув и окончательно извалявшись в грязи, мы, чумазые и довольные, выползли на поверхность. Я был счастлив, потому что замкнутые пространства всегда вызывали у меня двойственные чувства. Я не ощущал фобии, но мне приятнее и спокойнее, когда я вижу небо над головой. После пещеры погода показалась комфортной, и мы оставили теплые вещи там же, где взяли. Это оказалось большой ошибкой. Закурив папиросы и бурно обсуждая подземные загадки матушки-природы, мы поспешили в село в надежде отыскать ночлег. Часы показывали 20.00, солнце перестало греть и через несколько минут вовсе потухло, а по коже пробежала первая зябкая дрожь. Я накинул кофту и натянул на голову красную шапку, связанную мамой: единственные теплые вещи, которые у меня были с собой в ту ночь. Мы дошли до села, и только кое-где в окнах горел тусклый свет, а остальные дома были погружены в кромешную темноту. У закрытого магазина мы встретили двух изрядно подпитых алтайцев, которые устремили на нас окосевшие взгляды. Один из них, высокого роста с небритым угловатым лицом, агрессивным тоном прохрипел:
– Че вы здесь делаете?
– Ищем где переночевать, – спокойно ответил Вова, пока мы с Димоном оценивали потенциальную опасность этой парочки. У одного на поясе висел нож в ножнах, и этот факт крайне настораживал.
– Деньги есть? – поддакнул второй персонаж, который был поменьше ростом, но бегающие глазки и хитрый прищур выдавали его криминальное прошлое.
– Нету, мы автостопом по Алтаю передвигаемся, – вмешался я в разговор, мысленно благодаря бога, что мы трезвые и нас трое.
– Дебилы конченые! Сколько вас тут шляется, и все без денег, но пиздеть мне не надо. Вижу, что деньги у вас есть. Сколько за ночевку готовы заплатить? – Мелкий алтаец с ножом на поясе сделал неуверенный шаг в нашу сторону.
Мы разом отпрянули назад и переглянулись. В этом взгляде со скоростью света пронеслось незамедлительное решение.
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе