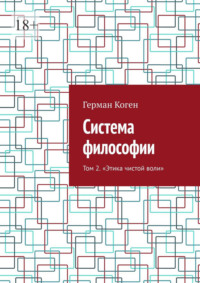Читать книгу: «Система философии. Том 2. Этика чистой воли», страница 4
Против философии и ее этики направлено утверждение культуры. Как будто важно лишь упражнение и воспитание нравственности, а не прежде всего познание. Это могло бы показаться безобидным заблуждением, хотя софисты утверждали, что добродетель есть дело дел и что она не нуждается в логических основаниях. Философия уже в силу этого имела бы обоснованный предметный интерес в том, чтобы сопротивляться умалению, которое тем самым навязывается системе философии. Но недостаток этой мысли можно ощутить еще более явно.
Ограничивая нравственную проблему культурой, мы питаем предрассудок, будто нравственность есть нечто само собой разумеющееся, о чем, собственно, не может быть сомнений, о чем лишь философия и, возможно, религия будят скепсис. И тут же на помощь приходят все неясные и двусмысленные лозунги этого призыва: что нравственное врождено; что человек добр, а именно индивид; что лишь множественность людей делает его плохим. Во всех этих человеколюбивых воззрениях, которые вновь и вновь в различных оттенках проносятся через все эпохи, повторяется одна и та же основная ошибка: человек мыслится в своей психологической природе. Поэтому сопротивляются философии или, как выражаются менее предосудительно, метафизике, потому что иначе пришлось бы начинать с логики, тогда как с психологией, как полагают, удобнее справляться.
Но, отправляясь так или иначе от психологии, мы попадаем в трудности, которые оттуда возникают для индивида и в равной мере для воли. И потому вряд ли поможет, если, с другой стороны, поднять социальное знамя, чтобы управлять односторонностью индивида и импульсивным империализмом его воли. При этом не может произойти примирения противоположностей; ибо там, где природа нравственного предполагается и считается само собой разумеющейся в природе человека, остается лишь мнимая корреляция индивида и множественности или особенности, которая, как мы знаем, не является ни правильной, ни исчерпывающей корреляцией. Тут с самого начала не ставится проблема найти в тотальности правильный член корреляции.
Если бы это понимание существовало, то никогда нельзя было бы подвергать сомнению, что этическая культура должна основываться гораздо скорее на культуре этики. Ибо исследовать значения этой тотальности в истории культуры и проверять их на нравственное содержание – это в высшей степени теоретическая задача, в определении и освещении которой, равно как и в ее разработке и осуществлении, ценность этики должна быть признана с уверенностью. Этическая культура уводит от этой проблемы тотальности, потому что самоочевидность нравственного зависит от индивида.
Но тем самым мы приходим к еще более серьезной ошибке в этой мысли. Уводя от тотальности в исходном пункте, она одновременно уводит от связи проблем, в которой находится нравственное и в которой только и должно рассматриваться. Государство представляет эту связь. Поэтому в принципе лишь в политических движениях нравственное может подвергаться практической культуре. Если оно отрывается от этой связи, то остается в сфере, против которой, собственно, и направлено сопротивление.
Этическая культура хочет противостоять религии, чтобы устранить исключительность, которой та подвержена. Она последовательна и в том, чтобы противодействовать односторонностям политики; однако при этом она выходит за пределы поля политической борьбы. Поэтому она неизбежно сбивается на боковую тропу религиозной секты. Всякий раз, когда нравственность становится проблемой вне политики, там, несмотря на всю враждебность к религиозной догматике, неизбежен тупик религиозного conventicula (собрания).
Но здесь совершается и роковая ошибка против религии, которая глубоко затрагивает отношение этики к религии. То, что религия как вера есть скорее знание и что это знание направлено на судьбу человека, мы уже рассмотрели. Этика же, напротив, направлена на понятие человека, поскольку оно может быть выведено из его воли и его действия. Различие это существенно; но удовлетворяет ли его содержание в полной мере?
Неужели судьба человека – лишь мифологический предварительный вопрос культуры, который тем же путем разрешает и вопрос о судьбе мира? Не следует ли скорее признать за религией характер знания, если она сделала эти вопросы, хотя они уже волновали миф, своими вопросами, даже если она не способна их разрешить? Безусловно, не только интерес угольщика, верующего в Бога, направлен на вопрос «откуда» и «куда» мира и человека. Сказать «non liquet» (не ясно) имеет оправданный смысл лишь после долгого исследования. Но это симптом большой внутренней близорукости – полагать, что можно отсечь интерес к этим вопросам и объявить их тщетными. Ведь гораздо скорее в этих примитивных вопросах уже проявляется чувство внутренней связи всего сущего. Мир не должен начинаться со мной и не должен мной заканчиваться. Потому и я сам не должен заканчиваться. Однако важно лишь, и это главный вопрос: кто и что я сам есть. И таким образом, вновь понятие индивида составляет проблему.
Следовательно, не может быть так, чтобы этика вовсе не занималась этими вопросами; ведь они содержатся в проблеме индивида. Этика лишь не должна непосредственно направляться к этому выражению проблемы; скорее, на своем пути она должна овладеть средствами, чтобы прийти туда, где миф и религия терпят крушение и остаются на мели.
Вопрос «откуда» этика ставит себе, отправляясь от логики. Мы должны будем это рассмотреть. А вопрос «куда» образует заключительный вопрос этики, без которого она не достигла бы своего завершения.
Таким образом, отношение между этикой и религией нельзя представлять себе так, будто этика отбрасывает те вопросы религии как детские вопросы человечества; скорее, следует понимать, что этика берет на себя те вопросы, решение которых должно оставаться недоступным религии, потому что ей не хватает методологических средств для их разработки, – и отнюдь не в смирении, что она должна при этом остановиться на «non liquet». Перенос вопросов «откуда» и «куда» она должна сделать своей задачей. Эти вопросы, безусловно, принадлежат к понятию человека.
Поэтому и этика займет иное положение по отношению к религии, чем то, которое представляется этической культуре и всякого рода настроениям времени, обходящим религию стороной. Основное заблуждение всех этих направлений состоит в том, что нравственное есть нечто естественное и, следовательно, само собой разумеющееся. Философия здесь уже излишня; религия же, напротив, абсолютное зло. Здесь мы хотим остановиться лишь на последнем пункте, хотя, конечно, придется затронуть и первый.
Нравственное должно быть естественным, то есть врожденным человеку, как все его влечения.
Ведь за пределы влечений здесь, пожалуй, выходить нельзя. В том лагере мышление и познание не считаются врожденными, а только чувствование и восприятие, из которых, как говорят, развиваются мышление и познание. Точно так же и нравственное чувство и воля должны постепенно развиваться из инстинктов и побуждений. Так понимают врожденное – как постепенное развитие из естественных движущих сил. И это развитие делает нравственное естественным результатом и итогом, благодаря чему оно представляется чем-то само собой разумеющимся. Поэтому этическое обоснование не только излишне, но и подозрительно, ибо оно, кажется, претендует на открытие некоего собственного, нового в качестве нравственного.
Действительно, такая претензия может показаться чем-то странным. Культура тысячелетиями работала над нравственным, и вся теоретическая культура участвовала в разработке этих представлений: как же тогда понять, что этика могла бы выполнить или даже стремиться к чему-то иному, кроме методического определения понятия нравственного, к которому все виды культуры вместе с познанием его окружения должны также поставлять признаки, объединяемые в этом понятии? Конечно, объединение требует также обработки этих признаков, но только культура может их выявить.
К культуре относится и религия. И как бы мало ей ни удавалось и ни могло удаться осуществить нравственность на земле, только пристрастное ослепление и агитационный боевой клич могут объявить её обманом жрецов и отрицать всю её ценность для нравственной культуры. Ошибка этого суждения опять-таки заключается лишь в мнении, что нравственное естественно, потому что самоочевидно, и что только религия испортила и сделала неузнаваемой эту природу нравственного. Эту ошибку можно также обозначить как ошибку исторического понимания. Религия принадлежит истории также в отношении истории нравственных идей. Эти идеи составляют преимущественно содержание истории.
В предыдущем мы старались прояснить отношение индивида к учреждениям и идеям и признали индивида как индивида идеи; ведь даже материальное культурное учреждение есть выражение идеи. Теперь, наоборот, следует рассмотреть отношение идеи к индивиду. Нравственные идеи не выросли сами по себе, а были выработаны и созданы индивидами. Кто были эти индивиды? Конечно, среди них были философы, поэты, судьи и государственные деятели; но, возможно, не только хронологически прежде всех них, но и по глубине энергии и мощи – это основатели религий, которые придумали нравственные идеи, боролись за их ценность и отдавали за них свои жизни.
В новое время был раскрыт типичный исторический характер, который израильские пророки занимают в жизни человечества. «Он сказал тебе, человек, что есть добро». Это изречение стало девизом пророчества. Бог есть тот, кто возвещает. В этом – граница. Не человеческий дух, не научный разум является источником и суверенным средством. Эту границу обозначает мифологическое понятие откровения.
Но откровение не останавливается на этом мифологическом исходном пункте. Граница разрушает сама себя; внешний источник незаметно перетекает во внутренний – в разум человеческий, поскольку понятие разума примиряет и согласует человека с Богом. Бог возвещает человеку. И что Он возвещает человеку? Что есть добро. Так пророчество делает добро содержанием религии. Ничто иное в дальнейшем должно быть предметом и интересом религии, кроме нравственного. Ничто иное, кроме человека; вернее, людей, которых единый Бог объединяет в единое человечество. Имя Бога отныне абсолютно не должно означать ничего иного, кроме гарантии этой мысли, этого убеждения в едином человечестве.
Миф интересуется сущностью и природой Бога, поэтому он нуждается и в множестве богов. Но если, согласно пророкам, есть только один Бог, то для Его природы и сущности нет внутреннего, собственного отношения, а только внешнее – к людям. Поэтому Он должен быть трансцендентным; Он образует основу для отношения, другим членом которого требуется человек; чтобы отношения между людьми, составляющие нравственность, могли осуществиться. Не человек требует Бога для своей субъективной поддержки; но для объективного обоснования нравственности требуется Бог. Поэтому Он – трансцендентная предпосылка. Его понятие и существование не означают ничего иного, кроме того, что вера, мысль и познание единства людей – не иллюзия. Бог возвестил это, Бог ручается за это; иначе Он не имеет никакого значения. Ничего не значит. Его свойства, в которые раскрывается Его сущность, – это не столько свойства Его природы, сколько направления, в которых это отношение к людям и в людях излучается.
Если подумать только о двух атрибутах Бога – любви и справедливости, – то должно стать ясно, какую глубокую долю имеет религия в нравственности; также в размышлении и разработке нравственных аспектов, которые, конечно, надо отличать от понятий и познаний. Поэтому невежество и необразованность – подозревать религию в её нравственных сокровищах и источниках и считать её излишней; чем же тогда её заменить, особенно если отвергаешь и философию как метафизику? Тогда остаётся лишь популярная банальность в её большой двусмысленности и двойственности.
Даже если бы этическая литература стала заменой религии, она всё равно не смогла бы её заменить. Это нам предстоит доказать позже в другом контексте. Тогда же нам придётся рассмотреть действительные ошибки религии. Однако эти ошибки, которые, возможно, ощущаются многими, не должны вводить в историческое заблуждение, будто религия не требовала познания нравственного.
Это заблуждение – не только ошибка исторического образования, оно также вредит disposition этики. Теперь мы знаем, что означает различие между теоретическим и этическим интересом. Мы уже поняли, что практический интерес поддерживается теоретическим. Формулировка Аристотеля весьма неудачна и запутанна. Этика никоим образом не имеет своей проблемой «что мы станем добрыми», что противостояло бы проблеме «что есть добро»; ибо через познание добра должно достигаться становление человечества добрым. Теоретический интерес служит практическому. Однако, как бы ни относилась эта связь преимущественно к двум видам интереса разума, она всё же не ограничивается и не закрепляется только ими.
Поэтому, если религия имеет немалые заслуги в познании нравственного, то, отвергая и исключая её для нравственной культуры, теряют её практическое сотрудничество. И потеря её сотрудничества – не единственное, о чём следует подумать. Другой, не менее серьёзный вред состоит в том, что сама религия вследствие этого отвержения сбивается на ложный путь. Не только мифологический интерес тогда снова становится в ней сверхсильным, но и в другие отрасли культуры она всё глубже вплетается, чем больше её оттесняют от направления на нравственное.
В этом переплетении со всеми различными ветвями культуры заключается подлинная трудность и опасность религии. И эта глубочайшая причина, которая ставит под вопрос её сущность, искажается при отказе от неё во имя нравственного. В этом состоит величайший вред этой ошибки исторического образования. Эта мысль требует более подробного рассмотрения. Прежде всего, это отношение к искусству, которое как бы врождено религии. Ведь она произрастает из мифа, который сам содержит в себе корень искусства. Вместе с искусством она создаёт свой культ. Правда, в нём она, кажется, остаётся скованной в пределах мифа. Поэтому пророки восстают против культа.
Но культ служит не только почитанию Бога, так что его можно было бы заменить человеколюбием, в котором единственно и состоит истинное служение Богу; но он также служит сосредоточению человека и его благоговению перед мыслями о нравственности. Это сосредоточение и это благоговение культ усиливает, овладевая средствами искусства, чтобы расплавить мысли в чувства, освободить их от понятийной скованности и уловить в новое царство чувств. Здесь, несомненно, они обретают новую силу; однако столь же несомненно, что при этом их ясность, простота и уверенность подвергаются опасности.
Ценность эстетических чувств заключается в собственной чистоте и самостоятельности творений гениев. Но искусство гения идёт своими собственными путями, как бы сильно оно ни казалось связанным с религией. Истинное искусство никогда не станет служить религии; скорее, оно овладевает религиозным материалом, как и мифическим вообще, чтобы сформировать его своими собственными средствами для своих собственных целей и своего собственного содержания. Искусство не становится зависимым от религии, но, напротив, религия – от искусства. Однако этим возрастает опасность для религии. Ибо она укрепляется в мифе, от которого, казалось бы, освобождается благодаря свободе поэзии. Но в искусстве она впадает в новое очарование, которое делает её скованной для нравственного.
Ведь великая сила искусства в том, что оно придаёт своим образам иллюзию действительности. Но поскольку религия, соединяясь с искусством в культе, приводит отношение между Богом и человеком к художественному изображению, она втягивает сверхчувственное в очарование эстетической чувственности и таким образом, словно добровольно, возвращается в первобытную эпоху мифа. Искусство сопровождает её духовно. Дистанция между религией и этикой, поскольку последняя основывается на соединении практического и теоретического интереса, становится от этого шире и напряжённее.
Между тем из внутренней связи религии и искусства возникает ещё одна опасность, которую религия представляет для этики. Искусство соответствует особому направлению чистого, творческого сознания. Поэтому эстетика образует особую часть философской системы. Эта особенность, в свою очередь, не может быть развита исключительно или методически через психологию. С психологической точки зрения можно было бы подумать, что искусство происходит из художественного влечения, которое проявляется уже и у животных. Поэтому наше немецкое слово кажется столь выразительным: Kunst (искусство) – это Können (умение); способность творить и создавать, проектировать и формировать образы, которые в видимости действительности соперничают с природой.
Но разве это направление умения свойственно исключительно искусству? Разве это стремление формировать и созидать не принимает совсем иные направления? Прежде всего можно сказать, что все эти направления творчества происходят из влечения вовне. Но это влечение вовне как раз и обозначает прежде всего волю и действие. Если, таким образом, влечение к созиданию и формированию по своим различным путям и направлениям коренится в этом влечении вовне, то оно коренится в воле. И если бы искусство можно было в последнем и глубочайшем основании охарактеризовать как влечение к формированию, то ему не присуща была бы особенность для философской системы: ведь тогда оно совпадало бы с волей и, следовательно, с этикой.
Какие же ещё направления принимает влечение к формированию и созиданию? При этом вопросе мы стоим перед подлинными силами и фактами нравственной культуры. И проблема этики зависит от характеристики этих сил и этих фактов. С психологической точки зрения кажется естественным, что влечение действовать вовне и созидать, придавая этому созиданию форму и длительность, породило все социальные и политические образования; все объединения людей произошли из этого влечения. Не избегают аналогии с искусством; все эти социальные и политические творения суть произведения искусства; государство мыслится как высшее художественное произведение.
Однако в этом сравнении не должно быть больше, чем аналогии. Как влечение вовне специализируется в влечение к созиданию в искусстве, так, с другой стороны, оно разветвляется в иной вид умения, а именно – в умение властвовать, которое направлено как на других, так и на самого себя. Слово, используемое для этого влечения во многих языках, указывает на корень, родственный корню умения. Власть выступает как влечение человеческого сознания. И социальные и политические образования действуют как силы культуры. В этих силах политической культуры нам следует распознать объекты этики: те факты культуры, которые, аналогично природе, должны составлять объекты познания; этические, подобно тому как факты природы составляют объекты теоретического познания.
Прежде чем продолжить эту мысль дальше, мы хотим теперь возобновить рассмотрение, касающееся религии. Теперь мы познакомились с новым политическим творением, с которым религия с самого начала стремится вступить в связь, что для обоих – и для религии, и для государства – влечёт за собой непрерывные столкновения и конфликты: тяжёлые, горькие борьбы, в которых то религия, то государство истекают кровью. Однако здесь следует рассмотреть лишь ту трудность, которая возникает для этики из этой связи религии с политикой.
С самого начала мы видели, что в этике речь идёт о понятии человека: что для этого понятия важно правильное соотношение с понятием индивида. Множественность как особенность не составляет соответствующего коррелята: скорее, только всеобщность. Теперь важно, какая из соперничающих сил – религия или государство – способна дать правильную всеобщность.
По поверхностной видимости и громким притязаниям религия хочет снять всякую особенность и объединить всех людей во всеобщность. Государство же, напротив, кажется, сопротивляется этой всеобщности, закрепляя множественность народов в партикулярности государств. Однако понятие государства ограничивает этот партикуляризм международным правом и союзом государств, так или иначе. Таким образом, исправляется кажущаяся неизбежной особенность в плане всеобщности, который разрабатывается методологией права. Представим себе соответственно союз религий. Эта мысль кажется принадлежащей сатирической утопии.
Но почему же такая связь религий, осуществляемая собственной методологией религии, является невозможной мыслью, на место которой могут прийти лишь терпимость и тому подобные успокоительные средства? Потому что религия как раз предъявляет притязание на знание: потому что она присваивает себе право учить знанию о человеке, о Боге и о мире как творении Бога. Однако не может быть двух наук, имеющих один и тот же круг проблем. Если таковые есть, они не могут соединиться в единство; они должны исключать друг друга. Следовательно, партикуляризм заложен в самом понятии религии.
И этот партикуляризм тем опаснее, что он подделывается под мнимый универсализм. Только если религия откажется от самой себя, то есть если она сделает нравственность единственной и исключительной своей проблемой, только тогда всеобщность людей может стать её истинной целью. Но тогда она, чтобы превратить своё учение в знание, должна снять себя в этике. Религия как религия скована исключительной партикулярностью.
На этом внутреннем различии между религией и государством основывается оскорбительность связи, которую религия вступает с государством. Прежде всего бросается в глаза зависимость, в которую она при этом должна впасть. Как искусство соединяется с политической властью, так и религия в культе присоединяется к этому союзу. Предки власти в поэзии становятся героями сказаний, эпоса и политической лирики. А в религии культа эти герои становятся сыновьями и дочерьми богов. Однако эта политизация божеств – меньший вред в этой связи.
Более глубокий, неизлечимый изъян заключается в подражании государству, в образовании самостоятельного объединения общины верующих по образцу государства: в церкви. Теократия представляет здесь меньшую опасность: ибо она отрицает государство, скорее поглощая его в себе. Это мысль, которая могла бы послужить этике, если бы религия без остатка растворилась в нравственности и, следовательно, в этике. Однако этого притязания церковь не могла и не хотела осуществить ни в язычестве, ни в христианстве. Речь идёт лишь о зависимости государства от церкви; только секты стремятся к растворению государства в церкви, а тем самым и к растворению самой церкви.
Таким образом, есть две основные формы для великого совместного бытия людей и народов: духовная и светская. Но какая из них нравственная? Это – вопрос совести всемирной истории. Быть может, лишь одна из них? Тогда другая становится заблуждением в нравственном смысле. И это заблуждение не смягчается тем, что естественное художественное влечение или же влечение к власти влечёт народы к светской безнравственности.
Или, может быть, обе они описывают не только нравственный путь, потому что каждая из них имеет еще и другое значение? Но что же это может быть за другое, если здесь следует отвлечься от искусства, кроме науки и нравственности? Религия и политика не могут предложить ни исправления, ни превосходства над наукой и нравственностью. Мы повторяем вопрос: какая из них является основной нравственной формой у язычников?
Этот вопрос требует более точного определения. Он не должен пониматься просто в историческом смысле, в связи с предшествующей мировой историей. Ибо в ней государство так же мало, как и церковь, придерживалось нравственного пути. И если церковь, по крайней мере, почти всегда претендовала на нравственность, то в политике и политической истории, особенно в кажущиеся могущественными эпохи, от нравственности отказывались. Тем не менее, мы не должны позволять таким явлениям определять нашу позицию, если хотим найти истинные объекты культуры, на которые должна ориентироваться этика. В этом методологическом смысле и ставится вопрос. И именно в этом направлении с самого начала было направлено недоверие к религии как к церкви.
Если мы рассмотрим позицию церкви еще более обобщенно с точки зрения всеобщности, то увидим, как политическое бытие оказывается под ее влиянием. Вплоть до этических кружков простирается это подозрение в отношении государственной жизни. И все же государство не может и не должно быть упразднено. Таким образом, недоверие становится бесплодным и лишь портит добрую совесть и радость политического бытия и деятельности. Но если государство незаменимо для жизни народов, то проблема может заключаться только в следующем: как нравственность, которая не может обойтись без него, реализуется через него и в нем.
Только через него она должна стать действительностью; не может быть двух путей осуществления нравственности. Этого мы должны твердо придерживаться. Не существует половинчатой нравственности, которая дополнялась бы другой половиной. Таким образом, из этих методологических рассуждений выясняется, что путь религии как церкви не может быть нравственным путем человечества. Ибо ее целью должна быть и оставаться партикулярность. Задача же этики заключается в том, чтобы соотнести индивида со всеобщностью и в этой связи осуществить цель человека.
Таким образом, наши сомнения относительно связи, устанавливаемой в культе между религией и государством, привели нас к более глубокому методологическому вопросу, а именно к вопросу о соотношении этики и учения о государстве. Отсюда же открывается перспектива и на другую науку, с которой учение о государстве находится в теснейшей методологической связи, а именно на правоведение.
Учение о государстве неизбежно является учением о государственном праве. Методология учения о государстве лежит в правоведении. Как бы ни были необходимы другие науки для формирования понятия государствоведения, несомненно, правоведение составляет его методологическую основу. Если принять во внимание политическую экономию и ее вспомогательные науки для учения о государстве, то незаметно возникает множественность государственных наук. Государствоведение, его понятие и методология определяются прежде всего правоведением.
Только что употребленное выражение «прежде всего» скрывает, или, вернее, обнаруживает неопределенность и неуверенность. Следовательно, государствоведение не зависит исключительно от правоведения. Но от какого же другого вида познания оно тогда зависит? Мы оставляем в стороне политическую экономию и ее приложения: мы относим их здесь к области права. Ибо в конечном счете и эти науки не могут освободиться от права. Ценности должны стать правами. Другой же вид познания, от которого зависит государствоведение, мы знаем, мы ищем его здесь – в этике.
Теперь важно переосмыслить это соотношение, если только этика является частью философской системы. В ее рамках она должна соотноситься с культурой, подобно тому как логика соотносится с природой, с наукой о природе. Во всех формах и науках, имеющих своим содержанием культуру, мы обнаружили, что этика в них предполагается и должна предполагаться. По своей проблематике это, конечно, не может быть иначе и в правоведении: однако здесь проявляется методологическое различие.
История оперирует понятиями человека в различных формах и проявлениях его бытия. Но во всех этих случаях, как мы видели, она берет человека в его психологическом смысле, который сама же абстрагирует и формирует. Его действия, как бы она ни стремилась представить их как действия индивидов, она должна одновременно рассматривать и в их обусловленности более общими влияниями. Таким образом, незаметно действия переплетаются и почти превращаются в страсти и чувства; точное же понятие, которым только и руководствуется действие, отступает и неизбежно отодвигается на задний план, если только не индивиды в одиночку и изолированно определяют ход истории.
Иначе обстоит дело в правоведении. В нем речь идет прежде всего о действиях. Поэтому не случайно, что слово для обозначения действия становится основным термином всей юридической техники: Actio – это и действие, и иск. Право, которое нельзя защитить в суде, не есть право. Поэтому и понятие действия в праве связано с понятием исковой защиты. Осуществление права происходит в процессе. Поэтому, с другой стороны, и понятие права связано с понятием действия. Действие как actio означает не притязание на право, но притязание на судебную защиту.
Таким образом, право помещается в действие как в свой источник и свое истинное содержание. Ибо форма права – не просто внешняя форма и не только значимый символ; она есть методологическое средство для нахождения, обнаружения, создания права. Это двойное значение имеет действие как actio: оно одновременно есть и действие, и судебное разбирательство.
Таким образом, мы постигаем внутренний смысл, присущий юридической технике, и благодаря этому учимся понимать методологическую ценность правоведения. Эта методологическая ценность относится не только к государственным наукам; скорее, она распространяется на науки о духе вообще, а значит, и на этику. И возникает вопрос о соотношении, которое следует установить между правоведением и этикой в отношении наук о духе. Этот вопрос имеет основополагающее значение для методологии самой этики.
Из логики мы знаем, как она связана с математикой. Правда, и у математики есть общие предпосылки, которые коренятся в самой логике. Но для построения и развития даже этих основ логика зависит от математики. Это мы сразу же поняли в суждении о происхождении. Таким образом, существует явное взаимодействие между логикой и математикой. Логические мотивы, присущие математике от рождения, разрастаются в ней так содержательно, что логика в определении своего собственного содержания становится зависимой от этого содержания. Ведь это остается духом ее духа, который там стал плотью и который она должна встроить в свою суть как новое духовное содержание.
Подобным же образом обстоит дело с соотношением этики и правоведения: этику можно рассматривать как логику наук о духе. Она имеет своими проблемами понятия индивида, всеобщности, а также воли и действия. Вся философия зависит от факта существования наук. Эта отсылка к факту наук представляется нам вечным в системе Канта.
Аналогом математики здесь выступает правоведение. Оно может быть названо математикой наук о духе и, в особенности для этики, ее математикой.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе