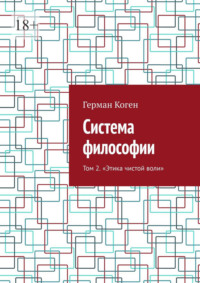Читать книгу: «Система философии. Том 2. Этика чистой воли», страница 3
Если природа содержит последний закон нравственности, то при этом подразумевается поправка: что природа представляет правильное, что она есть правильная природа. Но эта правильная природа может проявляться в человеке лишь в редких экземплярах. Отсюда возникает понятие идеала мудреца.
Мудрец представляет природу. Но он не остается лишь идеалом; он становится природой; он есть природа. Однако только в избранном индивиде эта природа входит в действительность. Остальная действительность не только отлична от нее, но и противоречит ей. Смысл и цель действительности идеала – быть образцом для отличной от него, подлинной действительности. Но почему же в этом мировоззрении мудрец все же именуется природой?
Здесь лежит глубокое противоречие, проходящее через всю систему стоицизма. Идеал и природа; оба должны сосуществовать; но оба ограничивают и нарушают друг друга. Этот стоицизм перешел в христианство. Бог стал индивидом. Мы здесь полностью отвлекаемся от проблемы монотеизма и учитываем лишь идеальное значение, которое Христос как индивид имеет для человечества. Его значение как Бога мы мыслим только и исключительно с точки зрения его значения как человека, то есть лишь для человеческого конституирования нравственности.
В основе это и есть единственно глубочайший корень взгляда на божественность Христа; правда, не у Павла; возможно, еще и не у Иоанна; но уже совершенно явно у греческих отцов. И так он продолжает действовать в истории философии. Христос – идеал человеческого рода у набожного Мальбранша и у Лейбница. С этой недогматической, идеалистической точки зрения мы здесь и рассматриваем индивида как Богочеловека.
Пусть не возражают, что с устранением индивида уничтожается понятие идеала; ибо это как раз и есть вопрос, который мы здесь рассматриваем: может ли идеал, может ли нравственность быть представлена в индивиде. Было бы ошибочно сказать, что именно поэтому Христос и есть Бог; ибо здесь речь идет не о Боге, а о человеке; не о святости, а о нравственности.
Пусть также не говорят, что история предполагает идеал индивида для своего развития и прогресса; ибо это тоже вопрос, решение которого не должно предвосхищаться: является ли индивид единственной или вообще подлинной движущей силой истории. И предубеждение становится в случае Христа лишь более запутанным и затруднительным, поскольку он одновременно и Бог, и человек, то есть не только человек, но при идеалистическом понимании должен означать идеал человека.
Это есть великая мысль свободной нравственной критики, благодаря которой Лессинг достиг освобождения от исторической религии: что он признал подражание Христу глубоким вредом христианской нравственности. И для научного интереса этики, по крайней мере, этот вред не исправляется тем, что он добавляет утешение: благо им, что он был таким хорошим человеком. Был ли этот фактор решающим для прогресса истории – это также не может быть здесь предрешено, скорее, остается вопрос: выполняется ли закон истории через понятие индивидуума.
Еще одна трудность должна быть выделена в понятии индивидуума Христа, через которую усиливается трудность стоического идеала. Идеал мудреца ведь не должен воплощаться только в одном индивидууме; Христос же, как Богочеловек, единственный. В нем индивидуум образует не только противоположность, но и противоречие особенности. Поэтому эта ересь, которая предугадывала вечное Евангелие и вечного Христа, аналогию Христа и Адама, осталась наиболее эзотерической. Этот историко-философский взгляд внутренне связан с социалистической движущей силой истории; она была осознана в своей кровной связи с политикой и искоренена.
Но в этом состоит тяжкий соблазн, который представляет Христос как индивидуум: что он должен мыслиться как единственный индивидуум. Уже для всей духовной культуры этот соблазн существует: ибо царство разума есть царство духов. Множество индивидуумов требуется для излияния Святого Духа. Как неисчерпаем индивидуум, так неисчерпаем и дух через единичный индивидуум. И как неисчерпаемо содержание нравственности, так мало может один индивидуум быть достаточным, чтобы его исполнить.
Стоическо-христианская мысль об идеальной силе индивидуума, как она в стоицизме, по крайней мере, укоренялась в натурализме, повлияла и господствовала над всем взглядом на самые собственные источники истории. И это влияние достаточно часто, как и в наше время, обнаруживалось в материализме поклонения силе. Ибо в истории героями становятся не бедные и обремененные, а могущественные. Исторический взгляд становится поэтому ведущим в политике.
Нравственная ценность исторической идеи отступает тогда перед вопросом, на какого индивидуума ее следует крестить. За индивидуумом стоит партия. Так индивидуум вступает в связь с особенностью. Но разве дело касается противоположности единичного и особенного в вопросе об основной силе истории? Не является ли скорее сам единичный лишь звеном в цепи особенности? Не заключается ли уже в самом понятии индивидуума, что он не расщепляется на множество таких, а скорее раскрывается в них? Истинную противоположность индивидууму для понятия истории составляет не особенность, а всеобщность.
Поэтому нельзя также сказать, что в последней инстанции народ составляет противоположность индивидууму. Ибо народ образует, в крайнем случае, для антропологии на физической основе единое понятие, следовательно, всеобщность. В политическом же смысле истории, напротив, только государство вступает в нравственную миссию, которая в роковой двусмысленности обычно приписывается народу. Народ распадается на сословия, для которых родовое дворянство все еще служит не отпугивающим примером. В своих социальных сословиях народ образует агрегат особенностей и, таким образом, сам остается особенностью. Только понятие государства противопоставляет понятие всеобщности как принудительного единства, которому должны быть подчинены все эти партикулярности.
Насколько само понятие народа, без отношения к понятию государства, образует особенность, делает очевидной борьба народных индивидуальностей друг против друга. Конечно, этот политический
Прежде всего мы должны обратить внимание на то, что это противопоставление должно быть ложным или, по крайней мере, недостаточно сформулированным, потому что его два члена не определены точно и, следовательно, вовсе не обязательно образуют противоречие. Какое значение имеют идеи, которые противопоставляются реальным отношениям власти? Тождественны ли идеи понятиям? Если это общие теоретические идеи, то как они могут противостоять реальным вещам, движущим историю? Ведь они скорее должны быть понятиями этих вещей. И как, с другой стороны, реальные вещи и отношения могут существовать отдельно от понятий, если эти понятия суть понятия их самих? Следовательно, в этом противопоставлении идея не может иметь лишь это чисто теоретическое значение понятия.
Таким образом, мы приходим к различию между теоретическими понятиями и нравственными идеями. Именно это противопоставление имеется в виду, когда говорят о противоречии между отношениями власти и идеями. Здесь спор о так называемом материалистическом понимании истории запутывается и усложняется. Ибо при этом различении решающую роль играет этическая установка; и было бы крайне ошибочно пытаться исключить этическое рассмотрение и оттеснить его в пользу чисто теоретического. Напротив, это различие вообще не должно сохраняться, поскольку в конечном счете речь идет именно об этических идеях.
Таким образом, вполне может случиться, что в пылу негодования против лицемерного использования нравственных идей указывают на безнравственные отношения власти, чтобы в них раскрыть движущую силу прежней истории. Тогда это было бы вовсе не материализмом, а скорее скрытым идеализмом, лежащим в основе такого взгляда на историю.
С другой стороны, конечно, ошибочно и должно вести к ложным толкованиям, если настаивать на этих лозунгах и пытаться скрыть, что в реальных отношениях власти воплощаются не только теоретические понятия (в этом сегодня уже никто не стал бы спорить), но и то, что именно этические идеи, как бы ни были они завуалированы и неразвиты, тем не менее проявляются в этих реальных отношениях и учреждениях.
Ведь совершенно неверно, будто принуждение природы, и особенно животной природы в человеке, создало те культурные учреждения, которые лишь по лицемерию можно назвать нравственной культурой, тогда как на самом деле их следовало бы именовать просто экономическими. Неверно рассматривать природу человека исключительно с точки зрения хищного зверя, чтобы, возможно, где-то еще оставить место для духовного и нравственного. Но откуда взять это место и куда его поместить?
При такой аффективной характеристике духовное и нравственное оказываются в опасности раствориться в воздушном видении, будучи оттеснены на задний план из-за насмешек и гнева. Как здесь ясно видно, это снова ошибка в определении отношения между волей и интеллектом.
Если бы воля была исключительно волей эгоизма и алчности, создающей учреждения культуры, то пришлось бы изобрести другой вид воли, от которого могла бы исходить нравственная культура. Ибо было бы в корне неверно приписывать ее интеллекту, так как тогда исчезло бы различие между сущим и должным, и фундаментальное различие, на котором основано чувство истины – различие между математическим естествознанием и всем, что может стать наукой в духовной и нравственной сфере, – было бы стерто и уничтожено.
Таким образом, мы можем, не впадая в недоразумения, подозрительность или клевету на социалистическое понимание истории, тем не менее методически снять то резкое противопоставление, которое оно проводит между реальными отношениями власти и нравственными идеями. Хотя при этом никоим образом нельзя утверждать, что предметное различие исчезает, поскольку идеи совпадают с вещами и растворяются в них. Это противоречило бы понятию должного, которое выражают нравственные идеи согласно своему девизу.
Но это ложный реализм и номинализм – с одной стороны, представлять вещи как порождения экономических влечений, а с другой – позволять нравственным задачам, словно пугалам или пост-историческим силам, лишь изредка вспыхивать в темноте прежней истории.
Этика, напротив, должна войти в логическое согласие с историей: она должна узнавать свои собственные идеи, как бы незрелы и уродливы они ни были, в образованиях экономического мира. Ибо вот альтернатива, от которой нельзя уклониться:
1. Либо вся культура в своих институтах есть дело дьявола, и воля сама по себе – лишь сила зла; но тогда исчезает и возможность того, что интеллект мог бы быть настолько гетерогенной душевной силой, что он, и только он, осуществлял бы силу добра.
2. Либо интеллект не направлен на зло, и связанная с ним воля стремится к добру; и тогда его творения, хотя и частично и несовершенно, все же являются воплощением нравственных идей, а не только теоретических.
Ибо вот основная мысль, которую мы не должны упускать: этика предполагает логику, но логика сама по себе не есть этика.
Таким же образом этика предполагает естествознание во всех его видах, но не сводится к нему. Следовательно, нравственные идеи, хотя и отличаются от теоретических понятий, это различие не должно уничтожать их родства.
Но именно это и произошло бы, если бы противопоставление между реальными вещами (в которых реализуются теоретические понятия) и нравственными идеями оказалось непреодолимым.
В этом основная ошибка всякого материалистического лозунга: с уничтожением всякого отношения и корреляции между нравственным и духовным уничтожается основа чистого, творческого сознания.
На самом деле нравственные идеи не исключительно нравственны, но и теоретичны – несмотря на все различие, которое должно проводиться между этими двумя видами. Ибо оба они – виды чистого сознания: одни – мышления, другие – воли.
Если же нравственные идеи не признаются причинами культуры и истории, то тем самым отрицается сознание и дух вообще. Только тогда материализм неизбежно проникает в это направление мысли. Тогда говорят некритически, что сама природа из своей почвы и климата вместе с людьми развила те образования, которые являются игрушками человеческого мира.
Только тогда это материалистическое и натуралистическое понимание истории раскрывается как упразднение истории. Ибо история как история людей и их деяний есть история духа и идей; в противном случае не было бы всемирной истории, а лишь естественная история.
Из всех этих рассуждений вытекает, что история, по своему понятию, не может быть предпосылкой этики; напротив, для своих основных понятий и проблем она предполагает этику; она не может осуществлять дальнейшее определение содержания этих понятий без руководства этики.
Как мы видели, улучшение понятия воли зависит от понятия нравственных идей и их отношения к теоретическим понятиям.
И только отсюда падает правильный свет на понятие индивида. Индивид – не единичность особенности; и он оставался бы таковым, даже если бы мыслился как единственный. Ибо сверхчеловек все равно должен быть возвращен в границы своего мильё. Об этом позаботится, несмотря на всякий культ героев, борьба мнений и идей.
И против такого исключительного положения сильного человека как раз и выступает теория мильё как мягкая реакция.
Теперь мы видим, однако, что противопоставление между индивидом и учреждениями – как материальными, так и идеальными – совершенно ложно и ошибочно.
Конечно, индивиды не растворяются в учреждениях и идеях; ибо идеи, как и сами учреждения, превосходят величайшую индивидуальность своей универсальностью. Тем не менее идеи, как они должны реализовываться в учреждениях, должны также воплощаться и порождаться в индивидах.
Итак, в конечном счете оказывается, что индивид есть не что иное, как индивид идеи.
Социология также не может быть поставлена в качестве предпосылки этики. Что касается понятия общества, то мы рассмотрим его подробнее далее. Здесь же следует обратить внимание лишь на методическую точку зрения, которой руководствуется наука об обществе.
Смысл выражения «общество» возник в противопоставлении твердым и кажущимся завершенным образованиям истории, таким как государство, и продолжает мыслиться в этом противопоставлении.
Динамическая точка зрения движения заменяет статику, которая заставляет государство и право казаться чем-то замкнутым, подобно природе.
Но этот плодотворный взгляд на движение приводит здесь к той же неясности, которая только что рассматривалась под другими названиями применительно к истории. Это касается понятия развития.
Поскольку точка зрения движения применяется к людям, движение должно быть специализировано в развитие. Ибо то, что движение означает для материальной точки, развитие должно осуществить для биологического индивида. И социальный индивид также рассматривается прежде всего как биологический. Подобно тому, как органическая история развития создает организм из клетки, социология стремится стать историей развития для так называемых ею социальных организмов. Из простейших низших элементов она пытается развить компактные, мощные, многосоставные образования культуры.
Мы сейчас не собираемся окончательно обсуждать методологическую ценность социологии; мы далеки от того, чтобы оспаривать её пользу. Однако её отношение к этике остается под вопросом, и мы считаем, что она не может служить предпосылкой для этики. Этому противоречит её основной методологический концепт – развитие.
История биологического развития предполагает точное знание готового организма. Эмбриология ориентируется не на общее, расплывчатое представление о нормальном организме, а на целостный организм и каждый его орган в их физиологической нормальности, которые составляют точный предмет исследования. Но существует ли аналог такого точного организма в социальном организме и его социальных органах? Не является ли это применение скорее метафорой, которая остаётся хромым сравнением?
Уже отношение органов к организму здесь нарушается. Отдельные социальные институты можно, пожалуй, рассматривать как социальные органы, но называть их социальными организмами уже сомнительно. Ведь организм – это единство органов. Но где это единство в отдельных социальных институтах? И где существует единство для них всех, чтобы можно было перенести понятие организма на это единство целого? Разве государство образует это единство? Конечно, это было бы его задачей, но выполняет ли он её? И не возникает ли, именно потому что он её не выполняет, корректирующая точка зрения общества, чтобы скептицизм и нигилизм анархизма не получили распространения?
Таким образом, обнаруживается противоречие в задаче социологии, которое может быть устранено правильным определением её отношения к этике; без этого её проблема остаётся неопределённой и неточной. Социология движима мыслью, что культурные образования не являются замкнутыми субстанциями абсолютной ценности, и использует точку зрения развития, чтобы вскрыть грубые зачатки, из которых они произрастают. В целом это может казаться допустимым: самые дикие формы и правила спаривания, если они всё же являются правилами парования, могут рассматриваться как элементарные формы моногамии, и то же можно предположить о простейших установлениях наследственного права и собственности. Однако дальше общих, а потому неточных аналогий здесь продвинуться не удастся. Всегда придётся учитывать идеи и идеальные чувства, которые, хотя и тонко, но тем точнее отличают высшие ступени от низших, так что элементарное образование неизбежно усложняется.
Видно, что противоречие усиливается до двойственного. Исходят из того, чтобы отвергнуть готовое образование как замкнутое. Но этому противоречит научное понятие развития, которое, напротив, предполагает нормальное оформление организма в качестве методологической предпосылки. Однако здесь как раз ставится под сомнение и оспаривается такая нормальность, причём в двойном смысле нормы: как функциональная правильность и как образец и пример. Скорее, хотят показать, что якобы завершённые социальные образования нашей высокомерной культуры всё ещё находятся в зачаточном состоянии. Если в этом заключается благотворный смысл данного направления исследований, то оно должно осознать, что ему не хватает нормы, которую научная методология развития предполагает точно и ясно.
Поскольку социология, несмотря на эти методологические изъяны, работая с общими историческими точками зрения, даёт ясные результаты и просветляющие идеи, возникает двойное противоречие: второе пытается исправить первое. А именно, мысли и чувства, которые, как, например, в случае брака и собственности, влияют на более высокие позднейшие формы, уже неизбежно учитываются в низших формах, и тем самым всё же предполагается некий вид нормального образования, который становится предметом развития.
В этом предвосхищении корректируется не только методология социологии как методология развития, но и меняется вся её направленность. Она больше не может быть направлена против индивидов, чтобы растворить их в массах, ибо она нуждается и использует этих индивидов в их нравственных мыслях и чувствах. Или разве могут быть мысли и чувства без индивидов? Она также не может быть направлена против идей, чтобы заменить их институтами, ибо в самих этих институтах она уже заранее предполагает идеи. Она не может поддерживать противопоставление, а тем более противоречие между ними. Неверно, что идеи – это испарённые институты; скорее, институты – это застывшие идеи.
Таким образом, выясняется, что противоречие, от которого страдает социология, может быть устранено корректировкой её отношения к этике. Она не является предпосылкой этики; напротив, этика молчаливо служит предпосылкой социологии и социального развития. Однако этика образует эту предпосылку не как часть философской системы, а как условную связь нравственных мыслей. Теперь важно заменить эту благонамеренную фикцию этикой в её систематическом виде – при условии логики и всё же как этику чистого воления, с собственным содержанием и собственной методологией: после, но рядом; рядом, но после логики чистого познания. Логика остаётся предпосылкой, но указывает на этику. И история любого рода, хотя и предполагает в первую очередь логику, но, помимо этой общей формальной основы, черпает содержание своих понятий не из психологии, а исключительно и фундаментально из этики.
Однако разбор понятия развития требует ещё одного дополнения с центральной философской стороны. Мы снова возвращаемся здесь к метафизике, но в её классических формах, проходящих через мировую историю философской мысли. Точка зрения развития господствует в ходе мысли Гегеля. Диалектическое движение есть не что иное, как развитие, и при этом готовое образование предполагается слишком явно. Уже Шеллинг руководствовался развитием; его потенции – не что иное, как ступени развития. Этот всепроникающий взгляд, возможно, немало способствовал тому, чтобы философия романтизма казалась трезвее и современнее-реалистичнее, чем она выглядела бы в своей абстрактной символике. Гегель, в частности, настолько глубоко вдохновил и обогатил исторические исследования во всех направлениях, что его диалектическое движение можно было счесть прообразом и предварительным наброском исторического исследования. Кроме того, диалектическое движение оживило точку зрения развития для всей системы философии. Остаётся лишь вопрос, стала ли при этом система философии живой во всех своих частях или же некоторые из них оказались убиты. Как обстоит дело с этикой?
Мы уже обращали внимание на то, что Гегель не написал отдельной этики, так же как и Сендлинг.
Ведь и Спиноза написал лишь одну этику, в которой содержится логика или метафизика.
Таким образом, и гегелевская логика должна была бы содержать этику.
Идея, именуемая понятием в его высшем совершенстве, развивается как Абсолют.
И этот Абсолют означает нравственность в её высших формах.
Известно, как школы в этом пункте расходились в крайние противоположности.
Религия – одна из таких форм Абсолюта; но гегельянцы занимали самые противоположные и враждебные позиции в отношении проблемы религии.
Государство прежде всего является такой формой Абсолюта; но гегельянцы разделились на политических реакционеров и революционеров.
Точка зрения развития при этом не проявила себя как однозначный руководящий принцип.
Можно было бы подумать, что развитие было слишком непосредственно перенесено на конкретные учреждения и отношения истории – на религию, право и историю вообще, равно как и, с другой стороны, на искусство.
Безусловно, в этом самом по себе впечатляющем, но неопосредованном применении диалектической методики кроется очевидный источник ошибок; однако подлинная причина ошибки этим ещё не названа.
Она заключается скорее в пантеистическом центре системы: в сосредоточении системы философии и всего бытия в природе.
При этом не может и не должно быть никакого должного, которое отличалось бы от сущего.
Идея не равна должному, тогда как понятие равно сущему; но идея есть лишь развитие понятия; следовательно, она остаётся центром бытия, которое одновременно включает в себя и должное.
Таким образом, то, что в ином случае является этикой, становится продуктом развития логики.
Deus sive Natura (Бог или Природа). На этом всё и остаётся.
И это есть и остаётся коренной ошибкой всякого пантеизма, а значит, и философии тождества.
Не говорится: Natura, neenon Deus (Природа, но не Бог), если вообще допустимо использовать это выражение для проблемы нравственного, ради противопоставления.
В этом состоит натурализм диалектического развития.
Идея выступает как природная сила; ведь она есть категория бытия.
И как природная сила она предстаёт и перед историческим интересом, который сам по себе одновременно является спекулятивным, поскольку развитие, диалектическое движение не просто объединяет оба интереса, но попросту отождествляет их.
Поэтому здесь на место этики встаёт вся догматическая метафизика, только в современном историческом облачении.
Разворачивается судьба человека и мира:
никто не спрашивает, выпадает ли человеку особая роль перед лицом судьбы, причём двойная – не только роль действующего (при этом вновь может возникнуть вопрос, не является ли он ведомым), но и роль знающего.
Однако этот знающий должен задаваться вопросами, выходящими за пределы его судьбы.
Не она интересует его в первую очередь и не она лежит в основе его интереса, а способ, смысл и право этой его роли как действующего.
Таким образом, противопоставление метафизике приводит нас к противопоставлению мифологии и мифологической религии.
Мифология движима страхом индивида – не столько перед его грехом, сколько перед его судьбой, в лучшем случае как следствием его греха.
Но всегда остаётся вопрос о существовании индивида – будет ли у него конец; и что с ним станет после этого конца, так чтобы конец на самом деле не был концом.
Немногим лучше обстоит дело на золотой оборотной стороне, когда блаженный конец бесконечен и индивид может вечно наслаждаться своим возвышенным существованием.
В этой мифологии индивида искусство сыграло значительную роль, и мифологическая первосила религии была им так же подпитываема, как и своеволие метафизики укреплялось той трансцендентностью.
Судьба стала, как в драматической поэзии, не просто тёмной силой, от которой нельзя убежать; но все вопросы о сущности человека были сведены к этому внешнему источнику.
В этом заключается безнравственность той идеи судьбы.
И сама драма противостоит мифу, делая героя, конечно, страдающим, но не в меньшей степени и действующим.
Он действует в своём страдании, в котором подчинён судьбе, но одновременно – как бы по собственной воле – против этой судьбы.
Конечно, и в религии пробуждается деятельная сила человека.
В христианстве грех человека не должен быть лишь первородным грехом, грехом Адама;
но способность к добру и злу предполагается для действий человека.
И если, конечно, для доброго направления условием ставится вера во Христа, то её, как мы уже видели, можно истолковать как веру в идеального человека.
Но связь с мифом остаётся и здесь: в конечном счёте, речь всегда идёт о судьбе индивида, о его вечном спасении или вечном проклятии.
Таким образом, препятствием для этики является не только понятие индивида, которое своей односторонностью и внутренней незрелостью повсюду мешает самостоятельности этики; но именно интерес к судьбе, который полностью противоречит этике, принадлежит мифу и остаётся религии лишь постольку, поскольку она застревает в мифологии.
Судьба – это пара хаосу.
Этим также проясняется противопоставление между теоретическим и практическим разумом.
То, что необходимо различать два вида интереса, не подлежит сомнению; это и означает различие между сущим и должным.
Один – это теоретический интерес к бытию природы; другой – практический интерес, интерес к действию и воле.
Но и последний тоже является интересом разума, а значит, и своего рода теоретическим интересом.
Здесь-то различие между волей и интеллектом всегда становится скользким.
Теперь же мы видим, в чём суть.
Конечно, проблема этики должна означать и знание, строгое, точное познание; иначе воля не могла бы быть чистой волей; как нам предстоит рассмотреть позже.
Но этот интерес практического разума направлен на познание этой чистой воли и исходящего от неё действия.
Посредством этой воли и этого действия понятие человека должно прийти к определению.
Именно о понятии человека, поскольку оно основано в его воле и действии, должна идти речь в этике; но не о судьбе индивида.
Последнее остаётся теоретическим вопросом, а именно вопросом мифологического любопытства, которое может соединяться с искусством и даже с религией; но сейчас этот вопрос вообще не стоит на обсуждении.
И его нельзя смешивать с проблемой этики.
У этики есть другие теоретические интересы, которые всегда должны быть направлены исключительно на волю и действие; но они неизбежно чахнут, когда связываются с судьбой индивида.
Отсюда также становится яснее противопоставление между верой и знанием, которое утверждается и обновляется в многообразных вариациях.
Не будем здесь рассматривать то основное настроение, которое относит веру к священным книгам, даже если оно основывает на них предписания для воли.
Вера в книгу – это скорее знание, независимо от того, какие учения извлекаются из этой книги.
И даже если на место Евангелия ставится сам Христос, то и он становится источником и гарантией знания, хотя его и называют переживанием.
Насколько вся эта антитеза связана с корреляцией к знанию, видно по повсюду встречающемуся ограничению, налагаемому и пытаемому на знание.
Знание якобы может иметь дело только с естественным человеком, как и с природой вообще; нравственное же ему недоступно и чуждо.
Так урезается интерес разума к нравственному, оспаривается теория этики.
Но если отвергается философия этики, чем тогда солить?
Таким образом, приходится к неизбежному выводу, что вера, противопоставляемая знанию, должна противоречить разуму и его теоретическим интересам и бросать им вызов.
Теперь вера должна быть высшего и совершенно иного рода и давать совершенно иную уверенность, чем та, что возможна для знания.
Конечно, это совершенно иной вид знания, который составляет интерес веры: это судьба индивида, вокруг которой всё в ней вращается.
Хотя при этом, как нельзя не признать, учитывается и то, что человек делает и совершает, но это не составляет главного, не говоря уже о том, чтобы быть собственно единственным предметом, о котором идёт речь.
Если бы это было так, то не стали бы удерживать и постоянно переиначивать противопоставление знанию, чтобы можно было приписать вере высший и иной вид уверенности.
Таким образом, остаётся, что вера должна образовывать и укреплять противопоставление этике как части философской системы.
И этому противоречию потворствует метафизика, которая, апеллируя к вере, говорит якобы философское слово; тем самым возможность этики уничтожается.
Существует еще одна опасность, которая во все времена угрожала этике в ее научном характере и которая вновь появилась в последнее время. Она заключается в тенденции так называемой этической культуры. Конечно, можно проявить симпатию к стремлению, которое в это время, взбудораженное смятением человеческих чувств и экономической алчностью, держит высоко нравственное знамя, чтобы собрать вокруг себя людей любого вероисповедания и любого происхождения и объединить их под собой. Но это непосредственное чувство уже для политики не является надежным ориентиром; философия этики не должна позволять ему сбивать себя с толку. Софистика тоже далеко не всегда была безнравственной – ни в своих учителях, ни в своих учениях. Однако Сократ все же нанес ей удар по голове, провозгласив миру тезис: добродетель есть знание. Но это знание одновременно означает познание. А это познание есть философия, систематическая философия.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе