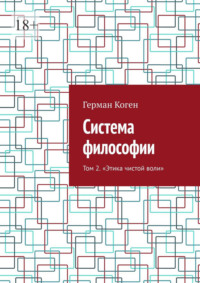Читать книгу: «Система философии. Том 2. Этика чистой воли», страница 2
Здесь можно лишь указать на то, что эта формулировка, конечно, не безупречна; что она, скорее, связана с разработкой терминологических основ, исправление которых мы ставим себе задачей, в то время как тенденцию и всемирно-исторический смысл этого различения мы чтим как вечную заслугу Канта.
В этом лозунге Кант сходится с Платоном.
Это путь идеализма, который освобождается от ведущих поводьев природы и от тирании опыта. Угасающая античность не имела дыхания для этого идеализма. Поэтому чрезвычайно поучительно, что стоики, как и Эпикур, всегда проповедуют только индивидуум и полагают, что распознают задачу этики в идеале мудреца. Они смутно мечтают о всеобщности; они возносятся, как и подобает греческому философу, к мысли о человечестве, ибо космополитическая идея лежит у него в крови. Но такие мысли – лишь украшения и, в лучшем случае, следствия; центром, несмотря ни на что, остается индивидуум. Они не могут поставить свою разновидность всеобщности в отношение, во взаимодействие с индивидуумом. Им не удается это даже с особенностью и ее видами; и они даже не стремятся к этому; тем более – с проникновением индивидуума всеобщностью, к которому они, правда, устремлены в исторической перспективе.
Эта стоическая черта, помещающая идеал в индивидуум, стала и осталась свойственной всем прошедшим эпохам, потому что возникшее в то же время христианство усвоило ее себе. И хотя последнее освободилось от родимого пятна натурализма, оно все же, объединяя божество с человеческим индивидуумом, должно было сохранить эту основную стоическую черту. Тем легче было новому миру, благодаря этому внутреннему родству христианства со стоицизмом, возрождаться через последний, в то время как он стремился освободиться от всевластия первого. Но поскольку в этой общей тенденции Возрождения возвращались к природе, то и для этого находили родственные лозунги в стоицизме. Так в Возрождении природа и индивидуум соединяются в стремлении к новой морали. Но могла ли таким образом возникнуть новая этика, этика, которая вступила бы в следы платоновского идеализма?
Спиноза дал главному труду своей философии, а тем самым и ей самой, имя этики. И ни одной этике, появившейся в новое время до Канта, вероятно, не удалось так всеобъемлюще наложить свою основную настроенность на целую эпоху, причем на самых мощных ее умов. И все же Спиноза тоже не смог преодолеть последствия связи, в которой он находится со стоицизмом. Не натурализм как таковой отталкивает в нем – хотя Гербарт не без оттенка антипатии стремился это подчеркнуть; ибо он часто кроется лишь в колебаниях терминологии. Но неприязнь, которую Кант проявляет к нему явственнее, чем к любому другому философу, проистекает из предметного, принципиального противоречия. Спиноза очаровывает читателя благородством и возвышенностью над предрассудками и господствующими мнениями, благодаря чему он принимает вид античной наготы, ставя человеческие страсти и даже поступки на один уровень с математическими фигурами. Такое умонастроение достойно всяческого уважения, когда речь идет о суждении в борьбе мнений и партий; однако оно противоречит возможности этики, какой ее создал Платон.
Если бы поступки людей следовало рассматривать так, как если бы они были линиями, плоскостями и телами, – как осмелился выразиться Спиноза, – то не только поступки людей, но и сами люди были бы математическими фигурами. В этих математических фигурах у Спинозы кроется основной порок его натурализма. Люди – не природные тела. Но они остаются ими и как математические фигуры. Кто же тогда конструирует эти геометрические фигуры на шахматной доске природы?
При рассмотрении этого вопроса становится ясно, что данная этика не имеет своего конечного основания ни в математических фигурах, ни в человеческих индивидах. Она основывается на метафизике, в учении о субстанции природы, где индивид лишь обретает свою более чем скромную позицию.
В рамках самой этики невозможно оправдать утверждение, будто люди являются математическими конструкциями. Поэтому Кант имел полное право направить свою критику против этого принципа. В случае с кругом я не могу спрашивать, чем он должен быть; я могу лишь констатировать, что он есть. В его бытии заключен его закон. Напротив, закон человека заключается не в его бытии, а в его долженствовании.
Пожалуй, нигде нельзя так ясно увидеть неумолимую внутреннюю последовательность основной идеи, как в зависимости философского романтизма от Спинозы. Шеллинг, как и Гегель, а также, несмотря на некоторые отклонения, Шлейермахер – все они остаются пленниками пантеизма. Однако опасность пантеизма изначально заключается не в угрозе идее Бога; это лишь следствие. Ошибка пантеистического основания и принципа относится к понятию человека и, следовательно, к проблеме этики. Если Бог и природа суть одно и то же, то, по крайней мере, человек и природа также суть одно. И таким образом, различие между бытием и долженствованием исчезает.
Неслучайно ни Шеллинг, ни Гегель не написали отдельного труда по этике под собственным именем и с особым названием, а Шлейермахер в принципиальном трактате выступает прежде всего против этого различения. Всякая философия тождества есть пантеизм, если только она не вводит различия в самом понятии мышления, которое ведет к разделению бытия и долженствования. Ошибка в системе тождества коренится, таким образом, в двойном изъяне понятия идентичности: во-первых, в ложном тождестве в мышлении и, как следствие, в таком же тождестве в бытии. Но здесь мы сталкиваемся с другой ошибкой психологии, в которой мы в целом находим основание этого типа этики, продолжающейся в философии тождества романтизма.
Психология исходит из индивида и возвращается к индивиду. Даже человеческие поступки она рассматривает с точки зрения индивида. Но если это верно в отношении действий, то тем более должно быть верно в отношении желаний и стремлений. Поэтому старым спорным вопросом остается соотношение между мышлением и волей.
В зарождающейся христианской философии этот вопрос осложняется основными проблемами христианской догматики; воля – если выразиться односторонне для данного рассмотрения – уже в силу зла, которое она должна творить, должна обрести особую силу и значение. Равно, конечно, и для любви к Богу и людям. Поэтому взгляд Сократа, что добродетель есть знание, должен был быть оттеснен. И все же уже мотив воли в религиозной любви не позволял полностью исключить интеллектуальный мотив в воле. Более того, он был необходим для свободы воли, насколько её признавали и в ней нуждались.
В праве в новейшее время этот вопрос также играет типичную роль. Лейбниц остается последовательным, выступая против преувеличения роли воли в праве. Но, с другой стороны, интеллектуальный момент также не должен становиться единственно решающим для понятия действия. Иначе теория уголовного права впадает в ошибку односторонней этики убеждений, для которой, при самом благоприятном рассмотрении, ценность и критерий убеждения заключаются в точности мышления.
Где же лежит методологическая путеводная нить для всех этих и многих подобных вопросов, связанных с ними? Находится ли она в психологии? Существует ли психология, которая могла бы, столкнувшись с такими трудностями, стоять на собственных ногах, чтобы решить эти вопросы с позиций своей самостоятельной основы? Не оказывается ли психология сама запутанной в эти вопросы – и не только в эти предметные, научные проблемы, но и в основные предположения о животной природе человека, тем самым внося эти научные вопросы в новую, усиленную сложность?
Ни в одном душевном процессе это нельзя наблюдать так ясно, как в случае воли: психология находится под влиянием предметных проблем и лишь через них приходит к своим проблемам и своему материалу. У Платона воли еще не существовало: его этика порождает её, но ещё не приводит к четкому психологическому выражению. Она сохраняет словесную формулировку; она называется хотением или волевым актом (βούλησις); душевная потенция ещё скрыта в акте. Но предварительная ступень воли – стремление – уже признана как мощная и своеобразная душевная сила. Она сохраняется и на высшей ступени, на которой формируется новая воля. И важно, чтобы момент стремления при всём очищении, которому подвергается воля, не был уничтожен и не померк.
Соотношение воли и мышления ни в коем случае не должно определяться так, чтобы либо воля подавляла интеллект, либо интеллект вытеснял волю. Оба должны сохраняться; ни один из этих мотивов не должен преобладать над другим в научном определении. Перед этим требованием становится очевидной несостоятельность психологии в этом фундаментальном вопросе. И эта слабость усугубляется общим обстоятельством: психология в своей лучшей, а именно физиологической, основе обусловлена натурализмом. Для неё воля неизбежно должна иметь и сохранять своё происхождение в инстинкте. Поэтому возникает поучительная альтернатива, которую представляет новейшая психология: согласно одной точке зрения, воля есть лишь инстинкт, ослабленный мышлением и потому замедленный в своей естественной уверенности; согласно другой теории, она начинается с трудного выбора, но имеет шанс в процессе развития притупиться до рефлекторной воли. Таким образом, психология оказывается беспомощной перед этим основным вопросом; как же можно тогда думать, что она могла бы направлять этику?
Лишь крайне обманчива, хотя и научно приукрашена, видимость того, будто психология сама берет на себя руководство в решении этой проблемы. Напротив, психология здесь ставит себя на службу метафизике. Эта разновидность метафизики достаточно известна: она на десятилетия поглотила почти весь интерес к философии вообще. Воля объявляется абсолютным, вещью в себе, тогда как интеллект способен постигать лишь явление. Эта метафизика Шопенгауэра столь резко разделяет два момента – интеллект и волю, – что распределяет их по двум мирам разной ценности: один отправляет в мир видимости, другой относит исключительно к миру истины.
Если бы эта метафизика претендовала на то, чтобы быть этикой, мы бы насторожились; тем более если она должна быть психологией. Ибо мы питаем неодолимое подозрение к истине, которая основывается на иных правах, нежели права познающего разума. Никакая воля, противопоставленная интеллекту, не может означать мир истины или даже гарантировать его, в то время как интеллект объявляется источником явления. Это следствие, подобное колдовскому «дважды два», – что в этой метафизике место философии занимает музыка. Если загадки мира отдаются на откуп воле, тогда искусство должно заменить науку; а среди искусств – то, которое сильнее всего пробуждает аффект.
То, к чему в конечном счете стремится этот вид метафизики, можно лишь косвенно понять по характерному явлению нашего времени, поскольку она отдает философию и науку в жертву мнимому искусству. Однако это не является ее глубинным побуждением. Истинное, вечное искусство обязано своим происхождением не ложным, а тем более искаженным направлениям разума. Для него нет противоречия между интеллектом и волей, между теоретическим и нравственным разумом. Метафизика, порождающая искусство, которое возвышается над наукой и философией и отождествляется с ними, имеет иную, собственную цель, рядом с которой искусство – лишь побочный путь и второстепенный вклад. Тенденция так называемой метафизики, раскрывающей волю за счет интеллекта, – это скептицизм или, как его сегодня принято называть, агностицизм. Интеллект способен постичь лишь явление; «вещь в себе», сущность вещей, остается для него скрытой. «Презирай только разум и науку, высшую силу человека».
Людей обманывают насчет дьявольской природы такого откровения, заставляя их тем сильнее жаждать другого источника, из которого, как им кажется, может изливаться истина. Этим источником называют волю. Таким образом, она находится внутри человека, а значит, и внутри разума. Следовательно, философия и наука остаются в силе и при обращении к этому источнику. Так кажется, и так должно казаться. Ибо ничто не следует избегать с большей осторожностью, чем видимость того, будто человеческий суверенитет, и особенно произвол открывающего спекулятивного гения, упраздняется. Тем не менее, блеф этой душевной силы человека – лишь видимость, которая даже в некотором смысле сама разоблачается; ведь воля принадлежит не только человеку, но всей живой и, казалось бы, мертвой природе. Таким образом, противопоставление человеку сохраняется в абсолютной воле, в «вещи в себе» воли.
Соблазнительная опасность, которую этот вид метафизики представляет во все времена, заключается в ее сговоре со всеми разновидностями религии, чья подлинная внутренняя жизнь состоит во враждебности к самостоятельному человеческому разуму. Эта религиозная метафизика и есть смысл и цель, трофей и оружие борьбы этой агностической метафизики. Но если бы человеческому разуму было отказано в познании понятия человека согласно его истине, то не могло бы быть и никакой этики. Следовательно, агностицизм противостоит самостоятельной этике – этике, которая строится на основе собственной методологии.
Если же мы видели, что теория о всеобъемлющей, абсолютной самостоятельности воли отнюдь не является психологией, а скорее метафизикой, и далее, что метафизика, как метафизика агностицизма, ведет к упразднению этики как учения с собственным обоснованием, то тем самым психология оказалась непригодной для руководства этикой. Исчезает даже видимость воли, ибо эта воля противостоит интеллекту.
В этом – глубокий, чистый смысл формулы о различии между «бытием» и «должным», хотя ее выражение не совсем ясно: проблема этики должна быть самостоятельной, отделенной от проблемы теоретического разума, и тем не менее признана проблемой разума.
Этика не должна уступать место религии ни в каком замаскированном виде. Ей нельзя также предоставлять первенство. Что есть этика, философия должна исследовать и определять своими методами, а значит, и впервые устанавливать. Что есть нравственность в религии, сама религия должна сначала узнать от этики. Теология должна стать этико-теологией.
Это было великим обновлением протестантизма, которое Кант совершил для нравственного мира. Невозможно даже представить, чтобы этот отличительный признак этики мог когда-либо вновь исчезнуть, если человечество продолжит двигаться в исторической тенденции протестантизма. Если же в наши дни против этого глубочайшего жизненного ядра кантовского духа осмеливается выступать злобное, язвительное сопротивление, то оно срослось с дурными регрессивными движениями нашего времени и этим связано, характеризуется и осуждается.
Различие между «бытием» и «должным» не означает, что мы должны познавать «бытие» от науки, а «должное» – от чего-то иного, чем наука; кратко говоря, оно означает самостоятельность этики наряду с логикой и, следовательно, наряду с естествознанием.
Но если этика утверждает свою самостоятельность даже по отношению к логике, то насколько больше это должно относиться к психологии. Таков расширенный смысл, который принимает это основополагающее различие. Психология ни в коем случае не может быть исходным пунктом. Не только потому, что она не способна направлять методологию этики, поскольку, как мы видели, сама зависит от этики в своем материале, но и потому, что она не открывает правильной перспективы для понятия человека, сужая моральный горизонт. Для нее человек – это чувственный, физиологический, то есть животный человек; таким он является для нее вначале, и в основе он всегда остается для нее таким. Девиз «бытие и должное» возвышается над этим началом, и не только над началом. Понятие человека не должно застревать в этом психологическом понятии человека, если этика вообще возможна.
В новейшее время старая схоластическая полемика о воле и интеллекте возобновилась в том смысле, что в волю была помещена определяющая ценность истины. Следовательно, самому интеллекту эта определяющая ценность, от которой, казалось бы, полностью зависит его собственная ценность, не присуща. Таким образом, интеллект не обладает самопознанием своей ценности как истины: лишь воля наделяет его этим удостоверением. Правда, ценность воли благодаря этому сильно возрастает; но не падает ли соответственно интеллект? Однако прежде всего мы должны здесь отметить, что все это направление характеристики, которое, казалось бы, должно быть сугубо внутренним делом психологии, целиком руководствуется общими систематическими мотивами. И здесь подтверждается, что психология абсолютно не может от них освободиться.
Против этого новейшего воззрения, которое в сущности возрождает идею amor intellectualis, мы можем с той же остротой противопоставить кантовскую формулу. «Бытие и должное» означает: не «должное и бытие». Как бы высоко ни ставился интерес к этике – а кантовское выражение о примате практического разума действительно выдвигает его на первое место, – тем не менее методологическая последовательность не должна из-за этого переворачиваться. Она, возможно, и образует вершину, но начало и основание – отнюдь не этика. Однако этика неизбежно стала бы основой, если бы ей, если бы воле было поручено формирование ценности истины.
И это воззрение благоприятствует метафизике, хотя лишь в той чрезмерности, которая составляет точку зрения Фихте. Он тоже совершает переворот в методе: в конечном счете он выводит истину из этики. Таким образом, этика свергает логику, тогда как методологическое право определять ценность истины должно оставаться за ней. Там же, где логика обходится, где отрицается ее первая инстанция, человек неизбежно попадает во власть метафизики: ее двусмысленностей, запутанностей, замешательств, ее лживости.
Если логика, служащая порукой истины, отвергается, то возникает подозрение, что тот смысл истины, который она способна гарантировать, также отвергается и презирается. Во всяком случае, он признается недостаточным. Это суждение не должно казаться предрассудком; напротив, оно основывается на различии между сущим и должным. Одно дело – признать логическую истину недостаточной для этического требования; другое – из-за этого отказаться от первой ради последнего и разорвать связь между ними. Именно этот поворот обозначает тенденцию метафизики, и именно против него мы здесь хотим обратить внимание.
Если та ценность истины, которую может предложить логика, отодвигается на задний план, подвергается сомнению и отвергается, то неизбежно возникает вопрос: может ли существовать другая истина, отличная от логической? Иная, чем та, что основана на принципах логики и принципиально, методологически от них не отклоняется?
Какой могла бы быть эта другая истина? Её содержанием всё равно должен оставаться человек. Какая проблема человека, какой интерес к нему может и должен пробудить новую проблему истины, после того как ценность истины, составляющая основу человеческого научного мышления, поставлена под сомнение? Не должно ли возникнуть подозрение, что на место научных понятий и познаний могут встать мифологические фантазии? И не должно ли прежде всего возникнуть опасение, что виды и степени достоверности, которым учит логика, на этом пути будут нивелированы и устранены?
Здесь мы должны указать на роковой недостаток в формуле «сущее и должное», как и в её применении. Мы уже говорили выше, что должное тоже должно означать некое бытие. Различие между сущим ни в коем случае не должно лишать должное ценности бытия, исключать должное из бытия. Лишь бытие природы, как природы естествознания, должно здесь означать сущее, и от этого бытия должно отличаться должное. Но какое же другое бытие тогда остаётся для него? Наш вопрос здесь направлен не на содержание этого бытия – к нему мы обратимся позже, – а на методологическую ценность этого бытия. Какую ценность истины ему можно приписать?
Здесь мы подходим к глубочайшей трудности в терминологии Канта, а именно – к отношению идеи к вещи в себе. Именно здесь начал Фихте, и здесь он мог прийти к иллюзии, что призван исправить Канта. Мы знаем из логики, что проблема вещи в себе не была полностью разрешена Кантом и не могла быть им разрешена, потому что он не довёл понятия реальности и действительности до полной ясности и определённости. Теперь мы должны увидеть, как этот основной недостаток связан с подобным же недостатком в определении идеи. Однако, рассматривая недостаток идеи, мы должны сначала уяснить себе её преимущество.
Ценность термина «идея» заключается в различении сущего и должного. Кант обладал проницательностью, которая раскрыла ему тайну платоновской идеи. В новых языках идея подверглась злоупотреблению; её смысл стал неопределённым, её преимущественная ценность утратилась. Идею ни в коем случае нельзя отождествлять с представлением. Но, конечно, её также не следует отождествлять с познанием. Эта ошибка была совершена Филоном; он как раз не различал сущее и должное. Поэтому его постигла судьба метафизики: с ним случилось то же, что с голубем, который не учитывал сопротивление воздуха и хотел лететь в безвоздушном пространстве. Поэтому Кант ограничивает применение идеи, за исключением её регулятивного использования в биологических эмпирических науках, практическим разумом, должным в этике.
Безусловно, любое недоверие к намерению Канта в отношении утверждения этой ценности идеи было бы совершенно необоснованным; против этого говорит уже один дифирамбический восхваление идеи и её выделение для обширной области этики, которую он хотел осветить с её помощью. Но даже при самом безоговорочном признании этой мощной действенности идеи мы всё же должны обратить внимание на её отношение к вещи в себе. Этот вопрос встаёт здесь более угрожающе и коварно, чем в случае закона природы и его прототипа – синтетического основоположения. Ибо в последнем случае легче понять, что вещь в себе перед ним – лишь порождение ненаучного, догматического суеверия. Закон природы у нас в руках; в нём мы констатируем природную силу, а в ней – бытие и действие природы, и всё же мы ещё спрашиваем о вещи в себе. Мы поднялись до критического понимания, что вещи природы суть объекты нашей науки, то есть, по старому платоновскому выражению, явления: и теперь мы доходим до кажущейся критической скептической мысли, что они – только явления. Так хлеб превращается в камень.
Как же возникло это выражение у Платона? У него оно означало вещь, поскольку она ещё не была удостоверена истинным бытием идеи. В пределах этих удостоверений Платон оставался во власти ошибок. Могло казаться, будто только и исключительно идея блага способна гарантировать истинную и полную ценность бытия: тогда как другие идеи, математические, всё ещё набрасывали на вещи покров явления. Но теперь это недоверие к явлению устранено; теперь явление обрело своё истинное бытие в законе природы; всякий намёк на видимость удалён от явления: как же можно ещё сомневаться, что вещь в себе полностью растворяется в ценности методологической формулы, в которой, собственно, и определяется её ценность как регулятивной и эвристической максимы?
Таким образом, в теоретическом применении разума не может оставаться сомнения, что Кант ясно намеревался лишить этот термин старой метафизики, которым та нарушала мир разума и грубо посягала на его права, всякого значения; хотя он, конечно, не завершил свои рассуждения спокойным, ясным утверждением, что вещь в себе в теоретическом применении разума не означает ничего иного, чем то, что выполняет регулятивная идея.
Иначе обстоит дело с этикой. Если здесь отношение идеи к вещи в себе не до конца прояснено, то ценность бытия должного оказывается под вопросом. Тогда возникает подозрение, будто идея – всего лишь идея, за которой и против которой в вещи в себе открывается (или, скорее, скрывается) подлинный и прочный запас бытия. Это подозрение затем распространяется и на формулу, будто бы она в этом смысле отделяет должное от бытия; будто должное, если и не означает катехизис заповедей, то всё же обозначает область фантазий благочестивых надежд.
Это – великая опасность, которая всегда угрожает человеческой нравственности; наибольшая опасность, которую должна преодолеть научная этика. Ибо эту точку зрения, уже саму по себе небезупречную, суеверие и народная неприязнь к разуму, прикрываемая и поддерживаемая так называемой метафизикой, расширяют до огромной бреши, которую, якобы, оставляет незаполненной всё частичное человеческое знание. И эту брешь нужно заполнить – заполнить истинами, которые не должны быть научными истинами. Поэтому здесь необходимо тщательно устранить малейший след пробела, всякую лазейку, чтобы силы тьмы не могли опорочить честность и правдивость человеческого стремления к истине.
Следовательно, идея должна полностью раствориться в должном. За ней не должно оставаться никакой вещи в себе на заднем плане. Идея есть должное. Идеи не означают ничего иного, как предписания практического применения разума, собранные в должном. В этом должном заключается ценность бытия этики. Это должное описывает и определяет волю, которая составляет содержание этики. Должное означает не что иное, как закономерную волю; волю согласно предписаниям, законам этики, которые делают этику этикой; которые, следовательно, обусловливают и делают возможной саму волю. Ибо только в должном состоит воля. Без должного не было бы воли, а лишь желание. Но благодаря должному воля осуществляет и завоёвывает подлинное бытие.
Обеспечить такое истинное бытие для содержания нравственной воли будет одной из главных задач данной этики. На это она направит свое самое насущное внимание, и в этом она будет искать обоснования самостоятельности и своеобразия этики. Не должно оставаться сомнений в том, что этика никогда не имеет дела с трансцендентной химерой, поскольку реальность – это исключительно реальность чувственной природы. Необходимо достичь полной ясности и точной уверенности в онтологической ценности, присущей творениям нравственного.
Поэтому этика должна быть полностью отделена от психологии, поскольку последняя претендует на роль основания этики. Ведь такое руководство неизбежно служит либо натурализму, либо супранатурализму, нередко – и не случайно – обоим одновременно. Однако ни тот, ни другой не способны постичь собственную ценность нравственного бытия. Поэтому они часто объединяются, чтобы восполнить взаимные недостатки. Натуралистический человек перед лицом нравственных побуждений выглядит как недочеловек. И тогда не гнушаются супранатуралистически вознести его до своего рода сверхчеловека.
Мифология с ее трансцендентностью и тенями человеческих существ не вымерла – в религии она продолжает жить. И чтобы этот вид якобы нравственного бытия был защищен от разоблачения, чтобы он представлял собой мифологические иллюзорные существа, за это как раз и должна поручиться метафизика, которая вообще отрицает за интеллектом ценность истины, чтобы, казалось бы, безобидно передать ее воле. Глубочайшее недоверие заслуживает взгляд на волю, который возвеличивает ее за счет интеллекта. Методическое подозрение по отношению к психологии как основе этики оправдывается вплоть до общедоступной ясности на примере этой вновь ставшей модной ошибки.
Наша этика определяет себя как этика чистого волеизъявления. Этика имеет дело не просто с волей как таковой: такой воли не существует. Только этика может решить, есть ли воля или ее нет. И только от нее психология может узнать, допустима и возможна ли воля вообще. Но поскольку этика признает волей только чистую волю, то и она в этом будет зависеть от логики. Ведь только логика определяет понятие чистоты. Чистота – это платоническое выражение, обозначающее методологическую основу познания.
Если этика есть учение о чистой воле, то она, как учение и связанное с чистотой, должна быть своего рода познанием. Определение этого рода зависит от применения понятия чистоты по отношению к воле. Таким образом, этике отводится второе место в системе философии: второе после первого, которое принадлежит логике, – логике, а не психологии.
Видимость того, что этика должна основываться на психологии, может, однако, получить новое подтверждение в проблеме чистого волеизъявления. И эту видимость мы считаем необходимым рассмотреть, прежде чем заимствовать из логики понятие чистоты, чтобы применить его к проблеме воли. Чистому противопоставляется нечистое, смешанное. Всякая эмпирия содержит смешения элементов, которые логика, а вслед за ней и этика, должны разделять, чтобы отличить основу как чистое от побочных определений.
Неизбежно, следовательно, что должен быть дан и найден некоторый опыт, на котором это исследование чистоты может быть проведено. Таким опытом, очевидно, снова должно быть человеческое душевное бытие, которое, однако, неизбежно составляет область психологии. Нам нет нужды повторять предыдущие рассуждения, но мы можем перенести их на другую сцену этой душевной жизни, с которой психологическое предубеждение представляет новую опасность для этики.
Этой новой сценой является история. Действительно ли в истории речь идет о новой форме психологического предубеждения? Мы уже рассмотрели психологическое предубеждение в двух мощных основных формах: в корреляции индивида, особенности и всеобщности – и, наконец, в проблеме воли. В истории оба эти момента ставятся под вопрос. Во всех спорах о ценности истории как науки первый и второй моменты составляют подлинное ядро дискуссии, ибо оба они здесь выступают вместе.
В конечном счете, во всех вопросах о ценности науки речь идет о понятии закона. Только там, где есть законы, есть и силы, ибо силы – не что иное, как объективированные законы. В чем заключается движущая сила истории? Пусть не говорят, в каком законе, ибо в силе закон уже предполагается. Вопрос относится непосредственно к душевной силе, к сознанию и его виду, если исключены как сила природы, так и мифологическая, которая действовала бы лишь извне. Следовательно, речь идет только о человеке и о тех потенциях и направлениях в его сознании.
Обратим сначала внимание на спор точек зрения в понятиях индивида и особенности. Культ героев повлиял и способствовал не только религии, но и политике. Согласно одному новому взгляду, политика должна основываться главным образом на нем и через него. Герой, выйдя за пределы мифологии, остался в индивиде как движущая сила истории. Вся история – лишь дух самих господ, в котором времена отражаются. История – лишь отражение, рефлекс; источник света лежит исключительно в индивиде. Это основная мысль стоицизма; мысль, которая сама есть лишь следствие его натурализма.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе