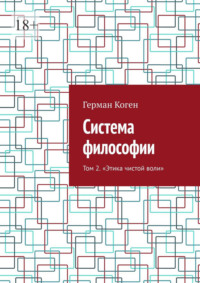Читать книгу: «Система философии. Том 2. Этика чистой воли», страница 9
Однако это значение самодвижения для самосознания не должно нас сейчас интересовать; сейчас все внимание должно быть сосредоточено на самодвижении в значении чистого источника движения, и притом также и для аппетита. Подобно тому как физическое движение в своей математической основе не знает иного содержания, кроме того, которое оно порождает в бесконечно малой реальности, в то время как для прочего содержания движущейся материи оно отсылает к субстанции, – так и для движения стремления не только не дано никакого содержания, но и не положено никакого иного. Для него речь идет вовсе не о каком-либо ином содержании, кроме самого стремления.
Эта исключительность в отношении не только всякого внешнего, но и всякого иного содержания, кроме того, которое составляет само стремление, должна обозначаться как тенденция. Благодаря этому стремление становится независимым и суверенным в себе самом. И этот суверенитет есть прежде всего признак чистоты. Тем самым аффект полностью освобождается от всякого подозрения в чувственности, внешности, патологичности. Нормальность сознания обеспечивается этой внутренностью тенденции. Она есть первое условие чистоты.
Если мы, следуя чистоте, исключаем в тенденции всякое данное содержание и признаем порождение ею самой себя как ее единственное содержание, то тем самым мы приходим к необходимому различию между тенденцией как источником воли и внешним движением. Физическое движение направлено вовне; этим оно характеризуется. Внешнее, правда, порождается пространством, и движение как таковое должно разрешать пространство. Но оно вновь обретает свою пространственную реализацию в субстанции, которая, в свою очередь, овладевает пространством и пользуется им. Таким образом, движение может сохранять отношение к внешнему, хотя изначально оно его разрешает и приводит в поток. Его объект и его проблема – не что иное, как внешний мир, физическая природа. И метод чистоты должен лишь обосновывать реальность этой природы.
Иначе обстоит дело с волей. Правда, и она будет направлена на внешний нравственный мир – право и государство; но речь идет именно о точном различении нравственной внешности от физической. На этом различении основывается различие между логикой и этикой. Поэтому тенденция должна закреплять ограничение внутренним. И так в понятии, в проблеме содержания возникает различие между внешним и внутренним.
Тенденция тоже есть движение; но это движение направлено не вовне, а всегда только внутрь; и там, где оно, казалось бы, устремляется к внешнему, оно схватывает его лишь в содержании, а не просто в рамках этого внутреннего.
В этом значении тенденции кроется кажущееся противоречие. Она знает только себя и ищет только себя; но, согласно своему понятию, она постоянно стремится выйти за собственные пределы. Она не стремится к другим вещам, ибо изначально стремление не было направлено на вещь. Если оно продолжается, то это продолжение должно относиться только к самой тенденции. Однако продолжения требует само понятие тенденции. Она противится остановке. Таким образом, она, кажется, столь же постоянно повторяется и продолжается как саморазрешение, сколь и самопорождение.
Это кажется противоречием в понятии тенденции как источника воли. Видимость этого проистекает из множества ошибок.
Наиболее общая причина ошибки этого возражения заключается в некритическом взгляде на сознание и самосознание, разделяемом даже психологией. Если тенденция должна стремиться за собственные пределы, не направляясь на внешнюю вещь, то это понимается так, будто она должна выходить за пределы сознания. Однако сознания как такового еще вовсе нет; оно только должно быть конституировано. Даже для психологии проблема должна быть поставлена таким образом, не говоря уже об этике, которая, исходя из своих методологических предпосылок, должна формировать понятие воли. Поэтому методологической ошибкой является выведение воли из самосознания.
Сознание нельзя принимать как нечто наличное, тем более самосознание. Как сознание со своей стороны, так и особенно самосознание должны быть порождены волей. Поэтому нельзя также говорить, что тенденция направлена не на внешнюю вещь, а только на сознание, тем более на самосознание; нужно сказать, что тенденция направлена только на себя и за собственные пределы. Лишь внутреннее «я» может быть допустимо как безупречный коррелят в силу противоположности внешнему.
Таким образом, устранено возражение, что тенденция, поскольку она стремится за собственные пределы, не может формировать внутреннее, ибо разрушает его. В этом стремлении тенденции за свои пределы нет никакого разрушения. Такое мнение может возникнуть лишь в том случае, если сознание принимается за нечто данное, а не как проблема, которую предстоит разработать. Тенденция, выходящая за собственные пределы, не разрушает себя, а, так сказать, продолжается за свои пределы.
Понятие тенденции определяется признаком множественности. Оно исключает изолированность. Такая изолированность не была бы чистотой; она лишь казалась бы ею. Но здесь мы сталкиваемся с новой трудностью. Теперь тенденция означает для нас множественность тенденций. Мы не говорим о соединении тенденций, ибо из логики мы узнали, что выражение «соединение» вводит в заблуждение и иллюзорно. На чем основывается соединение, которое подразумевается? Оно может быть осуществлено только через понятие. Поэтому лучше сразу назвать понятие, а именно понятие множественности.
Но если тенденция понимается как множественность тенденций, то возникает трудность: как при этом различать источник воли и направление воли вообще от направления мышления и представления вообще? Множественность означает суждение чистого мышления. Поэтому если тенденция означает множественность тенденций, то как тогда отличается направление воли от направленности суждения мышления?
Ответ на этот важнейший вопрос можно было бы искать в различении самой тенденции от источника и реальности в мышлении. Но этот путь был бы окольным. Ибо если в мышлении должна возникнуть множественность, то требуется время. А время есть антиципация; оно непосредственно устремлено в будущее. Поэтому тенденция сама по себе не может иметь более ярко выраженного характера предвосхищения, чем тот, который присущ времени и, следовательно, мышлению. Но, кажется, множественность основывается на антиципации. Поэтому если тенденция означает множественность тенденций, то антиципация сама по себе может формировать эту множественность только как мышление, а не как волю. Следовательно, мы должны оглянуться на характеристику мышления, чтобы отличить новое направление, которое множественность тенденций принимает для воли, от направления мышления.
Мы знаем, что «соединение» – это вводящее в заблуждение выражение; оно не только не решает проблему, которую якобы решает, но и дает проблеме неточное выражение. Если соединение должно стать объединением, как оно и должно, то разделение должно уравновешивать единение. Поэтому именно разделение является средством так называемого соединения, которое составляет мышление. Чем точнее осуществляется разделение, тем глубже оно становится. Но глубина уже связывает разделение с единением. Всегда и остается разделение, в котором заключается работа и успех мышления.
Воля должна действовать иначе. Нельзя позволять вводить себя в заблуждение возникающей мыслью, что и воля требует точного разделения элементов и мотивов; ибо это требование и степень его удовлетворения зависят от связи, которая должна существовать между желанием и мышлением, если желание должно развиться в волю, или, точнее, если из желания должно возникнуть хотение. Однако на данном этапе мы должны абстрагироваться от этого условия, чтобы точно распознать своеобразие тенденции как источника аффекта. Но если мы должны абстрагироваться от осложнения с мышлением, то мы можем связать различие между волей и мышлением с их отношением к разделению. Мышление основывается на разделении; тенденция противится разделению.
Как же тогда может возникнуть соединение или, если мы не можем говорить о нем, множественность тенденций? Не хотелось бы отвечать, что эта множественность возникает сама по себе; ибо это не было бы ответом на вопрос. Согласно такому ответу, множественность была бы лишь продуктом мышления, тогда как вопрос требует ее как продукт воли и, следовательно, как самопорождение тенденции. Тенденция, казалось бы, может возникать только как единство в себе самой. Далее, кажется, нельзя доводить требование чистоты для тенденции.
Здесь кроется корень ошибки. Считают, что требование чистоты не нужно распространять на множественность тенденций, ибо множественность можно заимствовать у мышления. Но не замечают, что эта множественность мышления имеет иной смысл, что она направлена прежде всего на разделение. Поэтому мы должны со всей строгостью повторить вопрос: как множественность тенденций может заключаться в понятии тенденции? Ведь это и есть более точный смысл вопроса о том, как может возникнуть множественность тенденций.
Формулировка вопроса уже должна содержать ответ. В понятии тенденции как источника чистой воли заложено значение множественности тенденций. В мышлении допустима абстракция изолированного элемента. Конечно, не всегда можно ограничиться этой изоляцией; но сейчас речь не об этом. Для воли же абстракция изолированного элемента бессмысленна; поэтому она недопустима для понятия тенденции. Тенденция абсолютно означает тенденции.
Так выявляется различие между волей и мышлением. Изолированный процесс был бы движением, а именно физическим, то есть мышлением, но не элементом вожделения. Даже для рефлекторного движения требовалось бы больше. Таким образом, в этом значении множественности тенденции мы почти с психологической ясностью распознаем, как тенденция подходит в качестве основы воли, поскольку последняя должна определяться как исходящая из вожделения. И все же различие с мышлением остается ясным и определенным, хотя антиципация действенна и там, и тут.
Неустанное продолжение движения психологически составляет своеобразие вожделения. Жажда скачет перед нами. Будь то преследование (δίωξις) или бегство (φυγή), как положительное или отрицательное обозначение вожделения в греческой образной речи, – всегда это неустанный бег, кажущееся бесконечным стремительное движение, что отличает вожделение. Не избыток, а идеализированное понятие вожделения рисует поэт в словах, что наслаждение само томится по вожделению. Возможно, в этом томлении есть мнимое чрезмерное; ибо в самом вожделении наслаждение тоже не совсем угасло. Это непрерывная смена; и важна именно смена. Так судит не только отталкивающий моралист. Так же должна быть построена и характеристика тенденции для этики и, следовательно, для чистой воли.
Откуда же этот неустанный ход? Так нельзя спрашивать. Ответ мог бы быть только один: он исходит из определения. Таков изначальный смысл тенденции – выходить за собственные пределы, то есть, как теперь ясно, за абстракцию своего изолированного начала, продвигаться к множественности. Это не чужеродный элемент мышления производит в ней эту множественность; это ее собственный порыв и понятие этого порыва вызывают в ней этот прогресс. Продвижение есть прогресс; оно раскрывает значение, изначально присущее тенденции. Поэтому лишь саморазвертывание тенденции осуществляется в неустанном ходе, который мы знаем как вожделение.
И это саморазвертывание тенденции находится в согласии с предвосхищением, которое является основным условием всякой чистоты и которое для вожделения имеет особую значимость.
Бурное движение от тенденции к тенденции кажется беспрерывным продолжением предвосхищения, и лучше всего оно объясняется психологически именно так. Новая тенденция, к которой устремляется стремление, предвосхищается; она не отстает от представления, а опережает его; представлению же остается лишь по мере сил ухватить предвосхищенный мотив. Прежде чем звук оформится и мысль обретет четкие очертания, тенденция уже совершает свой прыжок – словно в пустоту. Но эта пустота – лишь движение вперед; и всякое стремление есть такое продвижение и устремление в область, которую еще предстоит открыть и создать.
Здесь можно отметить непрерывность и то, как она здесь подтверждается. В мышлении непрерывность обусловлена непрерывным воссозданием реальности. Это требование кажется выполнимым в мышлении, поскольку оно основано на расчленении. Расчленение требует и делает возможным новое созидание. Однако здесь речь идет не столько о расчленении, сколько о связи, которая ни в коем случае не должна прерываться – разве что в абстракции отдельного случая, но не в определении понятия. Здесь непрерывность кажется вовсе неуместной – не только неприменимой, но и совершенно лишней. Однако это возражение противоречило бы проблеме чистой воли. Непрерывность должна быть требована, хотя бы по аналогии; вопрос лишь в том, осуществима ли она. И на этот вопрос отвечает тенденция. Аналог, который она образует по отношению к реальности, заключается в ее предрасположенности к непрерывности. Как бы ни требовался переход от тенденции к тенденции, этот переход мыслим лишь как новое созидание в соответствии с непрерывностью. Иначе это был бы не прогресс в развитии понятия, а отпадение от него.
Но мы можем уже психологически уяснить себе ценность этого применения непрерывности и тем самым отвести возражение, будто речь идет лишь о схематическом проведении принципа. И эта психологическая иллюстрация найдет свое подтверждение, а значит, и основание в важном различении этики. Если вожделение не основано на новом созидании, если оно есть лишь продолжение того же мотива, то его называют не волей, а страстью. Понятие страсти никак не может основываться на давности – сколько бы она ни укоренялась, это не имеет значения. Но различие состоит в том, продолжает ли вожделение себя механически или созидается заново. И именно благодаря этому непрерывному новому созиданию, характерному для тенденции, в ней же аффект отличается от влечения; ведь основой аффекта при всех его возможных усложнениях должна служить тенденция.
Прежде чем мы обратимся к этим дальнейшим усложнениям, мы можем отдать себе отчет в направлении, которому следуем в этом обосновании чистой воли. Мы стремимся воздать должное аффекту; мы ставим его на место того, что подобно рвению (ζῆλος). И все ближайшее родовое понятие для этого вида аффекта для нас – движение. Но это лишь одно направление нашей характеристики. Оно, казалось бы, идет физиологическим путем; движение и аффект полагаются как основы воли. Однако воля должна стать чистой волей. Соответственно, ее обоснование, с другой стороны, должно идти логическим путем.
И логика открыла этот путь. Движение является категорией не только для механики; оно уже действенно для суждения большинства во времени. Поэтому метод чистоты становится доступным проблеме воли. Таким образом, тенденция выступает как аналог реальности. Подобно тому как реальность, согласно фундаментальному, подчиненному законам мышления суждению о происхождении, конституирует элемент как таковой и как основу содержания, так и тенденция обозначает, так сказать, абсолютное происхождение воли как движения. Оно не дано и не воспринимается; оно созидается в этом истоке тенденции.
Так тенденция сохраняет связь с чистым мышлением. Но в то же время она снова поворачивает в направлении аффекта. Это перенаправление поддерживается предвосхищением, которое хотя и действует уже во времени, но имеет особую значимость для вожделения, так что кажется, будто оно переносится на время именно от него. Однако если вожделение обозначает неочищенную проблему – подобно аналогичному понятию ощущения – то аффект прокладывает путь необходимому очищению вожделения до воли, тогда как тенденция могла бы мыслиться лишь как очищение двигательного мотива вожделения.
Аффект должен утвердить этот, казалось бы, чувственный элемент как чистый. Чистота должна прояснить различие, которое необходимо установить между вожделением и волей, а значит, и аффектом, – ведь в этом и заключается вся проблема воли. Это различие сводится к противопоставлению всему данному как таковому. Вожделение направлено на вещь – будь то пища, владение или господство. Воля же, поскольку она чиста, согласно и в силу метода чистоты, должна сначала создать себе все свое содержание.
Среди понятий на теоретической стороне обоснования воли мы отличаем намерение от умысла, причем так, что умысел относится скорее к стороне мышления, тогда как намерение должно склоняться к стороне аффекта. Но и намерение, как и аффект, должно служить решающему интересу всего различения и исследования. Намерение не должно позволять навязывать себе содержание. Можно подумать, что мышление все же должно иметь право направлять намерение. Конечно, оно должно; но это руководство не следует понимать так, будто мышление может предлагать аффекту лишь теоретическое содержание; содержание аффекта, а значит, и намерения, как бы глубоко оно ни было продумано, может быть только практическим, только содержанием воли. Поэтому намерение должно сохранять свой аффективный характер даже для чистого созидания своего содержания.
Этот двойной смысл намерения, в единстве которого, впрочем, заключается ценность понятия для этической характеристики, должен быть выражен у нас термином «задача». Задача изначально противостоит данному; она сама содержит данное, она его составляет. Так задача служит чистоте. Содержание становится в ней чистым содержанием. Задача может по-прежнему относиться к внешней вещи; но это отношение может быть лишь внешним, лишь переносным. Разве что изначально должно быть ясно, что внешняя вещь может командовать аффектом и навязываться ему. Задача относится, скорее, преимущественно к внутреннему миру этих стремлений и тенденций, в котором только и может осуществляться.
В логике мы привлекали понятие задачи и для общей характеристики мышления в суждении, но также и для взаимодействия методов, которые в чистом мышлении дополняют друг друга, так что ни один из них не может завершить свой ход, а всегда должен, так сказать, на полпути уступать место другому. Таким образом, мышлению ставится своего рода практическая, волевая задача. Ибо задача принадлежит преимущественно сфере воли. И она делает ясным, что аффект обрабатывает лишь собственное, самому себе предложенное содержание.
Кажется, будто тенденция в своем движении хочет лишь продемонстрировать себя, измерить свою силу и свой источник, чтобы увидеть, насколько они неисчерпаемы. Если задача все же проявляется в предмете, то пусть он будет лишь средством для демонстрации этой собственной ценности аффекта. Ведь психологически нам тоже очень хорошо известно и ясно, что определенное содержание, точно продуманное или хотя бы ясно представленное, может казаться полностью отсутствующим, тогда как аффект, как его обычно понимают, проявляется в резких скачках и потрясениях – словно играет сам с собой. Настолько мало, кажется, значение имеет сам предмет как содержание. Это устранение внешнего предмета вытекает и объясняется под знаком задачи.
Что же тогда является содержанием аффекта, если задача устраняет внешний предмет? Этот вопрос должен быть ограничен для понятия содержания самим аффектом, а не распространяться на мыслимое, то есть зависящее от мышления содержание воли. В качестве содержания аффекта сама задача остается единственным и полным содержанием. Сама задача есть одновременно и ее исполнение – но, конечно, не ее завершение. Последнее зависит от других обстоятельств, прежде всего от мышления. Но переход от тенденции к тенденции, от задачи к задаче исключает завершение – по крайней мере, согласно понятию этого перехода. Завершение этого движения было бы завершением тенденции и аффекта, угасанием истока воли. Завершение задачи было бы ее уничтожением. Только в движении задач задача может одновременно находить исполнение и решение. Задача делает аффект рефлексивным и имманентным, но в то же время – как вид и направление сознания – суверенным и чистым.
Все это обоснование чистой воли в чистом аффекте противоречит воззрению, которое со времен софистики не могло быть опровергнуто, хотя уже Платон направил против него решающие аргументы. Сегодня, как и тогда, в основу воли ставится чувство удовольствия и неудовольствия. Мы немедленно вступаем в обсуждение этого вопроса, поставив исторический предварительный вопрос: как вообще можно понять и осмыслить, что эта точка зрения не могла быть поколеблена? Буквально нельзя даже сказать, что аргументы, методические понятия и формулировки существенно изменились. Они остались в основном теми же в психологии, но особенно – в этике. И именно эта устойчивость приводит нас к ответу на исторический вопрос.
Кант обозначил всю моральную философию, поскольку она основывается на удовольствии и неудовольствии, как эвдемонизм и эгоизм. Однако этим ответ на наш вопрос дан лишь наполовину. Ибо вопрос продолжается: как понять и осмыслить, что только Кант смог возобновить эту оппозицию против всей прежней морали, тогда как Платон уже с полной ясностью и энергией провел это разделение? Неужели, несмотря на всю религию, ничего в мире не изменилось, так что софистика смогла сохранить господство? Или, быть может, моральная философия – не софистика, даже если она эвдемонизм и эгоизм? Ведь разница между философией и софистикой заключается не в чем ином, как в обосновании познания всякого рода в чистом мышлении, а не в удовольствии и неудовольствии.
Таково различие, которое Платон в конце «Филеба» обозначил яркими и пламенными словами: с одной стороны стоит философская муза, с другой – быки, лошади и все животные, за которыми следует толпа в убеждении, что удовольствия суть сильнейшие путеводители в жизни. Они следуют за ними, как птицы за предсказателями. Даже Кант не сформулировал этот лозунг более проникновенно и убедительно. Как же могло случиться, что эпоха софистики, хотя и изменила свои девизы, в самой глубине, в сохранении удовольствия как путеводной звезды человеческой жизни, не была преодолена и не утратила господства?
Если бы мы захотели ответить на этот вопрос сейчас, то совершили бы грубейшую стилистическую ошибку: мы бы забежали вперед, предвосхитив собственное содержание этой этики. Ибо у этой книги не было бы собственной, новой проблемы, если бы она не была заострена на этом вопросе, и если бы на его основе она не попыталась подойти к новой проблеме и новому решению этики.
В этом состоит обновление платоновской этики, которое осуществил Кант: он противопоставил эгоизму безусловную всеобщность как нерушимое содержание. И новым было то, что он поместил человечество в эту безусловную всеобщность. У Платона она еще не была обозначена как идея, хотя предчувствия этого высказывал умирающий Сократ, указывая на Дельфы как на пуп мира и увещевая своих учеников выйти за пределы Эллады в мир.
Эта человечество было задумано и наполнено смыслом пророками; они ради него отказались от своей родины. Но Кант не остановился на этой идее человечества, а прояснил, сузил и в то же время универсально уточнил ее на недвусмысленном примере экономических понятий; нам предстоит рассмотреть это позже. И тогда мы должны будем признать, что тем самым открылся новый взгляд на мир в историческом и политическом смысле, а не просто новый принцип научной этики.
Ибо таков был смысл Канта в том резком разделении, которое он провел между своей этикой и всеми другими, кроме платоновской: он тем самым лишил всякую иную так называемую этику характера науки и философии. Она могла искать прибежища в метафизике. Но наука этики могла возродиться лишь тогда, когда понятие человека, открытое Сократом, было вновь открыто в соответствии с новой, наступающей эпохой – в идее человечества. И это была не только космополитическая человечность, в которой понятие человека возрождалось в духе эпохи гуманизма, но и социальная человечность, которая придала понятию человека для каждого народа – и тем самым впервые для человечества – политическую правдивость, а через нее и этическую определенность.
В этой оппозиции ко всей морали, которая не порождает этику исключительно из понятия чистой воли и потому опирается на силы прежней культуры, а для удобного обоснования апеллирует к мнимой и кажущейся природе человека и людей; в противоположность всему мировоззрению, которое превозносит себялюбие как основной импульс и главную силу человеческого сердца; в противостоянии этой морали и мировоззрению софистики мы здесь формулируем противопоставление удовольствию и неудовольствию как движущей силе нравственного духа.
Для проведения этой оппозиции, в которой, казалось бы, уже могло заключаться завершение обоснования чистой воли, нам должны послужить тенденция и задача. Задача самостоятельна и исчерпывающа по содержанию, как она возникает в тенденции и сохраняется в ее развитии. И эти тенденции делают сам аффект самостоятельным в его внутренности. Все эти понятия утратили бы самостоятельность, а значит, и чистоту, если бы они были лишь представителями и, так сказать, отпрысками удовольствия и неудовольствия.
В этой господствующей связи с историческим взглядом на всю прежнюю политику мы здесь формулируем общую психологическую основную мысль об удовольствии и неудовольствии как о непреодолимых и в то же время безошибочных основных силах сознания. Пожалуй, можно сказать, что психологический взгляд на голод и любовь как на единственные решающие импульсы мира не смог бы удержаться и считаться самоочевидной истиной, если бы вся мировая ситуация прежней истории не поддерживала этот тезис. Кажется, что все вращается вокруг индивида; только индивид, кажется, удерживает мир. Но индивид имеет свой непогрешимый закон жизни в удовольствии и неудовольствии. И такой мир в тисках индивида должен быть нравственным миром или, по крайней мере, его прелюдией.
При этом даже не имеет большого значения, ведется ли политика династически или национально. Ведь и в национальной политике индивид становится пособником династов, хотя и в роли миссионера национальной идеи. Ибо там, где сама нация является конечной целью политики, девиза лишь кажется измененной, поскольку меняются подлежащее и сказуемое: «народ – это мы». И эти «мы», конечно, должны были бы быть всеми «я», но кто захочет понимать политическую программу так буквально? Таким образом, пока все остается в руках привилегированных индивидов, от которых якобы зависит ход истории, а все остальные должны греться в лучах слова «нация».
Поэтому удовольствие и неудовольствие остаются признанными как безобидные движущие силы; ибо они движут индивидом, а в нем – историческим миром. Или, быть может, политический индивид руководствуется и определяется нравственными, всеобщими идеями? Тогда, пожалуй, его гениальности пришел бы конец, ведь нравственные идеи он разделяет – в большей или меньшей степени – с толпой и кабинетными учеными. Нет, в политическом герое должен властвовать – или, вернее, прорываться – элементарный импульс, даже если он сам очищается до национального. Как природную силу, как лаву из кратера, пытаются представить себе изначальность политической силы. В качестве такой изначальной силы индивида рассматривается чувство удовольствия и неудовольствия. Но поскольку мы здесь хотим опровергнуть и исключить этого изолированного индивида, мы должны бороться с удовольствием и неудовольствием как с принципом.
Однако при этом начинании нас охватывают серьезные сомнения. Ведь удовольствие и неудовольствие кажутся незаменимым выражением чувства жизни и силы человека. Кто станет думать при слове «удовольствие» только о сладострастии? Мы ведь уже не в Средневековье, где concupiscentia означала всеобщий грех и, следовательно, всеобщий след человечности. Может показаться, будто мы защищаем назарейский аскетизм, если подвергаем удовольствие подозрению. Конечно, удовольствие – это прежде всего удовольствие половой любви, но что может быть могущественнее и возвышеннее? Мужчина и женщина, женщина и мужчина достигают божественного. Хотя, если понимать это так, как мыслит гений, то возражение было бы не только нелепым, но и греховным. Однако то, что ложное, лицемерное искусство и наглые теории, привитые к нему, осмеливаются сделать из мысли о невинности, – это в равной степени нравственное и эстетическое заблуждение и развращение. Таким образом, связь между удовольствием и сладострастием остается предостерегающим знаком даже с точки зрения человеческой творческой силы и высшей жизненной энергии.
Другое возражение связано с этим. Может показаться, будто здесь объявляется война и эстетическому чувству. Ведь все чувство и все творчество искусства основаны на любви, то есть на удовольствии. Когда эстетика наконец обрела самостоятельность, это произошло под этим знаком. И даже Кант обосновал ее под знаменем этой душевной способности. Однако именно это возражение говорит в пользу нашего тезиса. Кант никогда не смог бы сделать эстетику третьим звеном своей системы, если бы не укрепил второе звено – этику. Возможно, Платона отпугивала эта озабоченность самостоятельной эстетикой: что идею прекрасного будут постоянно путать с идеей блага. Прекрасное тоже было для него идеей, но Плотин не должен был получить права утверждать, что прекрасное станет божеством. Этика не может обрести самостоятельность через принцип, который она должна была бы делить с эстетикой.
И если создается видимость, будто в любви этика и эстетика соединены как сестры, то в этом видимом сходстве следует скорее усмотреть глубокое предостережение. Поэтическое изречение о голоде и любви, конечно, позволяет и любви участвовать в этом ореоле святости, но тем не менее она остается сопряженной с голодом. Не только забота о самостоятельной этике, но в равной степени и о самостоятельной эстетике исключает удовольствие как принцип этики.
Можно было бы в конечном счете вывести аргумент в пользу удовольствия и неудовольствия из того обстоятельства, что они не только универсальны, то есть применимы ко всем живым существам, но и выражают сумму и тотальность всей жизненной деятельности безо всякого сомнения. Универсальность можно считать решенным вопросом; однако она относится скорее лишь к индивидам, то есть к множеству, но не ко всеобщности как таковой, ибо последнее означало бы предвосхищение того, что здесь составляет проблему. Но тотальность все еще может представлять трудность. Может показаться, будто вся жизненная энергия действительно сводима к удовольствию и неудовольствию как к своему простейшему выражению, так что сумма жизни заключена в этом жизненном чувстве. Однако и эта точка зрения основана на заблуждении.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе