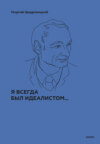Читать книгу: «На перекрестке мысли: введение в системомыследеятельностный подход», страница 2
Последнее, что я должен здесь отметить, – это то, как же будет идти моя работа. Задав это представление о пространстве моего мышления и имея задачей построить теорию мышления, я теперь должен воспользоваться всем этим набором деятельностей. Я буду осуществлять эту сложнейшую работу мыслительного рассуждения, пользуясь этой структурной, или организационной схемой. Как это все будет выглядеть?
Я должен фактически двигаться поверх этой схемы. Я должен здесь, на этом левом блоке онтологических картин, схем смыслов, систем теорий, конструкций, проектов, знаний, программ, строить то, что получит название «теории мышления», что потом будет выпихнуто из этого пространства и получит собственное существование на других носителях, которые войдут в этот предмет. Мне не важно, какой он будет: естественно-научный, нормативно-деятельностный… Моя цель состоит в том, чтобы его построить и задать, а потом «пнуть ногой» и вышибить его из этого пространства, чтобы он мог жить своей собственной жизнью, чтобы у него появились адепты, чтобы они образовали свой Институт теории мышления, как в свое время был Институт языка и мышления им. Н. Я. Мappa6, и начали бы там все это как-то строить, развертывать и т. д. Но пока что до этого далеко. Я должен его строить. И это означает, что я должен буду программировать эту работу, проводить какие-то исследования, дабы фундировать мои проекты, конструкции и схематизацию. Эти знания, которые я буду получать, я должен систематизировать… Я должен вести критику предшествующих теорий, схематизацию смысла… Я должен строить онтологическую картину мышления… Задача, которая передо мной стоит, – построить теорию мышления…7
При этом, когда я строю свой дискурс, я должен пользоваться какими-то понятиями. (Я этот пункт буду дальше разбирать подробно, поскольку он узловой и самый интересный.) Значит, я буду проделывать такое странное движение… Например, я могу начать с некоторого знания, при этом окажется, что у меня нет какого-то понятия. Я это отрефлектирую, зафиксирую какую-то точку и буду искать: а есть какое-то понятие в одном из научных предметов? Ага, вот взял его и перетащил его сюда, обязательно через рефлексию. Потом, когда я сделаю здесь какой-то один кусочек, окажется, что мне нужен проект. Я тогда возвращаюсь в рефлексию и попадаю в проект – здесь я что-то сделаю. Потом – опять в рефлексию и, скажем, в конструирование. Потом – опять в рефлексию и в онтологическую работу. Отсюда – опять в рефлексию и вдруг – сюда, в этот предмет, поскольку он мне нужен, или, наоборот, в рефлексию и в какую-то онтологическую картину.
Итак, мое движение, мое рассуждение, или процесс моего мышления, будет развертываться на всем этом пространстве по очень сложному рисунку. И это, собственно, и образует единую схему теоретического рассуждения. Здесь будет развертываться такой сложный процесс теоретического рассуждения, в определенном смысле слова «теория» (я точно так же об этом буду говорить дальше) – теоретическое как еще не принадлежащее ни философии, ни науке, теоретическое как мыслительное в противоположность практике.
При этом в ходе этой работы (я обращаю внимание на одну очень сложную вещь) будут, с одной стороны, развертываться некоторые процессы в каждом из этих блоков: процессы проектирования, конструирования, исследования и т. д. То есть каждый раз будут какие-то маленькие фрагменты, но эти фрагментики будут собираться и стыковаться по нормам, правилам и законам конструирования, проектирования, исследования, еще каким-то… А кроме того, в ходе этого конструирования будет расти, скажем, конструкция… В ходе развертывания процедур проектирования будет расти проект и т. д.
Здесь есть очень простая и прозрачная аналогия. Представьте себе строительство здания. Одно дело – это люди, которые бегают по строительной площадке, суетятся, подтаскивают сначала кирпичи и камни, потом столярку и т. д., и будет там очень сложный процесс замены частей с возвратами и прочее. Но здание-то будет расти по законам строительства, законам роста самого здания, а не по логике всей этой беготни и суеты. Точно так же в проектном институте проектировщики, создавая проект какого-то здания, много суетятся и много чего делают, но проект растет по законам проектирования.
Я заканчиваю этот кусочек, возвращаясь к идее организации мыслительного пространства. Внутри каждого из этих блоков движение происходит только по нормам, правилам и законам соответствующего блока. Следовательно, это мое мыслительное пространство принципиально является гетерогенным, и почти для всех его составляющих есть свои законы, правила и нормы. И там развертывается только это.
Здесь я бы заметил, что это – тривиальное и простое решение альтернативы Поппер – Кун. Почему я называю эти дискуссии смешными и наивными? По каким законам идет строительство: по логическим или по социально-психологическим? Это наивно и смешно, потому что нельзя ставить такой вопрос по поводу гетерогенных системных образований. Они живут сразу по множеству законов. И все постановки вопроса, что здесь или социальная психология, или логика, или историческая эволюция, [не учитывают, что] в каждом из этих «отсеков» разворачивание – будь то процедур и процессов, будь то продуктов или конструкций – идет по своим особым законам. А стыкуется все это за счет того, что все это «плавает» в рефлексии, и вот она – единственная – не имеет законов. Это и есть пространство творчества, интуиции и вообще всех подобных любимых нами образований.
Дело в том, что [рефлексия] и есть как раз то пространство свободы, которое дает нам возможность целенаправленно строить процесс рассуждения, или творческий процесс. Он у меня изображен в виде переходов из разных блоков. И здесь я действительно должен рассуждать, двигаясь к своим целям, особым образом комбинируя имеющиеся у меня средства. Но, как я постараюсь дальше показать, это нельзя называть «процессом мышления». Это, скорее, процессы работы нашего сознания. У каждого – свои собственные, отличные от других: у меня это будет иначе, чем у Анатолия Александровича Тюкова… И у каждого будет по-своему, пока мы не получим результаты и не отнормируем [этот процесс]. Но тогда это попадает в один из этих блоков и будет там закреплено как определенная технология, как блоки приемов, способов, методов и т. д. – уже не мышления как такового, а проектировочной, конструктивной, исследовательской или какой-то еще деятельности. И тогда они будут давать нам продукцию в одном из этих блоков. Вот что мне очень важно.
Итак, резюмирую этот кусочек… Я нарисовал то пространство мыслительной работы, принципиально гетерогенное, принципиально многодеятельностное, многомыслительное, в котором я буду работать и осуществлять… А что осуществлять? Я могу разное осуществлять – в зависимости от того, на каком блоке я буду центрироваться в построении теории мышления: либо мыслительной имитации и программирования, либо, скажем, исследования, либо проектирования, конструирования… Хотя у меня будет единое рассуждение.
Здесь возникает еще такой вопрос: важен ли здесь порядок организации этих блоков деятельности? Да, очень важен. В каком плане важен? Важен в плане экономности или, наоборот, неэкономности мышления.
Сазонов: Почему это мощное пространство твоей мыслительной работы порождает такой продукт – теорию мышления, а не мышление?
Это хороший вопрос, Борис Васильевич, но не по адресу. Это, скорее, упрек моей дисциплинированности.
Я различаю организацию сферы методологии и пространство моей частной мыслительной работы. Это пространство задается той задачей, которую я буду здесь выполнять. Оно каждый раз задается ради решения задачи. Я специально на этом акцентировал внимание, сказав, что у древних греков, у Демокрита при решении проблем математического атомизма было одно пространство, у Архимеда – другое пространство, у Евдокса для теории пропорций было третье пространство, у Евклида – четвертое, у Аристотеля в физике – пятое, в учении о душе – шестое и т. д. Пространство каждый раз создается для решения строго определенных задач. И здесь я имею задачу – построить теорию мышления. Я применяю мощную методологическую организацию для решения этой задачи, потому что я не думаю, что эта задача достаточно тривиальная и может быть решена с помощью других форм организации. Наоборот, я уверен, что не может. Здесь нужно использовать всю мощь методологического мышления.
Но в твоем вопросе есть еще один аспект: а нужно ли нам сейчас строить теорию мышления? Может быть, мы уже дошли до понимания того, что все это в XX–XXI веке вообще не нужно. Это в XIX веке ученые думали, что все дело в том, чтобы построить картинку объекта, и всё… Поскольку они были метафизиками, у них был вечный, неизменный природный мир, они думали, что познание конечно. Борис Васильевич [Сазонов] говорит: если каждый раз строить теорию только для того, чтобы ее опровергать, то зачем тратить на это столько сил? Надо просто организовать мышление, обучать ему, создавать мыслящих людей, и пусть их становится все больше и больше, и пусть они лавинообразно размножаются… И все это можно сделать без теории мышления. Не надо никакой теории мышления! Дело ведь не в том, чтобы написать книжку, а в том, чтобы дело было, чтобы оно двигалось, росло, занимало бы пространство социальной жизни.
Вообще мне эта мысль очень симпатична. Я бы даже сказал, что она единственно правильная и истинная. Но только я полагаю, что тут без теории мышления, которая появляется во фрагментах всей этой работы, не обойтись. То есть я боюсь, что нельзя эффективно учить мыслить большие массы людей, не создавая теории мышления. Скажем, несколько учеников можно научить за счет втягивания их в семинары такого рода. И, действительно, лет через 5–6 они осваивают почти все, что есть, и могут считаться людьми мыслящими. У кого-то на это уходит 8–10 лет, но какая разница? Пять, десять, двадцать учеников научить так можно, а вот 100 000 человек так уже не научишь. Для этого нужны теоретические формы.
Брянкин: Эти предметы у вас наверху – это предметы как подходы или специфические предметы?
Эти предметы не подходы. Это очень важно. То, что вы называете «подходами», будет существовать в том отсеке, который я нарисовал здесь справа [вверху]. Подходы – это единицы методологической нормировки, это фактически те методологемы, которые у меня там записаны в обобщенном виде. А вот это – «плавающие» предметы, – это все множество предметов, построенных на сегодняшний день человеческой культурой: термодинамика, электродинамика, лесоводство, архитектура в ее разных вариантах и т. д.
Брянкин: Почему эта ядерная часть всегда принадлежит этой схеме?
Вы, по сути дела, продолжаете вопрос Бориса Васильевича [Сазонова]. Это указывает мне на то, что я очень плохо сформулировал какие-то важные для меня положения мысли.
У меня есть строго определенная цель и задача: построить теорию мышления. При этом я говорю: «задать программу», «выделить основные связки и области проблем»… Поскольку я-то не могу построить теорию мышления. Это очень большая, кропотливая работа, и жизни на это не хватит. Поэтому я предпочитаю построить программу для этой работы, и, может быть, на базе этой программы пять, десять, двадцать, тридцать человек [ее сделают]… Во всяком случае, будет больше шансов ее построить.
Именно под эту очень определенную цель и задачу я, используя схему методологии со всеми ее средствами, строю определенное пространство своей работы, если хотите, – задаю свою «строительную площадку». И сначала организую эту «строительную площадку». Что мне надо туда определить? Прежде всего все типы работ, которые я буду осуществлять. Я разместил все эти работы, которые мне доступны, в эту основную часть, и в ней я предполагаю работать. Я так понимаю, что я буду работать в программировании и буду сводить исследование к минимуму, по возможности поручая это своим ученикам, поскольку это работа кропотливая и мало дает для дела. Я буду работать в плане проектирования, меньше – в конструировании. Это и есть основная часть моей «строительной площадки», своего рода «верстак», на котором я буду все это собирать непосредственно. А вот эта «плавающая» часть – это мои «кладовые», «амбары», куда я кладу строительные средства, определенным образом их организую, дабы меньше времени затрачивалось на вытягивание всего этого… В частности, я опираюсь на целый ряд практик, которыми я владею, чтобы их оттуда по возможности тянуть…
Не ищите в этом законов. Здесь нет никакой необходимости. Эта работа сугубо практическая, организационная.
Давайте совсем по-простому… Мне [нужно нарисовать это пространство], чтобы работать эффективно, чтобы иметь возможность в голове держать все это и знать, где и когда я нахожусь, не путаться там, не тратить недели, месяцы и годы на то, чтобы распутывать какие-то узелки, возникшие из-за того, что… я-то думал, что я штукатурил, а я на самом деле глину бросал… Я должен как-то соорганизоваться, и я привожу это в порядок: это – мои особым образом организованные «кладовые» и «амбары», это – «верстак»… Вот в чем смысл пространства. Пространство – это всегда пространство работы.
Брянкин: Мне кажется, что на вашей схеме должен быть объемлющий блок всей этой «этажерки». Меня удивляет, почему его нет.
Я действительно буду центрировать свою работу на одном из блоков. Центрировать. И это будет задаваться задачей.
Если мне сказали «построить теорию мышления», то я у такого заказчика или у самого себя буду дополнительно выпытывать: что он хочет получить? Что для него значит «построить теорию мышления»? Пожалуйста! Двести лет, столько-то человек, такие-то затраты. Вас устраивает такая раскладка? Он мне говорит: «Нет, мне нужно за три года». Я говорю: «Пожалуйста. Через три года я вам могу построить программу построения теории мышления». Тогда я автоматически, по заданию центрируюсь на программе и начинаю осуществлять все другие деятельности лишь в той мере, в какой они нужны, чтобы разработать программу.
Обратите внимание, здесь очень хитрый блок стоит: «мыслительная имитация и программирование». То есть я тогда не буду, например, проделывать организацию, исследование, проектирование, критику, конструирование, а буду имитировать их за счет особой работы. Я буду тогда так говорить: скажем, в разделе проектирования я делаю то-то, то-то и могу получить то-то или то-то. Не надо всего это делать – я произвел мыслительную имитацию и задал, записал это в соответствующий блок проблем в программе или в соответствующий элемент программы. И всё.
Если же мой заказчик говорит, что ему нужна конструкция, я говорю: ладно, давайте конструкцию… Я вам дам конструкцию, но давайте сообразим – чего? Поскольку я всего не могу, я вам дам конструкцию какой-то части. Тогда что я должен буду делать? Я должен буду построить программу всего, потом спроектировать какие-то другие элементы и потом по этому проекту выдать ему соответствующую конструкцию. Но я могу и увильнуть… Я скажу ему: зачем тебе исследование, проект, конструкция? Все равно этим на практике никто не пользуется. Ни научное исследование, ни проект для практики не нужны на самом деле. Это иллюзия XX века. А нужны онтологические картины, или метафизики. Вот на них действительно осуществляется работа. И так было последние две с половиной тысячи лет. Давайте я вам построю онтологическую картину теории мышления, и работайте так, как будто у вас есть теория мышления.
Каждый раз будет центрация…
Брянкин (неразборчиво).
Я готов отвечать на ваши вопросы, но я не могу принимать ваших безответственных слов.
Выбор какого-то блока в качестве центрального определяется целью и задачей. Сами по себе цели могут лишь частично задать этот выбор. Задача – когда мне говорят, что мне нужно выдать то-то, то-то, то-то: программу, конструкцию и прочее, – задает мне центрацию на том или ином блоке работы…
Если вы хотите называть это «произволом», называйте, пожалуйста, но имейте в виду, что вы здесь разошлись с человечеством. Вы слово не по значению употребляете.
Тюков: Сергей Васильевич [Брянкин] спрашивает, по-видимому, о технологии этого определения. Постановка задачи будет определяться либо заказчиком, и он знает язык, на котором она ставится, либо вы начнете вырабатывать язык для ее постановки. А тогда опять срабатывает вся эта машина методологической рефлексии… Например, в зависимости от того, какую деятельность вы будете осуществлять, вы будете так или иначе формулировать свою задачу. Даже если предположить, что технологии в каждом из этих блоков достаточно жестки и определенны, то, во всяком случае, можно спросить: о какой технологии, кроме свободной творческой рефлексии, идет речь, когда идет разговор об определенности задачи, вашей центрации, вашего выбора позиции и типа деятельности?
Единственное, что я могу зафиксировать: этот разговор никак не связан с моим докладом, с тем, что я говорил. Это – в каком-то другом «трамвае». Мне абсолютно безразлично, какую задачу решать. Я могу решать одну, другую, третью – какую хотите.
Тюков: Формулировка задачи, которую вам предъявят, не будет соответствовать ни одному из ваших блоков, типов деятельности.
Я рассчитываю, что мои заказчики сидят здесь, и пытаюсь соорганизовать их сознание. Я говорю: я – методолог и работаю в рамках деятельностного подхода. Это означает то-то, то-то и то-то. Рисую это всё. Говорю заказчику: ну конечно же, когда вы говорите «построить теорию мышления», вы говорите незнамо что, поскольку вы человек некультурный, в школе и университете не учились, историю не проходили, ничего не знаете, ничего не понимаете. Задачи могут быть какие? Построить программу для разработки теории мышления… Вот в 1979 году только так можно формулировать: провести исследование, спроектировать, сконструировать, провести критику… Вы что хотите?
Тюков: Вы так и спрашиваете?
Конечно. «Вы что хотите?»
Тюков: Он вас посылает…
Естественно. Я для того картинку и нарисовал, чтобы разойтись со всеми. Я дальше буду работать в ней. Кто хочет работать в ней и на тех основаниях, которые я задал, – милости просим. Понятно, да? Поэтому вопросы ваши – незнамо откуда…
Брянкин: Не считаете ли вы, что эта схема достаточно универсальна, что в качестве объекта, с которым она работает, может быть не только мышление, но что угодно?
Конечно.
Брянкин: Насколько я понял, деятельностный подход – это синтез массы подходов. И вроде бы связь этих подходов осуществляется, по вашей трактовке, не через объект, а между определенными…
Да, деятельностный подход есть синтез всех подходов. Но синтез всех подходов не есть механическое складывание их в кучу, а создание нового подхода.
Брянкин: На какой вопрос вы отвечаете? Я ведь еще не успел задать свой вопрос…
Ни на какой. Я хочу, чтобы ваш вопрос относился к моим построениям.
Брянкин: Я все-таки хочу задать свой вопрос… Вроде бы эти отдельные подходы в вашем деятельностном подходе должны объединяться не по объекту, а сами по себе. И в этом смысле можно ли считать деятельностный подход многообъектным? Вы соединяете конструирование, проектирование, организацию, критику и т. д. сами по себе, и потом туда разные объекты только попадают. И связь идет не через объекты, а процедуры сами по себе. То есть наша задача состоит в том, чтобы эти процедуры, которые могут относиться к очень многим объектам, в том числе и к мышлению, надо, во-первых, объединить между собой, то есть надо иметь эту «машину», а потом мы можем запускать туда разные объекты. Так ли это?
Ваш вопрос к моей работе не относится. Поскольку, как строятся подходы, я ни слова не говорил, а поэтому обсуждать вопрос, как связаны между собой подходы, – это очень интересно, это особый доклад об устройстве сферы методологии… А думаете вы как натуралист, что для меня неприемлемо…
Давыдов: Нет, вопрос все-таки есть. И он может быть сформулирован так: все-таки в основе синтеза, который вы предполагаете, лежит процесс, основанный на онтологическом единстве какого-то синтетического объекта, или он есть все-таки по законам сочетания ваших блоков, конгруэнтный объект? Да, это дальше у вас возникать будет вопрос, каково устройство всех этих процедур и что за чем следует. Но все-таки вопрос остается.
Нет, вопрос не остается. Нет такого вопроса для меня – об объекте.
Давыдов: Не обязательно тот вопрос, который нас интересует, возникает в натуралистической точке зрения. Согласитесь, что натурализм в данном контексте и нас не устраивает, и вы его критикуете. Но есть же сермяжная правда в нем? И, кстати, есть же сермяжная правда в исходном натуралистическом установлении? Не полностью эта сермяжная правда в натурализме реализовалась… А я вернусь опять к Канту: «возможно ли» Тот же вопрос.
Я еще раз уточню… Если вы считаете, что наши разговоры, эти вопросы встанут на более конкретном рассмотрении существа вашего доклада, что на этом уровне рассмотрения природы синтеза и соотношения онтологически представляемого объекта и способа построения этого синтеза речь не возникает, тогда мы вам эти вопросы зададим при продолжении доклада. Но возникает вопрос все равно уже сейчас.
Василий Васильевич, ваш вопрос меня вполне устраивает, и мне он представляется важным для проработки принципов. Но давайте зафиксируем, что то, что вы спрашиваете, в основной фокусировке и акцентации, – это нечто иное, чем то, что спрашивает Сергей Васильевич [Брянкин]. Я должен здесь три пункта зафиксировать.
Первое. Теснейшая связь всего того, что спрашивал Сергей Васильевич, и того, что прозвучало в вашем вопросе, с тем подтекстом, который мне предлагал Борис Васильевич Сазонов. Вообще, когда говорят: зачем вам нужна теория? зачем вы всю эту старую дребедень с теориями поднимаете? – пафос этих вопросов я понимаю в плане борьбы с натурализмом. Вся наша сейчас развертывающаяся дискуссия – а она, несмотря на свой лапидарный характер, очень богата тем подтекстом, который за ней стоит, – показывает, насколько трудна борьба с натурализмом и насколько натурализм въелся в нас. И, может быть, в этом плане, когда Борис Васильевич говорит: да перестаньте вы говорить о теориях, – в этом, наверное, есть какой-то социокультурный и социополитический смысл. Может быть, вообще не надо говорить о теории, и тогда не будут возникать все эти вопросы.
Но… Второй пункт ответа. Здесь надо вспомнить идею, высказанную в свое время О. И. Генисаретским, – образ «молевого сплава»… Плывет огромное количество бревен. Они у вас не связаны. Вот вы стоите на одном бревне, багром разгребаете какие-то заторы… Тут бревно под вами начинает тонуть, вы перескакиваете на другое бревно и тянете все это относительно него. Оно, в свою очередь, начинает тонуть – вы перескакиваете на третье. Появляется здесь Сергей Васильевич Брянкин, вытаскивает своей длинной рукой на берег этого сплавщика и говорит: «Слушай, ты ответь, какое у тебя бревно главное?» Тот говорит: «Каждый раз то, на котором стою». «Нет, – говорит Сергей Васильевич, – ты меня не проведешь! Ты мне скажи! А если ты не скажешь, какое бревно главное, то это произвол! Как это так?!»
Теперь я отвечаю по третьему пункту на ваш очень интересный вопрос. И вы правы, говоря, что это должно обсуждаться дальше, – у меня так и было запланировано. Я теперь должен буду обсуждать, что это за движения, заданные вот этими линиями. Во-вторых, что представляет собой каждый из этих блоков. И там, в частности, возникает та самая проблема, которую вы сформулировали, а именно: роль натурализма, его оправданность в определенных ситуациях. Мы уже начинаем понимать, что натурализм хорош при определенном «заторе» – когда нужно всю эту штуку в определенную сторону толкнуть. Здесь, наверное, можно сказать, что между всеми этими блоками – обратите внимание, Сергей Васильевич, – за счет такой процедуры рассуждения, или мыслительной работы, которую я предлагаю, существует все время отношение рефлексивного отражения…
Брянкин: Эта кривая показывает, что вы задаете связь между блоками через объект, а не процедурно, не через процедуры. Именно на это был направлен мой вопрос.
Опять это неправильно… Обратите внимание, что есть мой объект. Мой объект всегда – вот это пространство. Мой объект всегда – «плывущие бревна»…
И в этом смысле Сазонов опять прав. Он говорит: «Ну, помилуйте, вы такую мощную штуку имеете, а строите такую ерунду…» Я ему отвечаю: «Простите, теория мышления не ерунда».
Но когда я вам отвечаю, я должен ответить совсем в другом контексте. Ну, конечно, по отношению к этой штуке теория мышления – ерунда. Конечно, подумаешь, теория мышления… И это и есть мой ответ. Мой ответ есть методологическая организация деятельности, методологическая организация пространства мышления. А какие там выходы из нее… Все зависит от ситуации. Скажем, если надо психологию поворачивать определенным образом, надо обеспечить ее развитие – надо повернуть психологию. Если социологию – социологию, если, скажем, архитектуру и проектирование – значит, надо архитектуру и проектирование. А объект теоретического анализа – методологическая организация мышления и деятельности. Но когда я решаю конкретные задачи, то я говорю – в силу своей дисциплинированности – о том, о чем и говорил, и о том, что я должен сделать.
Да, я рисовал такую занятную схему (см. рис. 3). Вот есть рефлексивное представление, вот есть предметное. Рефлексивное здесь – объемлющее. Теперь, обратите внимание, я ведь могу теперь это рефлексивное представление предметизировать. И тогда для меня предметом является методологическая организация мышления и деятельности. Эта моя рефлексия дает мне мой объект и вместе с тем универсум человеческого мышления и деятельности. А в нем «плавают» самые разные вещи.
Когда я сижу дома, занимаюсь для удовольствия, я занимаюсь вот этим. Я это продумал, я это анализирую, предметизую и т. д. А когда я прихожу на работу, то я решаю там те задачи, которые стоят, с помощью этого методологического подхода, этой организации и т. д.
Вы про что спрашиваете?
Брянкин: Я спрашиваю про мышление.
Вы что думаете, меня действительно мышление интересует? Впрочем, так же, как и вас…
Брянкин: Я про ваше хобби спрашиваю…8
Представьте себе мышление как объект. Каким образом его поймали, сделали из него онтологию и запустили туда – пока не обсуждаем. Поймали – запускаем, и он у нас начинает обрабатываться в каждом блоке: проектировочном, конструктивном и т. д.
Вы меня по понятию спрашиваете или по предмету? Что я вам сейчас инкриминирую? Вы путаете понятие с предметом. Если вы задаете вопрос по понятию, то я вам по понятию отвечаю: есть блоки, а движение у меня намечено как некое неопределенное движение…
Давыдов: Георгий Петрович, вы не повторяйте много раз. Это все ясно. Вы берете тот момент абстрактности, где конкретизация и, следовательно, последовательность движений для вас несущественна. Впрочем, вы сразу выразили это в следующей фразе: «исследование, проект, конструкция и т. п.». Вам безразлично, что дальше будет. Вы чисто эмпирически, житейски берете и содержание исследования, и проектирование… Вы говорите: «Такие процедуры могут быть, такие блоки могут быть построены. Вот как они задают пространство мышления». А как они связаны, что они такое сами по себе – это вас пока не интересует.
То есть наши вопросы, конечно, имеют оттенок втягивания вас в ту степень конкретности, которую вы нам не задаете. Но вместе с тем можно правомерно ставить вопрос: а в каком направлении вы дальше будете размышлять на следующем, более конкретном уровне? Ведь нам тоже хочется в вашем мысленном пространстве двигаться – не стоять, а двигаться. Во всяком случае, домашнее задание для себя получить. Я задаю тот же вопрос: впоследствии что это будет? Роды действительности, соответствующие исследованию, проектности и т. п. и т. д.? Либо само разделение на эти аспекты есть определенная характеристика реального – вне все-таки вашего пространственного мышления – синтетически целостного объекта?
Нет никакого «синтетически целостного объекта». Это все устаревшие догмы натурализма.
Давыдов: Это не устаревший принцип натурализма. Это – тот принцип, который отрицает ваш способ построения пространства мышления. Не потому, что то устарело…
Ваш принцип, кстати, так же стар, как и то, что связано с натурализмом. Можно показать, что ваш принцип достаточно стар и не очень оригинален. Вы сегодня в красивых метафорических выражениях повторяете моменты, которые, во всяком случае в нынешней терминологии, называются «предельным релятивизмом». И не очень уж новые эти вещи… А в старой классической терминологии ваша установка, на мой взгляд, называется давно известным «принципом деятельности» Фихте. В той форме, в той мере конкретности и абстрактности, в которой вы ее излагаете, это – фихтеанская установка, ограниченная в своих претензиях в свое время Гегелем. Уж не очень-то это новое.
Вы сказали: это – устаревший натурализм. Я могу вам ответить: это тоже устаревший абстрактный деятельностный подход. Тогда термин «устаревший» мы выбрасываем и должны прочертить одно и другое. Найти корни. И у меня вопрос: в чем исторические корни такой постановки вопроса? Что такое натурализм, мы знаем. В чем мера ограниченности натурализма, мы тоже понимаем. Я тоже в этом смысле имею отношение к натурализму. Но я понимаю меру его ограниченности, понимаю, из каких корней это выходит…
Вы представили свою концепцию как якобы (условно) изобретенную в 1954 году. Ничего подобного! Это давно известная концепция. Видимо, справедливая в определенном плане. Но все-таки каковы ее основания? Вы как-то отбросили натурализм и говорите: «Это устарело, пойдемте дальше». Отрицание теоретического, исследовательского подхода со стороны прагматического сознания также давно присутствовало. Кстати, особенно в определенных античных культурах. Ничего оригинального тут нет.
Следовательно, на каком основании сейчас, в 1979 году, и в такой конкретно форме вы реально абсолютизируете этот релятивистский подход, так называемый «деятельностный подход»? Какие основания у вас есть? На какие исторические тенденции вы опираетесь? Вы можете сказать: опираясь на эту исторически складывающуюся тенденцию, я на таком-то основании отрицаю односторонний натуралистический подход… Тогда это будет разговор. А так…
В чем мера неопределенности? Такое неопределенное рассуждение возможно. Но основание и мера этой неопределенности мне как слушателю непонятны. Может быть, из-за ограниченности вашего времени – в попытке изложить суть подхода… Но тогда я задам вам более конкретный вопрос: в чем ваш способ построения пространства мышления отличается от способа построения пространства духа Фихте? Если ничем не отличается, тогда мне незачем слушать подобные премудрости. Если чем-то отличается, тогда вы можете доказывать, что нет, другие истоки… А если эти же истоки или подобные, тогда чем конкретно отличается? Что дало 200 лет развития истории философии? Уже не говоря о том, что вы все время оперируете то понятиями логики, то понятиями психологии… Но, простите, где та возможность метафорической подмены этих понятий, внутри которой это действительно оказывается тем пространством, в котором при общей знаменательности «все кошки серы»?
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе