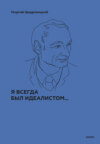Читать книгу: «На перекрестке мысли: введение в системомыследеятельностный подход», страница 3
То есть, понимаете, какая-то мера неопределенности присутствует. Сама мера. Говоря на нашем гегелевском языке, при всяком абстрактном ничто есть и абстрактное бытие, но они взаимопереходят… И есть мера этого перехода. В чем мера этого перехода? Не понимаю.
Это вовсе не упрек. Я только высказываю чисто дидактические соображения. Из существа очень интересного и в принципе понятного сообщения неясно, каковы истоки такой постановки вопроса. Ссылка на историю вашего развития в этой связи ничего нам не разъясняет. Мало ли что сам индивидуальный мыслящий человек пришел к этому. Мы все-таки достаточно грамотные люди и скажем, что за этим нашим индивидуальным развитием стоят какие-то исторические тенденции. Думать, что вы выбились из этих тенденций, нельзя. Вот почему возникают соображения.
Я не знаю, была ли логика в тех соображениях, явно или неявно в вопросах, которые другие задавали, но у меня есть масса недоумений… Но, кстати, недоумений, исходящих из вашего содержательного разговора, поэтому я и претензии вам предъявляю. Поэтому вопросы есть… Где та историческая традиция, внутри которой ваше рассуждение двигается? Это, как вы сказали, борьба с натурализмом… Борьба в какой традиции?
Мне представляется, что ваша трактовка, эти исторические параллели, сведения связаны с тем, что деятельностный подход еще недостаточно отделен и отдифференцирован от эпистемологического подхода.
Давыдов: А почему это достоинство – такая тончайшая дифференциация? Может быть, при «дифференцированном» подходе теряется сам объект рассмотрения?
Думаю, что нет.
Давыдов: Это, кстати, не так уж просто…
Если бы это было просто, я бы вообще делал вид, что не заметил вашего замечания, и пошел бы дальше. А я потому и отвечаю, что это очень непросто.
Сергей Васильевич Брянкин был прав в одном своем замечании, когда он сказал, что деятельностный подход снимает в себе другие подходы. Мне представляется, что он снимает в себе и натуралистический подход, в частности за счет особого развития связки онтологической работы и исследования. Я дальше буду говорить об этом.
С другой стороны, он снимает и эпистемологический подход. Когда вы, скажем, проводите параллели с Фихте, то можно было бы добавить туда, даже с большим правом, Шеллинга… Происходит вот эта склейка деятельностного подхода с эпистемологическим. Действительно, деятельностный подход в истории философии рос из кантовского критического и эпистемологического подхода. Но тем не менее он принципиально отличается от эпистемологического подхода. Обратите внимание, у Фихте было «наукоучение». И даже у Шеллинга в «Системе трансцендентального идеализма» (эта работа, может быть, наиболее близкая к современным деятельностным представлениям) все разворачивается в действительности существования знаний и представлений. И именно так это и трактовал Шеллинг. И именно так это косвенно все время критикует Гегель.
Деятельностный подход действительно имеет глубокие истоки – от Аристотеля через Лейбница, Канта и дальше (я только что называл имена) через Маркса…
Маркс, кстати, сделал тут важнейшую вещь: он соединил эпистемологию с натурализмом. Это важнейший шаг. И, собственно, именно Маркс должен считаться родоначальником деятельностного подхода – в большей мере, чем, скажем, Гегель, на которого он опирался и который не мог войти в эту линию, как и Фихте, и Шеллинг…
Но что здесь кардинально? Что то новое, что делает деятельностный подход деятельностным и отделяет его от всех исторических предформ, из которых он вырос? Я отвечаю прямо на ваш вопрос: освобождение от фетишизма исследования и равноправие множества деятельностей… Мы уже не можем [позиционировать себя] ни на одном из этих видов деятельности… Ни одна из этих деятельностей не имеет превалирующего значения…
Кстати, на мой взгляд, это прозвучало и в докладе Анатолия Александровича [Тюкова]. Все сводилось к знанию и теоретическому представлению, и именно они, обратите внимание, задавали представление об объекте. Вот это очень важно и принципиально. Еще пять или восемь лет назад я сам, скажем, в полемике с Олегом Игоревичем Генисаретским с пеной у рта доказывал, что говорить об объекте мы можем, только если мы становимся на точку зрения исследования. Мне казалось, что только исследование дает представление об объекте. И тогда я не понимал этой кардинальнейшей вещи, которую, как мне кажется, я уже понимаю сейчас, что представление об объекте дается пониманием, а не мышлением. Это очень важная вещь. Очень! Я ее пока не трогаю…
Но с того момента, как мы сказали, что ни одна из этих деятельностей не имеет превалирующего значения… И это то, что сейчас, скажем, М. К. Мамардашвили и другие характеризуют как «неклассическую ситуацию» в современной философии… Мы не можем сказать, кто же прав, какая из этих деятельностей права. Они все правы по-своему. И вот когда они все правы по-своему и каждая из них дает свой объект и свое рефлексивное представление объекта, свое ограничение, то мы не можем уже стыковать [представления] через объект. Вот в чем отрицание принципа натурализма.
Давыдов: Через метафизически представленный объект мы не можем стыковать, да? Якобы вне реальной деятельности существующий, инвариантный… То есть, говоря кантовским языком, «вещь в себе» как основание всякого синтеза…
Да. С того момента, как мы, критикуя Канта, говорим, что нет «вещи в себе» и говорить о ней бессмысленно как о «вещи в себе», мы попадаем в «неклассическую ситуацию». Мы вынуждены сказать, что все эти деятельности равноправны, каждая дает свое особое представление об объекте. И тогда мы попадаем в очень сложную ситуацию: если каждая дает свое, то как их стыковать? Объект не дает основания для стыковки. Кроме того, всякая попытка вернуться к объекту есть фактически редукция этой множественности к одной из произвольно выбранных систем. То есть произвол оказывается на другом полюсе по отношению к деятельностной позиции. Вот что очень важно. Потому что каждый раз, когда вы говорите: дайте нам все-таки представление об объекте, это означает, что вы центрировались на какой-то из этих деятельностей, и что-то мы как практику принимаем за основание. А скажите мне, пожалуйста, чем практика лучше теории? В смысле формирования объекта?
Между прочим, именно точка зрения такого выделения практики – как ограничивающего – и есть прагматизм. А в чем состоит деятельностный подход, развиваемый в диалектическом материализме? Он состоит в том – и Маркс на это специально указывал и в ранних работах, и в поздних, и Энгельс специально в ряде писем поучал вульгарных материалистов, – что деятельность, сложная социокультурная деятельность во всех своих проявлениях есть деятельность. Нет среди них первой, главной деятельности.
Кстати, в этом же основание вульгарного социологизма в области искусства 20-х годов… Тогда спрашивали: «Скажите, а музыка зачем нужна? Она что, организует нас лучше на производстве?» Или: «А что, ученые, сходив в консерваторию, лучше начинают анализировать строение ядра?» Это – бессмысленный подход, потому что музыка есть, она есть одна из форм человеческой культуры и деятельности, она сама по себе значима и имеет ценность, и она есть сама по себе самодостаточное отражение всего мира, рефлексивное отражение всего мира деятельности.
И тогда мы приходим к этому важнейшему и решающему тезису о том, что человеческий мир создается деятельностью. [Человеческий мир] не объект созерцания. Это только частная точка зрения – метафизическая или исследовательская – в зависимости от того, как мы ее трактуем… [Человеческий мир – это] деятельность как универсум деятельности.
И предметность человеческой деятельности… А что означает «предметность»? Предметность объекта означает то, что объект неотрывен от деятельности, он ею задается. Какова деятельность – таково и представление объекта, таков сам реальный объект, формируемый на материале. Я здесь подчеркиваю этот последний момент: сам объект, а не только представление об объекте…
Когда деятельностный принцип начинают сводить к выявлению зависимости представления от деятельности, то это – эпистемологический подход. А последний, одиннадцатый тезис Маркса о Фейербахе гласит, что [должна быть] критическая, конструктивно-преобразующая деятельность человека по отношению к материалу9… Значит, не только представления формируются человеческой деятельностью, но и мир, «вторая природа» создается за счет инженерной, конструктивно-технической, технологической деятельности, за счет активного вмешательства в мир. Мы формируем людей, мы их воспитываем, обучаем. Мы развиваем свое мышление. Мы ко всему относимся как к единству искусственного и естественного. А следовательно, мы на материал сажаем формы нашего мышления и нашей деятельности. Как это говорится у Маркса: чем дальше развивается человеческое мышление и деятельность, тем больше природа становится лишь материализованным воплощением его мысли, его идей10.
И когда мы это поняли, то у нас единственным объектом, абсолютным объектом становится сама деятельность. Релятивизм эпистемологического подхода снимается за счет абсолютного онтологического полагания деятельности – не знания о деятельности, не представления о деятельности, не сознание, не критика и т. д., а деятельность как объективный мир, как универсальный объект. Вот в чем особенность деятельностного подхода, с моей точки зрения.
И это не новое, это не родилось в 1954 году. Потому что это родилось в 1845 году11. Но это, во всяком случае, есть ответ на вопрос о релятивизме, на вопрос об отличии деятельностного подхода от эпистемологического. В деятельностном подходе не может быть релятивизма. Потому что ведь вопрос задается как? Какое из представлений объекта является истинным? А ответ: да никакое! Ибо единственный объект человеческой рефлексии и всех «плавающих» в ней форм есть сама человеческая деятельность. И не как деятельность Ивана, Петра и Сидора, а как мир человеческой общественной деятельности. И это есть абсолютный и единственный объект. Вот в чем суть ответа деятельностного подхода. И это проводит очень жесткую демаркационную линию и дает нам возможность найти и основание, и предшественников.
2. [Проблемы организации пространства методологического мышления. Рефлексия и мышление]
В прошлый раз, реализуя основные принципы деятельностного, или мыслительно-деятельностного, подхода, я нарисовал схему (см. рис. 4) и назвал ее схемой, задающей пространство методологической работы и таким образом организующей (именно через схему пространства) мое мышление и деятельность или вообще мышление и деятельность методолога.
Эта схема – и в этом ее основной, отличительный признак как схемы – должна была изображать и символизировать некоторое гетерогенное целое, состоящее из того, что у нас здесь в прошлый раз называлось пространством методологической рефлексии (объемлющий и замыкающий контур), в котором «плавают» ядра различного рода.
Здесь, на этой схеме, были представлены следующие типы таких ядер… Во-первых, предметы разного рода: практико-методические, конструктивно-технические, проектные, исследовательские… Во-вторых, то, что называлось «верстаками»; причем сами верстаки содержали две неоднородные части, а именно на каждом таком верстаке было еще выделено место, где росла и развивалась создаваемая на нем конструкция. Кроме того, был некоторый набор онтологических картин, или онтологических схем, – то, что мы называем условно «исходными онтологиями», чтобы терминологически это не смешивать с верстаком онтологической работы. А кроме того, были представлены различные практики как особые образования, которые были точно так же здесь помещены.
Причем я специально оговаривал, что для упрощения всей картины я пока не обсуждаю вопрос о взаимоотношениях между предметами и практиками. Дело в том, что в истории человеческого общества эти отношения менялись. Сейчас мы живем в эпоху, когда подавляющее большинство таких практик организовано соответствующими предметами, и поэтому эти практики являются, как правило, предметными. Но это частная особенность нашего времени.
И все эти образования, ядра, как бы «плавают» в пространстве рефлексии. И это очень существенно. А смысл гетерогенности состоял в том, что, по сути дела, в этом пространстве я или кто-то другой осуществляет рассуждение или некий мыслительный процесс и при этом непрерывно передвигается. Это происходит обязательно в пространстве рефлексии, но при этом происходят непрерывные вхождения внутрь так организованных верстаков, онтологических картин, предметов, практик и т. д., выходы из них, переходы с одного верстака на другой, с верстаков в или на предметы, онтологические картины и т. д. И мы это изобразили особым образом. Значит, поверх всего этого развертывается собственно мыслительное движение или рефлексивное движение (я дальше буду обсуждать этот вопрос специально), или, более точно, то, что называется «рассуждением». И за счет этого рассуждения, проходящего в пространстве рефлексии, все эти моменты связываются друг с другом.
Наверное, нужно оговорить и специально напомнить, что практически в каждом таком ядре фиксируются определенный тип деятельности и мышления и продукты. И поэтому практически, наверное, каждое ядро должно быть представлено двухчастным образом: оно имеет подсистему процессов и блок продуктов этих процессов. Эти продукты тоже не статичны, поскольку они в ходе процессов разворачиваются, растут. И, наверное, точно так же должно быть представлено и всякое другое ядро. Причем я сейчас не обсуждаю, как это надо изображать, как они членятся…
Единственное, что бы я здесь еще добавил… Если бы я рассматривал методологическую работу не в той узкой теме, как она была сформулирована в докладе, а, скажем, должен был бы рассматривать спорт как деятельность или, скажем, военное сражение, то я бы должен был наряду с такими верстаками включить еще образования двоякого рода, которые точно так же будут «плавать» в пространстве рефлексии, а именно: стадионы для игр и плацдармы для военных действий, то есть там, где осуществляется прямое столкновение.
Итак, задано пространство моей работы. И это сделано в соответствии с основным принципом деятельностного подхода, который требует, чтобы мы обращались не к предмету нашей работы, не к изучаемому объекту, а прежде всего к своей собственной деятельности. И, таким образом, эта схема (я тут начинаю новое содержание) есть особая форма и особое средство организации моего мышления и моей деятельности.
И вот тут мне приходится (я чуть-чуть отставлю вперед объяснение моих дальнейших целей и задач) вернуться к замечанию Бориса Васильевича Сазонова. В ходе обсуждения этого замечания, ответа на него я и задам основания для уточнения цели следующей части моих рассуждений.
Итак, тема работы: «Проблемы построения теории мышления». И тут Борис Васильевич спрашивает: «Зачем нам нужна теория мышления? Не лучше ли, скажем, заниматься построением методологии мышления или вообще разработкой средств, обеспечивающих трансляцию мышления из поколения в поколение и его непрерывное совершенствование и развитие?»
Первое, на что я хочу обратить здесь ваше внимание – это то, что сама формулировка темы является исключительно сложной. И я бы даже сказал – двусмысленной в плане цели, или целевого определения. Что же, собственно, является целью моей работы?
Конечно, можно все дело представить так, что моя цель состоит в том, чтобы построить теорию мышления. И если бы мы с вами работали в натуралистической модальности, то мы бы так с вами и понимали эту задачу. Но если мы работаем в деятельностной модальности, то этого так понимать нельзя. Потому что деятельностный подход требует прежде всего, чтобы мы определились внутри того типа деятельности, в котором мы предполагаем работать, произвели бы соответствующую окультурацию самих себя и задали бы схемы предстоящей нам деятельности. И, собственно, я так и делаю. Эта схема (см. рис. 4) должна организовать мою деятельность. Я ее зарисовываю и дальше все время работаю именно в ней.
И тогда возникает вопрос: можем ли мы сказать, что наша цель состоит в том, чтобы задать организацию деятельности по построению теории мышления? Или еще грубее: а что, собственно, задано в формулировке темы – теория мышления или построение теории мышления? Если мы переставим акценты и будем говорить, что основная цель этой работы, поскольку она является методологической, состоит в построении теории мышления, а условием осуществления такой работы (опять-таки в соответствии с основными принципами методологии) является задание схемы, организующей нашу деятельность в достаточно общем виде, то тогда оказывается совершенно неясным, что же, собственно, мы делаем. Строим ли мы теорию мышления, имея в виду построить эту теорию, или мы строим теорию мышления, имея целью положить средства для построения подобных или каких-то других теорий? Или вообще для построения, если хотите, чего угодно? То есть положить схему для организации нашего мышления и нашей деятельности вообще при решении разного рода задач и проблем?
И если мы это себе представим, то тогда это замечание, которое сделал Борис Васильевич, оказывается уже не таким острым и резким, каким оно казалось вначале. И, собственно, так и формулируется тема: это ведь «Проблемы построения теории мышления». И дальше, на протяжении всех оставшихся частей моего доклада, я и буду обсуждать не проблемы теории мышления, а проблемы построения теории мышления. И в этом, с моей точки зрения, и состоит смысл всякой формулировки темы в методологической работе.
Чернов: Тогда зачем же говорить про теорию мышления?
Особенность методологической работы всегда состоит в том, что она, по крайней мере, двухслойная. Она предполагает: 1) определенный тип деятельности и 2) рефлексию по поводу этой деятельности. И, собственно, это и представлено здесь, на схеме.
Как бы я должен был теперь сказать? Вся эта совокупность ядер, «плавающих» в пространстве рефлексии, задает мне совокупность всех сфер деятельности и деятельностных образований, которые я буду использовать в своей работе при решении той или иной задачи. Причем я буду их использовать по-разному, в разных связях в зависимости от того, какие у меня задачи. Например, при построении теории спорта я это буду делать иначе, чем при построении теории мышления. При организации мясомолочной промышленности я это буду делать иначе, чем при построении теории спорта. Но каждый раз вся эта соорганизация будет задаваться и определяться рефлексивным процессом, который, собственно, стягивает и объединяет все эти образования. При этом будут происходить разные центрации внутри верстаков: одни будут становиться ведущими, другие, наоборот, вторичными и обслуживающими. По-разному будут использоваться разные «кусты» ядер, «плавающих» внутри этого пространства. Будут разные типы рассуждений. Но пространство в целом, заданное через эту совокупность ядер, будет оставаться одним и тем же.
И второе замечание здесь очень существенно. Оно касается вообще роли целей и целевых определений в организации деятельности. Мы не можем рассматривать деятельность и мышление как одноцелевые образования. Любая работа такого рода всегда является и должна быть многоцелевым образованием. Это все время важно помнить: человеческая деятельность и человеческое мышление не могут рассматриваться как одноцелевое образование. Кстати, в этом ограниченность и ошибка всех одноцелевых программ. Они потому и не находят применения. Только многоцелевые программы, превращающиеся, по сути дела, в программы организации функционирования и развития – не важно чего, – могут иметь надежду на успешную и полезную реализацию.
Итак, еще раз возвращаюсь к вопросу Бориса Васильевича [Сазонова]. Этот вопрос очень точен, но, по-видимому, не релевантен методологической работе. В методологической работе всегда должна быть задана некоторая практическая или квазипрактическая цель, а кроме того, всегда должно осуществляться обобщение за счет используемой нами схемы организации этой работы. Сама схема создается и задается в следующих, более высоких слоях, и именно наличие такой рефлексивной надстройки, пространства, в котором все это «плавает» и в котором за счет рассуждения или мыслительного процесса все организуется, создает всегда принципиально полицелевой характер всего этого движения. И в этом состоит смысл методологической организации. Именно методологическая организация такого рода избавляет нашу работу от той специализированности, которая является вредной в условиях функционирования и развития современных сложных систем.
Пункт второй. Очень существенный. В наших предшествующих исследованиях и дискуссиях, которые мы проводили здесь, на этом семинаре, мы часто пользовались таким понятием, как предмет, в частности научный предмет, подразумевая определенную организацию средств научного исследования, или научно-исследовательской деятельности и мышления. Кроме того, мы нередко рисовали еще дополнительные схемы так называемых «машин» в обобщенном смысле. И, кроме того, у нас иногда осуществлялись отождествления этих предметов с машинами, иногда не осуществлялись. Во всяком случае, [обсуждались] определенные процедуры переходов и трансформации одного в другое. Предметы не есть машины – так мы всегда считали. Предмет может стать машиной, если туда добавляется человек, который работает с этим предметом, по законам этого предмета и нарушая иногда эти законы. И поэтому как-то все очень привыкли к тому, что когда рисуется схема такого рода или похожая, то это – машина, предмет и надо каждый раз спрашивать, какие у вас средства, какой метод, как одно увязано с другим…
Так вот, все это не имеет отношения к моему докладу, ибо он принципиально иного рода и построен на принципиально иных категориях. И весь смысл дела в этом докладе, в частности, заключался в том, чтобы уйти от понятия предмета и машины и ввести другие понятия и, соответственно, другие формы организации мышления, принципиально отличающиеся от предметных и машинных. А диктовалось это тем, что, как красиво писал Л. С. Выготский: метод должен быть соразмерен предмету12.
И поэтому сейчас, когда я перехожу к проблемам построения теории мышления и должен рассматривать мышление, то мой метод должен быть не просто деятельностным, а мыслительно-деятельностным, то есть деятельность надо рассматривать мыслительно. И поэтому, когда я апеллировал раньше к деятельностному подходу и говорил, что я реализую деятельностный подход, то я (правда, совершенно сознательно) делал известную натяжку. Я исходил при этом из того, что тот принцип или принципы, которые я формулировал, а именно задание, прежде всего этого пространства как бы деятельностей и рефлексии, – это деятельностный принцип, имеющий непосредственное приложение ко всем мыслительным подходам. Но между деятельностным и мыслительным подходом, точнее между деятельностным и деятельностно-мыслительным, есть известная разница… И, в частности, это различие реализуется в том, что я не говорю о машине, а я говорю о пространстве моего мышления, и еще точнее: я говорю о пространстве рефлексивной работы, в котором «плавают» различные образования. Понятие пространства, которое я начертил, – это не предмет и не машина. Поэтому мне и понадобилась эта категория пространства.
Намек на появление в дальнейшем машин был задан в верхнем углу, «нормы, методологемы, формальные и технологические единицы» (см. рис. 4). Этот кусочек открывает перед нами некоторую перспективу превращения потом всего этого в машину. А вопрос с предметом также очень сложен и требует обсуждения. И вот к этому я сейчас и обращаюсь.
Прежде всего, мне надо подчеркнуть, что я только нарисовал на доске определенную схему. Схема есть схема, и как таковая она выступает не как указание на предмет моей работы, а как средство организации моего собственного движения. Это очень важно.
Мы уже не раз обсуждали вопрос, что схемы могут организовывать мышление и деятельность и в тех случаях, когда они интерпретированы, и в тех случаях, когда они не интерпретированы. В этом особенность схем. Или я бы сказал слабее: такого рода схемы имеют многочисленные, разные интерпретации, и они будут по-разному организовывать мыслительную работу в зависимости от этих интерпретаций. Иногда могут быть совершенно формальные интерпретации. Например, появится [такой] знак – [нажимаешь] сразу две кнопки, а когда будут такие два знака подряд – дергаешь рычаг на себя. Тут схема сводится к совокупности следующих друг за другом сигналов. Она даже не выступает как знаковая схема. В других случаях знаковые схемы предполагают очень сложную систему интерпретаций – может быть, многоплоскостную, до 10–12 плоскостей в глубину. И все это определяется тем, насколько сложно иерархирована сама мыслительная деятельность: если она развертывается по многим плоскостям замещения и все это как предмет должно выниматься, тогда она имеет, соответственно, много интерпретаций. Но это уже речь идет о предмете и предметной организации, то есть это то, что мы сейчас обсуждаем.
А пока я задаю совершенно другое образование, а именно то, что я назвал «пространством». Тут я фактически должен был бы сформулировать одну из важнейших проблем для работы нашего семинара. Дело в том, что деятельность всегда развертывается в определенных ситуациях. Когда мы можем произвести абстракцию моей деятельности или рассматривать индивидуальную деятельность в ее проекции на сознание, то нам не особенно нужна категория пространства. Но когда начинают развертываться разные деятельности, причем через рефлексивные выходы по отношению к прошлой деятельности, когда возникают сложнейшие системы кооперации и коммуникации… Например, я сейчас проделываю какую-то деятельность. Вы стараетесь понять, что я делаю, и поэтому находитесь в принципиально ином пространстве, чем я, действующий. Если я захочу сам сообразить, что же я делаю и как это все относится к тому, как вы воспринимаете и понимаете мое сообщение, то я должен буду выйти в третий план. И возникает вот такая сложнейшая гетерархированная система. Обратите внимание на это понятие.
Представьте себе, что я осуществляю какую-то деятельность. У меня предметное отношение к этой деятельности. Теперь я вышел в рефлексивную позицию. У меня возникает соответствующая «матрешечная» иерархия. У меня возникает новое пространство. И, как мы с вами хорошо знаем, при такой организации ситуаций и актов деятельности коммуникация и вообще кооперированная деятельность становятся в принципе невозможными. Для того чтобы сложиться в человечество и развиваться как человечество, людям приходилось создавать какие-то особые формы организации совместной, коллективной деятельности. И здесь возникает – как одно из таких средств – понятие пространства.
Пространство деятельности отнюдь не трехмерное и вообще не n-мерное. Поскольку оно гетерархированное. То есть это – масса таких подпространств, или локальных единичных пространств, которые либо лежат сами по себе, либо пересекаются друг с другом, либо захватывают друг друга. И поэтому в принципе-то пространство деятельности и мышления является, как я уже сказал, таким гетерархированным, с массой вложений. А вот потом, для того чтобы привести все это к единому знаменателю, приходилось осуществлять предметизацию. Но, по-видимому, промежуточным шагом на пути к этой предметизации было задание пространства. Поначалу эти пространства были очень сложны за счет массы таких гетерогенных частей внутри них, и потом постепенно, благодаря работам Демокрита, Архимеда, Евдокса, в какой-то мере – Евклида, если он был самостоятелен, складывается представление о геометрическом пространстве, возникает представление о плоскости, о третьем измерении, уже собственно пространстве, и оно становится бесконечным. По сути дела, процедуру, которую осуществил в свое время Георг Кантор, задав бесконечность, древние греки сделали давным-давно, введя это понятие о пространстве с его развертывающимися осями.
Нечто подобное как задача стоит сейчас перед нами. Для того чтобы соотнести друг с другом эти разнотипные деятельности, надо задать понятие пространства – пространства мышления и деятельности как универсального. Не для геометрического или физического пространства, как это делал дальше Ньютон, а именно для организации деятельности.
Но как мне все это приходится делать? В принципе, поскольку я хочу говорить о мыслительной работе, о мышлении, я ведь должен задать пространство именно для того, что создается первоначально субстанцией мышления, – для рефлексии. Ибо мы понимаем сейчас, что мышление рождается из рефлексии. Мышление – это особая, превращенная форма рефлексии. Значит, я должен все это задать для рефлексии, и поэтому я проделываю в этом смысле довольно сложный трюк: я задаю эту объемлющую систему, границу, прорезающую пространство рефлексии, и говорю все время о пространстве рефлексии, мышления и т. д. Но на самом-то деле я рисую лишь плоскую картину, в которой все это лежит.
Что я этим самым фиксирую? Практически границу между моей рефлексией и теми деятельностями, по поводу которых я рефлектирую, или иначе: между рефлексией и рефлектируемыми деятельностями. Если я начинаю осуществлять рефлексию и захватываю различные прошлые деятельности, то у меня получается на пересечении моей рефлексии с этими деятельностями как бы срез – все то, что я захватил, здесь каким-то образом лежит. А рефлексия задается моими движениями, в частности процессом рассуждения. Я как бы двигаюсь в этом пространстве рефлексии, переходя от одного к другому.
В принципе, я мог бы положить эти ядра впритык одно к другому. Тогда бы я сказал, что рефлексия надстраивается как бы над этими ядрами. А она ведь (в нашем представлении) обладает и той возможностью, что она имитирует то, что происходит там [внутри]. Поэтому фактически рефлексия – это такая субстанция, грубо и образно говоря, которая проходит над, но может проходить и внутрь. И больше того, она сама по себе развертывается поверх.
Поэтому смотрите, как мне приходится говорить… Вот я работаю сначала в некоторой структуре деятельности или, предположим, в предмете. Но ведь я, кроме того, могу выйти и начать работать над этой деятельностью и по поводу этой как бы предметно организованной деятельности. А потом я могу опять вернуться сюда – назад, причем вернуться либо реально, то есть спустившись в эти структуры, либо в рефлексии – за счет имитирующих процедур.
‹…› Разработка проблемы и метода идет если не параллельно, то, во всяком случае, совместно продвигаясь вперед. Поиски метода становятся одной из важнейших задач исследования. Метод в таких случаях является одновременно предпосылкой и продуктом, орудием и результатом исследования. ‹…› Метод должен быть адекватен изучаемому предмету. Детская психология не знала, как мы утверждали выше, адекватного подхода к проблеме высших процессов. Это значит, что она не имела метода для их исследования. Очевидно, что своеобразие того процесса изменения поведения, который мы называем культурным развитием, требует глубоко своеобразных методов и способов исследования. Знание своеобразия и сознательное отправление исследования от этого пункта является первым условием адекватности метода и проблемы, поэтому проблема метода есть начало и основа, альфа и омега всей истории культурного развития ребенка» (Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Выготский Л. С. Сочинения в 6 т. Т. 3. Проблемы развития психики. М.: Педагогика, 1983. С. 41–42).
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе