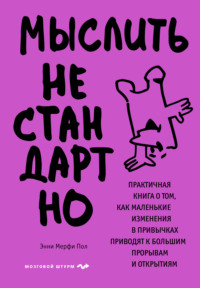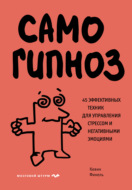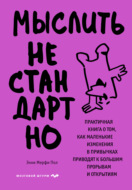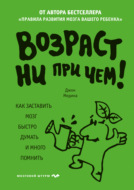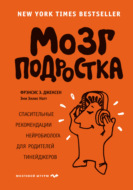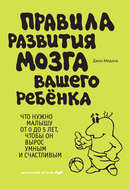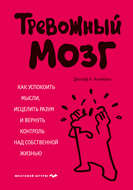Читать книгу: «Мыслить нестандартно. Практичная книга о том, как маленькие изменения в привычках приводят к большим прорывам и открытиям», страница 4
Что-то пошло не так, попробуйте зайти позже
569 ₽
Начислим
+17
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программеЖанры и теги
Возрастное ограничение:
16+Дата выхода на Литрес:
28 января 2025Дата перевода:
2025Дата написания:
2021Объем:
410 стр. 1 иллюстрацияISBN:
978-5-04-216862-8Переводчик:
Издатель:
Правообладатель:
ЭксмоВходит в серию "Психология. Мозговой штурм"