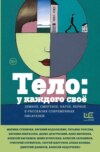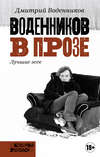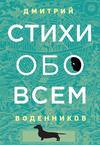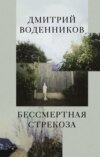Читать книгу: «Иван Бунин. Жизнь наоборот», страница 2
Она не захочет, чтобы кто-то видел его лицо после смерти, – и закроет ему лицо платком. Но для доктора делает исключение.
…Она приоткрыла платок с лица покойника, и я в последний раз увидел красивое лицо, ставшее вдруг чужим и спокойным, точно он что-то увидел, что разрешило ему ту загадку смерти, которая мучила его в жизни.
3
Иногда смотришь на людей, и они тебе кажутся прозрачными, и ты как будто видишь, что там у них внутри, в душе, плещет. Как у той ведьмы Гоголя, которая затесалась в хор ночных прозрачных утопленниц, но что-то у нее внутри чернеет. Может, эта загадка смерти и была тем, что так мучило Бунина, – и поэтому он тоже все время выглядывал в человеке: что же там конкретно темнеет в нем?
Мы тоже так делаем, и это часто несправедливо – но такая уж у нас всех мизантропия. Но Бунин тут, конечно, превзошел всех нас, вместе взятых, даже стал интернет-мемом. («Я ничего не понимаю в кранах, – говорю я продавцу в отделе сантехники, – мне тут написали, что я должен купить, вы мне поможете?» Где я, а где краны? «А то я пишу книгу про Бунина, а у меня как раз кран потек», – продолжаю жаловаться я. «А, это тот, который всех поливал?» – вдруг радуется продавец. Где кран, а где Бунин?)
Мы все помним, что он говорил.
О Куприне (хотя вроде дружили):
Перечитываю Куприна. Какая пошлая легкость рассказа, какой дешевый бойкий язык, какой дурной и совершенно не самостоятельный тон.
Бунин сам признавал неровность их взаимоотношений – правда, перевел тут фокус («фокус-покус») с себя на товарища:
Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то был со мной весел, нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от тебя в глазах рябит, одно ценю: ты пишешь отличным языком, а кроме того – чудесно верхом ездишь…»
Вера Николаевна, тоже переводя стрелки на Куприна и привлекая для сравнения авторитет самого Достоевского, писала:
…Отношения Куприна к Бунину были очень непростые, тут понадобился сам Достоевский, чтобы все понять. Диапазон был большой: от большой нежности к раздраженной ненависти, хотя в Париже все было смягчено.
Но ужалить (укусить) Бунин мог, как та змея, которой он сам так страшился.
Любивший иногда хваcтаться своим дворянским происхождением, как-то сострил за столом, когда разговор зашел о родовитости, на реплику Куприна, что и у того мать была княжна Кулунчакова: «Да, но ты, Александр Иванович, дворянин по матушке».
Куприн побледнел, взял со стола серебряную чайную ложку и стал сжимать ее в руках до тех пор, пока она не превратилась в бесформенный комок. После чего молча швырнул все, что осталось от ложки, в противоположный угол комнаты.
Забыть неудачную остроту Куприн Бунину уже не смог.
Известная пародия на Бунина «Пироги с груздями» у Куприна начинается так:
Сижу я у окна, задумчиво жую мочалку, и в дворянских глазах моих светится красивая печаль. Ночь. Ноги мои окутаны дорогим английским пледом. Папироска кротко дымится на подоконнике. Кто знает, может быть, тысячу лет тому назад так же сидел и грезил и жевал мочалку другой, неведомый мне поэт?
А заканчивается такими двумя абзацами (ну а что? И правда, смешно, там даже условная «резеда», которую так тонко мог уловить в воздухе Бунин, мелькнет, только уже под видом других цветов):
Я возвращаюсь в свою печальную комнату. Из сада пахнет дягилем и царскими петушками. Меланхолично курлыкает на пряслах за овинами бессонная потутайка. Отчего у меня болит живот? Кто знает? Тихая тайная жалость веет на меня незримым крылом.
Все в мире непонятно, все таинственно. Скучный, вялый и расслабленный, как прошлогодняя муха, подхожу я к двери, открываю ее и кричу в зловещую темноту:
– Марфа, иди сюда!.. Натри меня на ночь бобковой мазью…
Счет «один-один», как сказал бы какой-нибудь футбольный болельщик.
Но и всех остальных Бунин даже не пробует, не пытается пожалеть.
О «Петербурге» Белого Бунин вроде бы говорил: «Ничтожно, претенциозно и гадко».
Судя по записям в дневнике, Бунин вообще не переносил Белого. Есть у него, в частности, и такое:
Ходил к Шестовым. Дождь, пустые темные рабочие кварталы. Он говорит, что Белый ненавидит большевиков, только боится, как и Ремизов, стать эмигрантом, отрезать себе путь назад в Россию. «Жизнь в России, – говорит Белый, – дикий кошмар. Если собрались 5–6 человек родных, близких, страшно все осторожны, – всегда может оказаться предателем кто-нибудь». А на лекциях этот мерзавец говорит, что «все-таки» («несмотря на разрушение материальной культуры») из России воссияет на весь мир несказанный свет.
Не щадит и Алексея Толстого, хотя сперва относился к нему неплохо:
Кончил «Восемнадцатый год» А. Толстого. Перечитал? Подлая и почти сплошь лубочная книжка. Написал бы лучше, как он сам провел 1918 год! В каких «вертепах белогвардейских»! Как говорил, что сапоги будет целовать у царя, если восстановится монархия, и глаза прокалывать ржавым пером большевикам… Я-то хорошо помню, как проводил он этот год, – с лета этого года жили вместе в Одессе. А клуб Зейдемана, где он был старшиной, – игорный притон и притон вообще всяких подлостей!
Так Бунин говорит о второй части трилогии «Хождение по мукам». Хотя раньше он и отмечал у Толстого редкую талантливость, и даже называл первоклассным работником1, но простить тому возвращение в 1923 году на родину и популярность в Советском Союзе, по-видимому, не смог.
Константин Симонов, встречавшийся с Буниным в Париже, потом запишет:
После ‹…› предварительного злого пассажа в адрес Толстого Бунин много и долго говорил о нем. И за этими воспоминаниями чувствовалось все вместе: и давняя любовь, и нежность к Толстому, и ревность, зависть к иначе и счастливей сложившейся судьбе, и отстаивание правильности своего собственного пути.
И все-таки, справедливости ради, придется признать: когда в 1935 году Бунин прочтет начальные главы «Петра I», то отправит записку в редакцию «Известий» (тут опять много вопросов: в «Известия»? Эмигрант Бунин? Советскому теперь писателю Алексею Толстому? А не опасно ли было так делать?): «Алешка, хоть ты и сволочь, мать твою, но талантливый писатель. Продолжай в том же духе».
Впрочем, доставалось от злого языка Бунина не только современникам.
В 1944 году Бунин перечитывает Гоголя и пишет о нем в дневниках резкое:
Нестерпимое «плетение словес», бесконечные периоды. «Портрет» нечто соверш[енно] мертвое, головное. Начало «Носа» патологически гадко – нос в горячем хлебе!
Бедный Гоголь прочел сразу же где-нибудь на небесах (рукописи-то не горят), что Бунин счел возможным сказать про его незавершенный роман «Рим»: «Задыхаешься от литературности и напыщенности». Нос Гоголя покраснел от досады где-то в райских кущах и даже чихнул.
Николай Васильевич, дорогой, вы же хороший, не зовите под ваше райское древо Федора Михайловича, не давайте ему запретный плод бунинских дневниковых записей. А то Федор Михайлович проиграется потом в небесных казино в пух и прах (ангельский пух и бывший земной прах) – от послесмертной досады.
Понемножку читал эти дни «Село Степанчиково». Чудовищно! Уже пятьдесят страниц – и ни на йоту, все долбит одно и то же!..
И там же:
Пошлейшая болтовня, лубочная в своей литературности!
Но вот, кажется, невозможное: ну не мог Бунин не ценить Чехова, они же так близки серебристой (я сначала написал «замшевой», но стер – замша не из нитей, а они мне потребуются через шесть слов) изнанкой своей прозы, она из похожих нитей плетена, что-то есть в их словах родственное, к тому же в молодости Бунин Чехова любил и ставил очень высоко. Они ведь почти дружили, переписывались, периодически встречались, Бунин даже писал про Чехова книгу (правда, не дописал). Однако:
Сколько чепухи, нелепых фамилий сколько записано – и вовсе не смешных и не типичных – и какие всё сюжеты! Всё выкапывал человеческие мерзости! Противная эта склонность у него, несомненно, была.
(Вот оно, то, что чернеет, темнеет – в том числе и внутри Чехова.)
Не очень нравится ему и «Дядя Ваня». «В общем, плохо. Читателю на трагедию этого дяди, в сущности, наплевать». А пьесу «Вишневый сад» Бунин и вовсе называет самым плохим чеховским произведением.
Хотя лучшее про «море было большое» подарил нам в память о Чехове именно Бунин.
Я поблагодарил за приглашение, и мы молча прошли всю набережную и сели в сквере на скамью.
– Любите вы море? – сказал я.
– Да, – ответил он. – Только уж очень оно пустынно.
– Это-то и хорошо, – сказал я.
– Не знаю, – ответил он, глядя куда-то вдаль сквозь стекла пенснэ и, очевидно, думая о чем-то своем. – По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом… Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку…
И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:
– Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно.
Ну а про декадентов-современников лучше и не говорить. Их в дневниках Бунин сильно недолюбливал, хотя в реальной жизни общался и как будто опять-таки дружил. (Удивительная эта способность – разводить свои «дневную» и «ночную», дневниковую, стороны.)
Так, например, о Зинаиде Гиппиус:
Перечитываю стихи Гиппиус. Насколько она умнее (хотя она, конечно, по-настоящему не умна и вся изломана) и пристойнее прочих – «новых поэтов». Но какая мертвяжина, как все эти мысли и чувства мертвы, вбиты в размер!
А попозже и совсем припечатал:
Дочитал Гиппиус. Необыкновенно противная душонка, ни одного живого слова, мертво вбиты в тупые вирши разные выдумки. Поэтической натуры в ней ни на йоту.
Еще называл ее стихи «электрическими».
(Однако удивительная вещь. Мы уже вспомнили, что Бунин не терпел, ненавидел похороны. Даже родителей в последний путь не проводил. Но Зинаиде Николаевне была оказана особая честь: когда Зинаида Гиппиус в 1945 году умерла, Бунин не отходил от ее гроба ни на минуту, все время его с ней прощания.)
И только Льву Николаевичу в этом «пантеоне» дневниковых записей выпала неразменная золотая монета удачи – его Бунин почти не ругал.
В том-то и дело, что никому, может быть, во всей всемирной литературе не дано было чувствовать с такой остротой всякую плоть мира прежде всего потому, что никому не дано было в такой мере и другое: такая острота чувства обреченности, тленности всей плоти мира, – острота, с которой он был рожден и прожил всю жизнь. Chair a canon, «мясо», обреченное в военное время пушкам, а во все времена и века – смерти!
Так вот опять этот гладкий камешек, что, оказывается, он в «своем» (и «нашем») Толстом любил. Чувствовал через текст кожей, рукой своей всей, чистой, сильной и маленькой, чувствовал. Никак не хотел отпустить.
В одном из своих интервью он даже сказал: «Для меня был богом Л.Н. Толстой».
(Ну, богом не богом, но немного укусил и Толстого. Последняя часть «Карениной» Бунину не нравилась:
…Слаба, даже неприятна немного; и неубедительна. Помнится, и раньше испытывал то же к этой части… Дочитал «Каренину». Самый конец прекрасно написан. Может быть, я ошибаюсь насчет этой части. Может быть, она особенно хороша, только особенно проста?
А однажды даже сказал, что отредактировал бы эту толстовскую вещь. То есть убрал бы из Толстого «слишком Толстого». Сделал бы ее по-бунински. Даже смешно. Отредактированный бог. Хорошее, кстати, название для какой-нибудь части книги. Но в моей книге нет никаких названий для главок – только медленно тикающие, как у заторможенного Белого Кролика в «Алисе в стране чудес», часики: цифры.)
4
Итак, Вера Николаевна и еще несколько человек входят в столовую и садятся вокруг стола. Она позже скажет про эти минуты, что они были «жуткие».
Они садятся вокруг стола, и она попросит: «Дайте мне собраться с силами». Потом минуты три все молчат.
Минута первая.
Наверное, она могла вспомнить, как около десяти вечера они остались вдвоем. Бунин попросил ее почитать ему письма Чехова. «…Мы вторично прочитывали их, и он говорил, что нужно отметить. ‹…› Дочитала до письма к В.Н. Ладыженскому 4 февраля 1899 года».
Нам интересно, что это за письмо. Какой последний текст жил для уже умирающего Бунина.
Вот оно:
В.Н. ЛАДЫЖЕНСКОМУ
4 февраля 1899 г. Ялта.
Милый друг Владимир Николаевич, член губернской земской управы, здравствуй! Vive monsieur le membre d'hôtel de zemstvo gouvernemental!! Vive la Penza! Vive la France!
Большое тебе спасибо, что вспомнил и прислал письмо. Ты не ошибся, здешние почтальоны знают меня и аккуратно доставили письмо твое по адресу: Ялта. И впредь пиши по этому адресу. Вполне достаточно. Я в Ялте, по-видимому, поселюсь здесь и уже строю себе дачу для зимовок, и уже приглашаю к себе приятелей и друзей, и даю при этом клятву, что на своей крымской даче я не буду заниматься виноделием и поить своих друзей красным мускатом, от которого на другой день рвет. Не подумай, что я намекаю на Тихомирова, это я вообще. Зимою я буду жить в Ялте, летом же, начиная с апреля, в Серпуховском уезде, в Мелихове. Итак, приезжай в Мелихово: там, обедая, я приглашу тебя в Крым. Караси мои здравствуют и уже настолько созрели, что хочу дать им конституцию.
Здоровье мое довольно сносно; все еще не женат и все еще не богат, хотя Маркс и купил мои произведения за 75 тыс‹яч›. Возникает вопрос: где деньги? Их не шлют мне, и, по-видимому, мой поверенный Сергеенко пожертвовал их на какое-нибудь доброе дело или, по совету Л.Н. Толстого, бросил их в печь.
Вукол здесь, собирается тебе писать. Он здравствует и держится бодро. Третьего дня он приготовлял собственноручно макароны, варил их в двух бульонах, вышло очень вкусно. Говорит, что уедет не скоро, не раньше поста.
Я рад, что ты организуешь книжный склад и повторительные курсы. Все-таки доходишка. На одно жалованье нынче не проживешь. Пришли и нам с Вуколом чего-нибудь, например битых гусей. Служи беспорочно, помни присягу, не распускай мужика, и если нужно, то посеки. Всякого нарушителя долга прощай как человек, но наказывай как дворянин.
Ну, будь здоров, счастлив и удачлив в делах своих. Не забывай, пиши, пожалуйста, пиши, памятуя, что живу я в чужой стороне не по своей воле и сильно нуждаюсь в общении с людьми, хотя бы письменном. Буду ждать посвященную мне вещь.
Ну-с, жму руку.
Твой А. Чехов.
Адрес Вукола:
Ялта, д. Яхненко.
Зачем это письмо Бунину? Что ему за дело, сейчас уходящему, ему, которого всего «уж тени покрывали», что ему за дело до всех этих макарон в двух бульонах, до битых гусей, до Льва Толстого, до конституции карасей?
Или это письмо так и не было прочитано вслух? «Дочитала до…»
Смерть – она странная, у нее свои игры с забираемыми.
Сразу по упомянутому последнему чтению вспомнилась история смерти самого уже Чехова.
Он ведь умирал в Баденвайлере, в ночь с 14 на 15 июля 1904 года, в гостинице. И к нему тоже вызвали врача. Когда врач прибыл, то поднялся на второй этаж, плохо освещенный, и тут и увидел Чехова. Возможно, не говорящий по-русски врач даже не знал, кто это такой, этот Tschechow.
Врач никогда не узнает о том, что в этом вре́менном пристанище, в своем номере, постоялец до его прихода сильно метался в бреду, разговаривая в ярком тумане с каким-то японским матросом, и вдруг несколько раз явственно повторил слово «устрицы».
Потом, когда резко очнулся, сам и послал за врачом.
Но что это было? Откуда там – в этом тумане – взялись непонятные устрицы? Какие-то дурные рифмы судьбы, о которых Чехову будет уже не узнать.
Доктор приедет и сразу станет его успокаивать, как будто тут можно хоть кого-нибудь, повторим мы в который раз, успокоить; потом попросит принести шампанского.
Чехов сразу все понял. «Я умираю». Он этого не сказал, но, скорее всего, так подумал. Чехов же врач, и он знал эту традицию.
«У постели умирающего коллега-врач непременно предложит шампанского, чтобы сделать уход того более легким и светлым».
Чехов выпьет шампанское, скажет, что давно этого не делал, повернется – и вот Чехов умер.
В этот момент Ольга Леонардовна даже не заметит, что он перестал дышать. (Потом так же произойдет и с Буниным. Точного времени его ухода любящая женщина не почувствует – мы и не должны этого: слишком уж любим.)
И тут в комнату невесть откуда влетит сумасшедшая бабочка: огромная, черная и ночная. Она и станет судорожно метаться тревожной тенью, обжигая крылья о стекло электрической лампочки. Ольга Леонардовна примется ее выгонять. Как будто это смерть, но, может, это просто душа Чехова обернулась бабочкой? И именно ее и выгоняла тогда ничего не подозревающая О.Л.?
Но шампанское, бабочка – тут как раз все понятно. Но эти устрицы, устрицы, привидевшиеся в ярком тумане, весь этот повтор судьбы – вот что было удивительным, как будто специально написанным каким-то небесным прозаиком.
Как мы все помним, Чехова привезли хоронить из Баденвайлера, маленького курортного городка на юге Германии, в Москву в вагоне для устриц. Там, в вагоне, был лед. Чехов же умер летом, 15 июля, а везти было долго, других холодильников двадцатый век еще не придумал. Но все равно это какой-то бунинский «Господин из Сан-Франциско».
И эти устрицы всем долго еще не давали покоя. Например, Горький писал:
Я так подавлен этими похоронами, ‹…› хожу, разговариваю, даже смеюсь, а на душе – гадко, кажется мне, что я весь вымазан какой-то липкой, скверно пахнущей грязью, толстым слоем облепившей и мозг, и сердце. Этот чудный человек, этот прекрасный художник, всю свою жизнь боровшийся с пошлостью, ‹…› Антон Павлович, которого коробило все пошлое и вульгарное, был привезен в вагоне «для перевозки свежих устриц» и похоронен рядом с могилой вдовы казака Ольги Кукареткиной.
Видим, что досталось и Кукареткиной. Ничего никому плохого, возможно, не сделала: жила как умела, выгоняла ночных бабочек, иногда по праздникам выпивала недорогого «шипучего», в обычные дни стряпала у плиты; была, вероятна, верна мужу, родила ему много детей, потом муж умер, потом и она умерла – и стала поводом для устного фельетона. Всего лишь из-за смешной фамилии. «…И похоронен рядом с могилой вдовы казака Ольги Кукареткиной».
Но даже Кукареткиной этих устриц, как тему, не побороть, не переплюнуть. Этих несчастных устриц, точнее, вагон для них.
Мне положительно нечего делать, и я думаю только о том, что бы мне съесть и что выпить, и жалею, что нет такой устрицы, которая меня бы съела в наказание за грехи.
Так написал Чехов в письме врачу Николаю Оболонскому 5 ноября 1892 года (вот это письмо и было бы кстати – для прощального чтения Бунину вслух, но нет, письмо было про Вуколу, карасей и «не распускай мужика»), написал и еще не знал, что эти устрицы придут провожать его в белом предсмертном тумане – за все существующие и несуществующие его, чеховские, грехи. Это, конечно, очень важно – как мы уходим. Последняя точка. Жаль, что именно ее мы не успеем прочитать и поставить. Так и умрем – с незаконченным предложением.
Минута вторая.
Возможно, Вера Николаевна могла вспомнить (хотя, скорее всего, просто сидела и думала в очевидном душевном окостенении: «Нет его, нет, умер, умер»), как «Ян» ей сказал в момент чтения того самого чеховского письма: «Ну довольно: устал».
«Ты хочешь, чтобы я с тобой легла?» – спросила она.
«Да…»
Она пошла раздеваться, накинула легкий халатик.
Он стал звонить (видимо, в колокольчик – или там сделали специальную кнопку?): «Что ты так долго?»
И дальше произойдет то, что меня всегда поражало.
«Но ведь нужно и умыться, и кой-что было сделать в кухне».
Человек умирает, а мы еще делаем наши бессмысленные, автоматические дела. Убираем что-то на кухне, чистим зубы, моем лицо.
Затем, это было 12 часов, я, вытянувшись в струнку, легла на его узкое ложе. Руки его были холодные, я стала их согревать, и мы скоро заснули. Вдруг я почувствовала, что он приподнялся, я спросила, что с ним. «Задыхаюсь», «Нет пульса… Дай солюкамфр». Я встала и накапала двадцать капель… «Ты спал?» – «Мало. Дремал»… «Мне очень нехорошо». И он все отхаркивался. «Дай я спущу ноги». Я помогла ему. Он сел на кровать. И через минуту я увидала, что его голова склоняется на его руку. Глаза закрыты, рот открыт. Я говорю ему – «Возьми меня за шею и приподнимись, и я помогу тебе лечь», но он молчит и недвижим…
Конечно, в этот момент он ушел от меня… Но я этого не поняла и стала умолять, настаивать, чтобы он взял меня за шею. Попробовала его приподнять, он оказался тяжелым. И в этот момент я не поняла, что его уже нет. Думала, обморок. Я ведь в первый раз в жизни присутствовала при смерти2.
(Она, как и Ольга Леонардовна, не заметила сам момент перехода.)
Но оказалось, что умер не только Бунин, но еще и телефон. Она кинулась в другую комнату, схватила аппарат, перенесла в кабинет, а он мертвый.
Тогда я побежала на седьмой этаж к нашему близкому знакомому… Стучу и громким шепотом умоляю: «Николай Иванович, кажется, Иван Алексеевич умирает…» Он вышел в халате и сказал, что сейчас придет. Я опрометью кинулась к себе. Ян был в той же позе. Взяла телефон, не реагирует… В это время вошел Н.И. Введенский, и мы подняли и положили Ивана Алексеевича на постель. Но и тут мне еще не приходило в голову, что все кончено. Я кинулась к Б.С. Нилус, которая живет напротив нас. Мне было неприятно беспокоить ее, так как она сама нездорова, но я все же позвонила. Она сейчас же проснулась, и я кинулась к телефону, но телефон не работал. ‹…› Телефон вдруг очнулся, и я позвонила: «Владимир Михайлович, вы необходимы!»
И вот телефон жив, а Бунин нет.
Они пытаются с Б.С. Нилус отогреть его холодные руки и ноги, у самой Веры Николаевны уже почти нет надежды, но Нилус все время повторяет: «Он теплый, спина, живот, только руки, руки холодные…»
Кипятят воду, кладут грелки к конечностям. Все бесполезно. Черная бабочка уже улетела.
Дверь входная открыта, в ее проеме появляется с испуганными глазами бледный Зёрнов, проходит прямо в комнату Бунина. Вера Николаевна почему-то остается стоять в столовой.
Через минуту он выходит. «Все кончено». Она идет к постели. «А вы прикладывали зеркало?..» – «Не стоит…» (Вот оно и еще раз тут появилось – зеркало.)
Минута третья.
Это ведь никак не доказать, это всего лишь прием (разделить эти три минуты на вспышки, пятна воспоминаний), но почему-то кажется, что третью минуту Вера Николаевна уже ничего не вспоминала, даже не хотела помнить. Жизнь остановилась, покачнувшись, и вот опять пошла. Третья минута могла быть этим переходом, коридором. Туман, белый яркий туман, только он не предсмертный, а преджизненный – перед новой жизнью, уже «без», но надо из него выходить: еще столько дел.
На рассвете первой ночи мы встретили густой туман, который закрыл горизонты, задымил мачты и медленно возрастал вокруг нас, сливаясь с серым морем и серым небом. ‹…› Туман тесно стоял вокруг, и было жутко глядеть на него. Среди тумана, озаряя круглую прогалину для парохода, вставало нечто подобное светлому мистическому видению: желтый месяц поздней ночи, опускаясь на юг, замер на бледной завесе мглы и, как живой, глядел из огромного, широко раскинутого кольца. И что-то апокалиптическое было в этом круге… что-то неземное, полное молчаливой тайны, стояло в гробовой тишине, – во всей этой ночи, в пароходе, и в месяце, который удивительно близок был на этот раз к земле и прямо смотрел мне в лицо с грустным и бесстрастным выражением3.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе