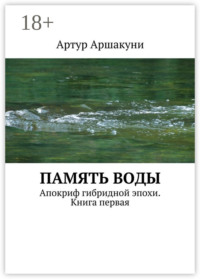Читать книгу: «Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга первая», страница 4
Глава четвертая
Мануил
Утром, после молитвы и завтрака, Иошаат, одевшись в самое приличное и взяв младенца в новых белых пеленах, отправился исполнить установление закона.
Проводив его, Мириам осталась одна, впервые с ужасной ночи в овечьем загоне, от которой в ней навсегда поселилась обреченность. А сейчас она впервые ощутила пугающую пустоту у сердца вместо привычного тепла младенческого тела, и мысль о том, что может случиться с ним – с ним, единственным, – ужаснула ее. Разные люди появлялись на постоялом дворе, и, хотя она редко выходила из комнаты и еще реже общалась с посторонними, тревожные новости не миновали и ее. Бет-Лехем – крохотная заплата на плащанице Израиля, но и сюда докатывались отголоски гремевших в Иевусе раскатов: безумств старого тирана, которого одни считали царем по недоразумению, а другие – по попустительству римлян, а вернее, римских мечей. Мириам слышала, как Иошаат повторял ей несколько раз в разговорах услышанное от других: раб Хасмонейский. У избранного и возлюбленного Богом народа оказалось слишком много пастырей: каждый обученный грамоте мог найти у пророков подтверждение своей точке зрения; терпение боролось с нетерпением, гнев наталкивался на смирение, любовь переплеталась с ненавистью в один глухой мученический стон: доколе, о Господи?
Ходили слухи о канаитах, призывающих к открытому бунту, взявшихся за мечи то в одном городе, то в другом. Чаще других называли Сепфорис, и Мириам было больно видеть, как тревожился Иошаат, ибо совсем рядом была его Назира, его дом и дети: пастухам с горы Фавор хорошо виден дым от домашних очагов Сепфориса.
Ходили слухи о скором Мессии, который освободит Израиль. Спорили, куда повернет Он свой меч: против римлян или против ненавистного Хасмонейского раба? Иошаат строго-настрого приказал Мириам ни единым словом не проговориться о тайне рождения их младенца и не участвовать в подобных разговорах: что будет – будет, на все воля Его. Хотя Мириам замечала, как сдерживает Иошаат переполняющую его радость, когда услышанные слова пророков чудесным образом совпадают с его мыслями, исподволь подсказывая ему: Он! Он!
Где они сейчас? Все ли ладно? Что-то долго: солнце повернуло на вторую половину дня, а их все нет и нет.
А что ты сама, Мириам?
Ты, Мириам, избрала своей судьбой страдание. Рабство миновало тебя, но страдания иного рода ждут тебя. Готова ли ты к ним? Ты пережила ужасную потерю той ночью, ночью родин, – окончились ли твои страдания?
Нет, ибо мне страшно. Боль первой потери переплавилась в страх перед второй – и последней.
Чего будут стоить твои страдания, если ты лишишься его? Ничего не будут стоить, ибо тогда я умру.
Значит, твои страдания связаны не с твоим спасением, а с сыном твоим? Нет, страдания мои связаны не с моим спасением и не с сыном моим, а со спасением сына моего.
А как же твое спасение, Мириам?
Мое спасение, – это мой сын.
И когда раздались за дверью шаги Иошаата, которые она уже научилась отличать от других, слезы облегчения навернулись ей на глаза.
Вошел Иошаат с младенцем на руках, усталый, но довольный свершившимся.
– Мириам! Опять плачешь, эй-вай, тутовое дерево22?
Мириам приняла у него из рук сына, распеленала, поцеловала родинку на левом плече и склонилась над ним, чтобы скрыть нечаянные слезы, слезы радости.
Действительно, они льются из моих глаз по любому поводу!
Иошаат расхаживал по комнате, выискивая кувшин и чашу, плеснул себе вина и возгласил:
– Исполнился завет Бога нашего Израиля, и сын твой, жена, принесен Ему, чтобы получить перед ним и Израилем отныне имя свое – Мануил. Радуйся, Мириам!
Мириам непроизвольно зашептала несущие успокоение слова малой тефиллы:
– Твори волю Твою в вышних на небесах и даруй благоволение боящимся Тебя на земле. Аллилуйя!
– Аллилуйя! – подхватил Иошаат.
Он был счастлив.
Наконец-то Мириам улыбнулась, наконец-то она приняла из его рук в свои – сына, Мануила, наконец-то он может вздохнуть свободно. И все будет хорошо.
Так. Так! Мануил уже сейчас начинает приносить счастье.
Он плеснул себе еще в чашу.
За дверью послышались шаги, шаги многих людей, и они все ближе. Иошаат встревоженно поднялся с места.
Открылась дверь, и Иошаату предстал равви Менахем. Он был явно чем-то взволнован.
– Равви Менахем? – удивленно воскликнул Иошаат. – Что привело тебя сюда, если мы совсем недавно расстались, совершив богоугодное дело?
– О Иошаат бен-Иаков, – сказал равви Менахем, – важные гости посетили меня после этого, и вот – я привел их к тебе.
Он посторонился, уступая дорогу, и в комнату вошли двое мужчин. С их приходом комната сразу сделалась какой-то маленькой и невзрачной. Одежда вошедших, их походка и манеры выдавали в них столичных людей.
Иошаат указал им на скамью и сам сел напротив. Гости важно расселись. Равви Менахем скромно устроился сбоку. Мириам со своего ложа встревоженно оглядывала незнакомцев, прижимая к себе Мануила.
– Мир тебе, Иошаат! – отрывисто сказал один из гостей, молодой щеголь в дорогой, тонкого покроя одежде, по которой в нем даже без талита и тефиллина можно было узнать представителя храма Иевуса. – Меня зовут Гаиафа, – и добавил, не удержавшись, после короткой паузы, – зять Ганана бен-Шета.
Иошаат молча склонил голову, хотя имя это ему ничего не говорило. Только равви Менахем часто-часто закивал, смиренно прижав руки к груди.
Кто же не знает Ганана бен-Шета, члена Санхедрина, одного из вероятных преемников Иоазара бен-Боэта, Первосвященника Израиля!
– А это – Рувим, один из советников Архелая, – так же отрывисто, играя нервным, поминутно меняющимся подвижным лицом, продолжил Гаиафа, подняв тонкую, породисто-вялую руку в сторону второго гостя. Рувим, обрюзгший, высокомерный, в цветастом сирийском одеянии, слегка качнул головой, только обозначив приветствие, и неожиданно тонким, богатым оттенками голосом пропел:
– Мир тебе, Иошаат!
Равви Менахем еще торопливее закивал головой, а Иошаат, пребывая в непонятном оцепенении, так же склонил голову, машинально ответив:
– Мир и вам, гости мои.
Смущение и стыд испытывал он, видя, с какой плохо скрытой брезгливостью оглядывают гости маленькую комнату и нехитрый ее скарб: ложе в углу, деревянные скамьи, кувшин, выщербленные чаши, остатки утренней трапезы на столе. Но все пересиливало едва зародившееся, смутное ощущение тревоги, которая охватывает простого человека в присутствии людей, облеченных властью. Он вспомнил песенку, которую часто слышал на рынке от униженных жизнью нищих:
Горе мне от рода Боэта, горе от их копий!
Горе мне от рода Кантара, горе от их перьев!
Горе мне от рода Ганана, горе от их шипенья!23
Горе! Что там еще пели нищие?
Иошаат никак не мог вспомнить. Отрывистый, точно лающий голос Гаиафы вернул его к действительности:
– Из хорошего ли рода происходишь ты, Иошаат, и достоин ли ты его славы?
– Я – Иошаат бен-Иаков, из рода Давида-псалмопевца.
– Спроси любого мастерового или пастуха от Дана до Вирсавии, и услышишь, что он происходит из рода Давидова, – сказал Гаиафа, обращаясь к Рувиму.
Рувим тонко улыбнулся в ответ:
– Значит, он не только пел псалмы!
– Хорошо, Иошаат бен-Иаков из рода Давидова, – Гаиафа снова остро глянул на Иошаата, – ты, без сомнения, праведный человек, исполняешь все предписания Торы и веришь в Завет Израилю.
– Я могу подтвердить это, уважаемый Гаиафа, – подал голос равви Менахем, – ибо не далее как сегодня утром я исполнил обряд обрезания по закону Моисееву над родившимся неделю назад младенцем его и нарек его Мануилом.
Гаиафа выслушал равви Менахема, картинно изогнув бровь, и снова обратился к Иошаату:
– Не об этом ли младенце на руках жены твоей идет речь?
– Да, – сказал Иошаат, чувствуя, как внезапно заколотилось его сердце.
Я не боюсь за себя, – я боюсь за Мануила.
– Но ты не разбирал крышу дома своего при его рождении, – усмехнулся Гаиафа.
– Дом мой – в Назире, – растерялся Иошаат.
Гаиафа и Рувим обменялись быстрыми взглядами.
– Назира! – сказал со значением Гаиафа. – Галил-ха-гоим! Можешь ли ты, о равви Менахем, свидетельствовать в пользу человека из Назиры? Но не спеши с ответом, подумай как следует, пока не сверишь его со всеми заповедями Моисеевыми, а их, да будет тебе известно, числом шестьсот тринадцать! И не нарушишь ли ты, равви Бет-Лехема, словом своим хотя бы одну?
– Все заповеди Моисеевы я не назову, – дрожащим голосом сказал равви Менахем, – но повторить свое свидетельство могу, ибо согласно оно с одиннадцатью заповедями Давида: поступай честно, твори правду и говори истину, не клевещи языком твоим, не делай другому зла, не возводи поношения на ближнего, гнушайся низостью, чти богобоязненных, не изменяй клятве даже во вред себе, серебра своего не давай в рост и не принимай взяток против невинного, – закончил равви уже твердым, окрепнувшим голосом, и вновь замолчал, смиренно сложив руки на груди.
– Одиннадцать заповедей Давида знаешь ты, – задумчиво произнес Гаиафа, – и Макот знаком тебе. Ну, что ж, похвально, похвально… А ты, Иошаат из рода псалмопевца, сможешь ли ты спеть нам оттуда же шесть заповедей пророка Исайи в свое благочестие?
– Сказано: будь праведен… говори истину… – страх уже расползся по всему телу Иошаата, сковав сердце ледяным обручем и обрывая мысли. – Презирай прибыль от греха…
О Адонай, спаси Мануила от этого человека!
– Не можешь сказать… Тогда хотя бы три заповеди пророка Михея?
– Сказано: поступай справедливо… – Иошаат смешался и подавленно замолчал.
– Воистину хорошо сказано, – тонко усмехнулся Гаиафа. – А ты, жена благочестивого мужа из Назиры? – он резко повернулся к Мириам.
– Я готова к страданиям, – обреченно сказала Мириам в пустоту.
– Страдания? Киппурим? Для утешения всего Израиля, не так ли?
– Темны твои слова для меня, о высокоученый муж.
– Конечно, поэтому тебе очень нравится свет!
– Кому же может не нравиться свет, – кротко сказал равви Менахем, – если сам Господь, сотворив его, сказал, что это хорошо?
Гаиафа нетерпеливо поморщился, досадливо повел плечом.
Глупый провинциал, не понимающий тонкости изысканных словесных построений!
Азарт охотника, преследующего дичь, оставил его.
– Я обратился к тебе не за этим, женщина, – сказал он, – а чтобы услышать от тебя, что гласит одна и единственная заповедь пророка Аввакума, завершающая Макот?
– Сказано, – голос подвел Мириам, прозвучав еле слышно, но она прижала к себе Мануила и справилась с дрожью, охватившей ее, – сказано: праведный своею верой жив будет.
Гаиафа откинулся назад, нервно скрестив тонкие подвижные пальцы и еще раз оглядел эту комнату, где бедность и скудость вдвоем безуспешно пытались скрыть нищету.
Этот запах! Как они тут живут, бок о бок с верблюдами и овцами? Или это от них так пахнет? А этот местный равви, обожаемый чернью цадик, который не умеет связать двух слов и только улыбается кроткой всепрощающей улыбкой? Гиллелит, он смеет перебивать его и вставать на защиту неграмотной савеянки! Достойная жена… Сепфорис, Назира… Галил-ха-гоим! Кто же там все-таки мутит воду? Жаль, что землетрясение было таким слабым… А вот сидит он, мужлан, как там его – древодел? каменотес? пастух? – из рода Давидова. Что о нем докладывать Санхедрину? Что осел не станет львом, сколько ни пересчитывай ему зубы? Да, но Санхедрин встревожен, и надо хотя бы формально выполнить его поручение.
– Санхедрин встревожен, – сказал он и по очереди оглядел всех, – распространяющимися в народе слухами о приходе Спасителя, – он снова оглядел всех.
– Израиль давно ждет Спасителя, – осторожно заметил равви Менахем.
– Спаситель не приходит просто так, словно гость на пиршество к соседу! – резко оборвал его Гаиафа. – И Израиль спасется не раньше чем заслужит перед Богом спасение праведностью и истинным благочестием! А что касается всех самозванцев и смутьянов, волнующих народ и выдающих себя за Спасителя… – Гаиафа, приподняв бровь, многозначительно посмотрел в сторону Рувима.
– Воистину так, – кивнул Рувим, округляя щеки, – несчастный Багой24…
– Багой – не несчастный, а гнусный преступник и вероотступник! И хороший пример того, какая судьба ожидает любого лже-Спасителя. Что ты скажешь на это, Иошаат?
Иошаат побледнел, сжимая и разжимая ладони.
– Я… я даже не слышал этого имени, уважаемый Гаиафа.
Гаиафа усмехнулся.
Санхедрин, конечно, встревожен, но он, Гаиафа, знает, как его успокоить. Он знает! Он скажет: ам-хаарец, и этого будет достаточно. Но этих неотесанных древоделов, распевающих псалмы на пастбищах Галилеи со своими чающими утешения савеянками, надо поставить на подобающее им в земной иерархии место.
– Многие будут сеять смуту, – сказал он отрывисто, – пользуясь сложной обстановкой, вызванной сменой власти в стране. Многие будут вовлекать в соблазн доверчивый наш народ, говоря о Спасителе под видом магов, волшебников и прорицателей, о которых сказано:
И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам,
чтобы блудно ходить вслед их:
то Я обращу лице Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее25.
Гаиафа встал и заходил по комнате.
Здесь присутствует Рувим, один из тех язычников, которыми окружил себя наследник Архелай. Вот следствие безбожия Ирода! Архелай… Август – язычник, но умный язычник. Остались худые плоды смоковницы Иродовой. Окружать себя сирийцами… Но это кстати: сирийцу не мешает дать понять, кто обладает истинной, а не фальшивой властью в этой стране. Око Востока далеко, как и лапа Волчицы, а Храм – в часе неспешной ходьбы отсюда…
Гаиафа повысил голос:
– Сказано также:
Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец,
и представит тебе знамение или чудо,
И сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом:
«пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будешь служить им»:
То не слушай слов пророка сего, или сновидца сего;
ибо чрез сие искушает вас Господь,
Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа вашего…26
Гаиафа прервал стих на полуслове и повернулся к равви Менахему:
– Не подскажет ли мне, забывчивому, пастырь города Бет-Лехема, что сказано в Писании о пророках и сновидцах?
Ты учишь милосердию, кроткий гиллелит, но я поймал тебя!
Равви Менахем вздохнул.
– Я могу повторить слова Писания. Дальше сказано:
А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то,
что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего,
выведшего вас из земли Египетской
и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути,
по которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой;
и так истреби зло из среды тебя27.
– И так истреби зло из среды тебя! – торжественно повторил Гаиафа и, неожиданно повернувшись к Иошаату, ласково спросил:
– С кем ты общался в последнюю неделю, древодел?
Пот выступил на лбу Иошаата: он вспомнил ночных пришельцев.
Чаша и крест, – он не успел их выбросить!
– Гик… – пробормотал он. – Дик…
Иошаат беспомощно оглянулся на Мириам.
– Учителя… Пастухи…
Гаиафа ждал, наслаждаясь замешательством Иошаата.
Да, этому можно верить. Пастухи и учителя. Не с царями же ему знаться, неграмотному древоделу из самого отдаленного колена Израилева! Ему даже не выговорить слово «Дидактос»! Пусть потрепещет, это полезно и поучительно. Санхедрин может быть спокоен. Очередной ложный слух. Хотя после истории с Багоем эти слухи участились. Багой… Багой – следствие пьяных оргий, вакханалий, идолопоклонства и потоков крови от языческих жертвоприношений! Какие еще безумства выкинет сын идумеянина и египтянки, сидящий сейчас на троне? Говорят, он при смерти… Правда, так говорят последние десять лет. Тем не менее, хорошо, что здесь – Рувим, ставленник Архелая. Пусть дает советы своему господину, какую наложницу выбрать! Надо присмотреться к наследникам. Пока над воротами Храма прибит золотой римский орел, с ними придется считаться. А потом…
Гаиафа резко поднялся. За ним почтительно поднялись Рувим.
И этот любвеобильный местный равви, как его там?
Гаиафа подошел к ложу Мириам, оглядел ее и младенца, приподняв изогнутую бровь.
– Значит, Мануил? – отрывисто спросил он. – Благое имя… При Храме есть школа для мальчиков, бет-Шаммай. Твой сын обучится грамоте, станет уважаемым человеком, увидит мир – олам хаз!
– Нет! – выдохнула Мириам, побледнев от внезапно накатившего, словно удушье, ужаса. – Сын мой останется со мной! Я вскормлю и воспитаю его. Он – мое будущее!
Гаиафа поморщился.
Ам-хаарец! Воистину легче иметь дело с язычниками-римлянами, чем с собственной деревенщиной.
– Будущее? – повторил он задумчиво. – Будущее… Олам хабба? Ну, что ж, решать – тебе. И горевать – тебе.
И не прощаясь направился прочь.
Глава пятая
Шаркиины28
И встанут на пути каменистые гряды, вспарывающие песчаные барханы, уходящие туда, к закрывающим полнеба горам. Джебель-Тур29! Как вместить тебя в своем сердце? Как пройти это нагромождение песка и камней и уцелеть?
Смирись! Оставь свою дерзость для другой земли. Вмести свою жизнь, и прошлую и будущую, в один маленький скромный шаг и сделай его.
А потом сделай еще один шаг, и еще.
Только так можно пройти Джебель-Тур.
Впереди, как всегда, пойдет неприхотливый ослик, на которого взгромоздится Юнус со своими заунывными напевами, от которых, кажется, засыхают колючки на пути. За ним неторопливо пойдут пять верблюдов с глухим Али на первом из них, палатками, припасами и добром – на остальных и Иллели с Даждом на руках – на последнем. Позади верблюдов встанет конь с Бахиром на спине, кося глазом и пугливо пробуя копытом дорогу.
Всю первую половину дня Бахир будет держаться подальше от первого верблюда с погонщиком Али, поглядывая на него украдкой и затаенным, но неистребимым любопытством и ожидая какого-нибудь внезапного несчастья с ним.
Забьется ли он в падучей? Упадет ли с верблюда, припеченный солнцем? Уж эти прорицатели! Скажут себе мимоходом что-нибудь и пойдут своей дорогой, а ты знай накручивай мозги на седло: чего теперь ждать?
Но вот – солнце давно перевалит на вторую половину дня, а Али все так же будет сидеть, сгорбившись, на своем верблюде, а вокруг будет расстилаться все та же однообразная картина: камни и песок, песок и камни.
Так и есть, – шарлатан, собака и сын собаки!
Бахир пришпорит коня, одолевая небольшое всхолмие, и остановится, чтобы оглядеться. Потом махнет рукой Юнусу: привал!
Юнус издаст протяжный вибрирующий крик, хорошо понятный и ослам, и верблюдам, и маленький караван остановится. Верблюды тут же опустятся на землю, пряча головы в тень, а осел оспорит перед конем найденную былинку. Бахир прикажет палатки не ставить – привал недолгий. Просто посидеть, глотнуть воды из бурдюка, размять ноги – до чего приятно!
И сядет в сторонке Иллели стыдливо, вполоборота, склонившись над Даждом и укрыв его белокурыми волосами, и даст ему грудь, целуя время от времени в родинку на голеньком правом плече. Бахир воссядет на снятом с коня седле, а Юнус почтительно устроится перед ним прямо на песке.
– Что скажешь? – спросит Бахир небрежно, следя краем глаза все-таки за Али, хлопающего верблюдов по спинам и что-то им ласково мычащего.
– Далеко еще, хозяин?
Бахир рассмеется, довольный. Полированная кость медленно скользнет по шелковому шнурку, давая дорогу остальным.
– Не знаешь дороги? То-то же. А что ты знаешь? Ты без меня здесь – горсть песка, Юнус, и я хочу, чтобы ты знал это.
– Я знаю, – пожмет плечами Юнус.
– Хорошо. А теперь принеси-ка мне воды, – прикажет Бахир.
Юнус проворно вскочит на ноги, и в этот момент Бахиру покажется, что Али куда-то исчез.
Что такое? Куда подевался этот бессловесный верблюжий помет?
Бахир недоуменно завертит головой и наконец увидит Али. Тот почему-то ляжет среди верблюдов, прямо лицом в песок, и не будет шевелиться. Бахир захочет привстать и с ужасом заметит торчащую из спины Али короткую стрелу. Силы покинут Бахира, он рухнет кулем обратно на седло.
Рядом с ним что-то коротко тенькнет, словно встревоженная куропатка своему выводку, и такая же стрела вопьется в грудь Юнусу. Юнус взмахнет рукой с зажатым в ней кувшином и упадет, грохнув кувшин об землю, прямо под ногами Бахира. А потом ужасный крик разорвет слух Бахира, потому что третья стрела вопьется в грудь Иллели, и она поползет по песку прятаться среди камней, но не выпустит из рук Дажда с забрызганным молоком и кровью лицом. И Бахиру станет это смешно.
Потому что – вот, стрела всегда хочет напиться крови, а тут ей пришлось напиться, словно младенцу, женского молока!
Но рассмеяться Бахир не успеет, потому что над ухом у него снова коротко тенькнет куропаткой, и станет горячо и спокойно, и он поймет, что стрела, предназначенная ему, напьется досыта – и напьется крови. И он упадет с седла в песок, нелепо откинув руку с зажатыми в ней четками в сторону Иллели, и лицо его примет удивленное выражение, как будто он только сейчас понял что-то очень важное, и губы шепнут коротко и хрипло:
– Дажд!
И все будет кончено. И наступит тишина, как будто ничего не произошло, и только горестно будет постанывать Иллели, и а Дажд – тихо мяукать обиженным котенком в ее руках.
У маленького истерзанного каравана появятся всадники на тонконогих горячих лошадях, в белых одеждах и походных серых, под цвет пустыни, абах30 поверх них; спешатся и вразвалку, неторопливо пойдут осматривать добычу. Одни начнут рвать ножами тюки с товарами, другие займутся ослом и конем. Над Иллели склонятся двое: горбоносый, смуглый, в цветастом платке, и лысый, безбородый, со страшным сабельным шрамом через все лицо. Горбоносый поцокает удивленно языком, увидев стрелу, а лысый одним страшным безжалостным движением вырвет ее из груди Иллели. От боли Иллели потеряет сознание, но по-прежнему не выпустит Дажда из рук.
Она придет в себя, когда разбойники закончат перевьючивать верблюдов. Лысый с сабельным шрамом будет сидеть рядом с мертвым Бахиром на брошенным на землю седле и любовно, выдвинув челюсть и растянув губы, почесывать одним пальцем свой шрам.
– Фархад, – крикнет ему один из разбойников, – что делать с верблюдами, ослом и пленницей?
– Отправьте верблюдов и осла к их покойным родителям, – не прерывая своего занятия, ответит Фархад, – а пленницу… Грузите ее с моим добром
– Стойте! – раздастся крик.
Работа прервется.
Еще один разбойник, горбоносый в цветастом платке, бросит увязывать тюки и подойдет к Фархаду. Остальные с интересом будут слушать и смотреть. Фархад, прищурившись, посмотрит на подошедшего, продолжая почесывать шрам.
– Ты хочешь что-то сказать, Исмаил?
– Фархад, моя белая стрела долетела до каравана первой.
– Говори еще, – Фархад неторопливо примется освобождать купца Бахира от ненужных ему больше полированных четок из носорожьей кости на тонком шелковом шнурке.
– Я первый доскакал до каравана.
– Говори еще.
– По закону женщина – моя!
– Говори еще!
– Я все сказал.
– Тогда буду говорить я, – Фархад поднимется. – Закон? – он медленной струйкой посыплет песок из пригоршни на мертвое лицо Бахира. – Вот твой закон!
Фархад отряхнет ладони и пойдет со своим седлом к коню Бахира, ставшему его собственностью. Остановится внезапно, выждав паузу, обернется к Исмаилу.
– Ты – храбрец, Исмаил, но ты слишком молод, чтобы устанавливать здесь свои законы, и слишком глуп, чтобы критиковать чужие. Однако ты заслужил добычу, а я ценю храбрецов в своем отряде. Можешь взять себе младенца, он твой по праву.
Остальные засмеются, восхищенные остроумием главаря.
– Собирайтесь, дармоеды! – скомандует Фархад, и повернет свой разбойничий отряд на восток, в самое сердце Аравы.
На первом же привале Иллели покормит Дажда, плача от горя и радости. От горя, потому что из пробитой стрелой левой груди будет беспрерывно сочиться молоко пополам с кровью. От радости, потому что она все-таки сможет кормить ее Дажда правой, оставшейся невредимой, грудью. И жар, охвативший ее левую грудь, покажется ей сладостным, потому что это она, кровоточащая левая грудь, спасла жизнь ее ненаглядному сокровищу, приняв в себя направленную на него оперенную смерть. Она размотает пелены, в которые обернут Дажд, и отщипнет несколько листков от увядшей веточки, найденной ею при Дажде, когда тот проснулся от своего долгого-долгого сна на постоялом дворе, и разжует их, и приложит их к своей израненной груди, и беззвучно заплачет редкими благодарными слезами, когда боль начнет понемногу отступать и жар оставит ее31.
Разбойничий отряд будет уходить все дальше и дальше, стремительными запутанными лисьими бросками, пересохшими руслами и неразличимыми среди камней и песка тропами, отлеживаясь при свете солнца и пополняя скудные запасы воды при свете луны из редких колодцев, неизвестных даже Бахиру, который, впрочем, испил напоследок вволю песка вместо воды.
Джауф, Хаиль, Бураида32… Или это миражи? Или это миражи слов, дразнящих воспаленный язык? Или это миражи миражей?
Сколько времени это продолжалось? Имеет ли название отрезок времени, для которого все, что было – это одна жизнь, а все, что будет – это совершенно другая? Скачка, хриплое дыхание взмыленных коней, равнодушные звезды, завораживающий шепот переносимого ветром песка, глоток рыжей от пыли воды и ясный, немного удивленный взгляд широко раскрытых детских глаз.
И еще один взгляд, все чаще тревожащий Иллели, затаенный днем и открытый, соперничающий со звездами ночью, – взгляд горбоносого Исмаила. И когда надвигающаяся песчаная буря заставит Фархада остановиться и сделать привал, Исмаил перельет расплавленную сталь своего взгляда в тяжелую форму слов.
Усталые, измученные люди собьются в кучу, выставив коней в наружное кольцо. Иллели отползет под обломок скалы, чтобы покормить Дажда, и Фархад перехватит взгляд Исмаила, направленный на нее. Кривая усмешка накрест пробежит по шраму от сабельного удара на его лице, и Исмаил заметит эту усмешку. Он заметит ее, и раздует ноздри своего ястребиного носа, как жеребец, не желающий смириться с ненавистной тяжестью на своей спине. И выйдет в круг разбойников.
– Ну что, Фархад, не пора ли сказать, куда ты нас завел? Мы потеряли счет дням, звериным тропам и миражам.
– Хорошо ли ты считал, Исмаил? – насмешливо скажет Фархад, не глядя на него и продолжая неторопливо перебирать четки.
– Ты ведешь нас то на восток, то на юг, то на север, сам не зная куда. Ты мечешься, как шакал, обложенный собаками, и петляешь, как змея под ногами обезумевших верблюдов!
– Не ты ли один из этих обезумевших верблюдов, Исмаил?
Смех остальных разбойников ударит в голову Исмаилу, и он крикнет, уже не сдерживаясь:
– Если я – верблюд, тогда кто ты, Фархад, – змея или шакал?
И стихнет смех, и наступит зловещее молчание. А Фархад, невозмутимо улыбаясь, все так же лениво, словно передвигая полированные кости по шелковому шнурку, растягивая слова, ответит:
– Ступай к младенцу, Исмаил – не пора ли его кормить?
Оскорбленный Исмаил в бешенстве схватится за кинжал на поясе, но люди Фархада повиснут на его руках, валя на землю и накидывая на него веревки. А потом кинут его, обездвиженного и рычащего от ярости и унижения, под ноги Фархаду. И Фархад наступит ему на голову, забивая ему рот песком, все так же лениво говоря:
– Ты даже не верблюд, Исмаил, а сын верблюда и гиены, если у гиен бывают шлюхи. А вот кто я, тебе предоставится возможность подумать. Но думать ты будешь очень долго. И когда твою кожу выцарапает песок, а глаза выпьет солнце, может быть, ты поймешь, кто я!
И шагнет прочь от Исмаила, бросив остальным на ходу:
– Завтра, как только стихнет буря, мы уходим. Оставьте его здесь! Славное пиршество предстоит шакалам!
– Фархад, переседлать ли тебе коня Исмаила? – спросит один из разбойников.
– Нет, – покачает головой Фархад. – В трех переходах от нас – Саффания. Там мы продадим шелка и лишних коней, в том числе и клячу этого сына мидийской шлюхи.
– А невольница?
Фархад улыбнется, и снова ухмылка его пересечет сабельный шрам:
– Прошли дни ее, и грудь ее зажила. Завтра младенец останется здесь, ведь это добыча Исмаила! А на следующем привале я познаю ее.
И день перейдет в ночь, но Иллели не заметит этого, охваченная страхом предстоящего дня.
Мальчик мой! Каких богов мне умолять о твоем спасении?
Песок уже не будет шептать завораживающе, а выть издевательски: «Завтра! Завтра!», взметая вихри над чернеющим неподалеку неподвижным телом Исмаила. И когда заворочается под рукой разбуженный порывом ветра Дажд и недовольно закряхтит, Иллели примет решение.
Молчаливой тенью она скользнет к Исмаилу и начнет распутывать его от веревок, помогая себе зубами. Освобожденный Исмаил только глянет в ее бездонные глаза и молча махнет ей рукой по направлению ветра, и она поймет его, и пойдет туда, прижимая к раненой груди Дажда, но не чувствуя боли, соразмеряя шаги с порывами бури, чтобы не привлечь к себе внимание, проваливаясь по щиколотки в песок и обдирая ноги о камни.
Она найдет укрытие среди скал и затаится там, как раненая кошка, чутко вслушиваясь в визжащую ночь и прижимая к себе Дажда. Долго будет тянуться это ожидание, изводя и обессиливая ее. До нее донесется неясный шорох, короткое звяканье, глухой перестук – и снова тишина. А потом – медленные, страшные в своей неведомости звуки шагов, окружающие ее то слева, то справа. Иллели стиснет Дажда, заклиная его промолчать и не выдать себя, и обратится к небу и земле, солнцу и луне, материнскому своему молоку и теплу детского тельца в ее объятиях с просьбой избавить ее от мук, когда мрак сгустится перед нею страшными космами. Иллели задохнется от ужаса и отчаяния, но это окажется Исмаил, ведущий коня в поводу. Он молча присядет рядом, чтобы отдохнуть, а потом усадит ее с Даждом в руках на коня и поведет через нагромождение камней, держа коня за уздечку и успокаивая при порывах ветра ласковым поглаживанием морды. И когда они пройдут каменистую гряду, и смесь песка, ветра и темноты чуть поблекнет по левую руку, Исмаил легко вскочит на коня позади Иллели, повернет его налево и пустит его вскачь – на восток.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе