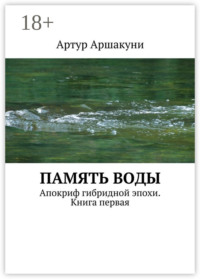Читать книгу: «Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга первая», страница 3
Глава вторая
Постоялый двор
По кривой улочке, пересекающей весь пологий амфитеатр Бет-Лехема, мимо оград и домов с укрывающими их смоковницами и шелковицей медленно шли трое пожилых мужчин в темной повседневной иудейской одежде, сопровождаемые двумя римскими солдатами. Солдаты тяготились своей работой, откровенно скучали и не пытались скрыть своего недовольства предстоящим. Один из них, старший если не по званию, то по поведению, долговязый, рыжий, широкоскулый, с колючими желтыми глазами хищника, то убыстрял шаг, недовольно оглядываясь на сопровождаемых ими иудеев, не спешащих угнаться за ним, то останавливался, подбоченясь, и провожал каждого встречного прохожего откровенным изучающим взглядом, словно выискивая объект для выражения своего раздражения. Короткая, видавшая виды туника его открывала мускулистые руки, покрытые рыжими волосами, и кривоватые, привыкшие к походам ноги в калигах с ремнями из телячьей кожи.
– Хлебное место14! – проворчал он себе под нос. – Они умудрились эти вторые Помпеи с Геркуланумом назвать «хлебным местом»! А завтра опять смена караула. Где? Ну конечно, в раю. Разве как-нибудь иначе могут называться у них эти края? Дже… Фре… Джебель эль Фередис15! Тьфу, язык сломать можно…
Несколько шагов он прошел в молчании, но, наконец, не выдержал.
– Подумай, Воган, хорошенько, – обратился он к своему напарнику, молодому темноволосому солдату, совсем еще юноше, миловидному, словно девушка, старательно подражающему старшему товарищу, – мало того, что нас перебрасывают из одной дыры в другую, так мы еще должны пересчитывать это обрезанное стадо, как овец в их овчарне!
Воган промолчал, ожидая продолжения, и не ошибся, потому что желтоглазый, лязгнув гладием, раздраженно сплюнул:
– Может быть, эти дикари умеют считать только до трех, и мы приставлены обучить их счету?
Воган рассмеялся:
– Я думаю, считают они хорошо. Особенно деньги.
– Будь я на месте Квирина, я назначил бы подати не от количества этого сброда, а от того, сколько нужно Риму. И выбил бы их до последнего обола, не будь я Вепрь! А не играл бы в дипломатические игры с их обезьяньим царем, сидящим на своей райской горе. И Сабину не пришлось бы отрывать нас от красоток Дамаска, чтобы привести на помощь – кому, Воган? – мужчине, который убоялся юбки!
– Тише, тише!
– Я говорю только то, что известно всем от Египта до Британии, – рыжеволосый снова сплюнул, зло ощерившись, – хотя ты, быть может, такой же трус.
– Я не боюсь юбок, Пантера!
– Насчет юбок, Воган, ты бы лучше помолчал или научился врать не краснея.
Воган нахмурился и покраснел еще больше. Тот, кого он назвал Пантерой, хмыкнул и хлопнул его по плечу.
– Хватит, хватит… Что тебе делать в армии, дитя? Тебя надо было назвать не Воганом, а армянским яблоком16!
Несколько шагов прошли молча. Затем рыжеволосый вновь не выдержал.
– Царь… Да… Риму хорошо известны его веселенькие дионисиады в катакомбах Бет-Лехема. Воган, тебя прислали в этот крысятник охранять вечно живого бога!
– Тише, Пантера, нас могут услышать!
– Кто? Это ученое пугало? Не смеши меня. Эй, кладезь иудейской премудрости, ты слышал что-нибудь? – обратился Пантера к одному из трех идущих следом мужчин, в котором по его одежде можно было узнать местного равви.
– Каждого из нас одолевают свои мысли, – смиренно ответил равви.
Пантера расхохотался:
– Не знаю насчет тебя, а меня точно одолевают. О, стыдливейший из Воганов! Если я тебе скажу, что у меня жажда, не верь мне. Потому что у меня – не жажда, а огнедышащий Везувий!
– Скоро ли, о почтенный бен-Иаков? – тихо спросил тем временем равви идущего рядом пожилого бородатого мужчину, с тяжелыми руками мастерового.
– Немного осталось, равви Менахем, – ответил Иошаат (ибо это был он).
Иошаату и самому хотелось побыстрее закончить неприятное дело. Не вмешайся Господень произвол в его планы, уже сегодня вечером он бы покинул город Ефраха17. Но младенец…
Теперь не тронуться с места, пока не исполнить все полагающиеся по закону обряды и не пройдут установленные дни Мириам. Завтра – обрезание. Завтра младенец получит достойное пророчеств имя перед Господом. Одной заботой меньше. Хорошо еще, хозяин Забтех переселил их из вонючего овечьего загона в относительно чистую комнату, где есть место и ему, и Мириам с младенцем.
Мириам… Ее словно подменили после родов. Молчит, не поднимает глаз, не улыбнется ни разу. И все время плачет, плачет, плачет. Молча! Просто сидит и держит младенца, а слезы капают на грудь. У нее, наверно, груди полны слез вместо молока, потому что младенец все время выплевывает грудь и хнычет. Эй, вай, надо привезти ее скорее домой. Там, в хлопотах по хозяйству и детям, глядишь, и переменится ее настроение. А то сейчас – ни улыбки, ни песни, ни жизни, ни света.
Эх, ладно. Что об этом? Скорее бы домой! Как там дети?
Наконец, они подошли к постоялому двору. У порога сидел какой-то нищий. Пантера кашлянул, проходя мимо, потом остановился. Меч привычно вынырнул из ножен и оказался в руке.
Странно.
Обычно зловещего шелеста гладия, вынимаемого из ножен, доставало, чтобы люди шарахнулись в сторону, однако этот старик остался на месте. Да и на нищего он не похож. А глаза, глаза! Пантера слыша сказочки, которые любят рассказывать на Востоке о переодетых нищими царях, гуляющих по улицам, но, о милосердные боги, какие уж тут, в этой дыре, цари!
– Сидим, – сказал Пантера неопределенно и добавил Вогану: – Иди, начни, я догоню.
Нищий улыбнулся.
– Солнце светит одинаково рабу и властелину, старику и младенцу.
– Дураку с мечом и мудрецу в лохмотьях, – продолжил Пантера. – Верно? Договаривай, я слушаю тебя внимательно.
– Ты слушаешь меня, я слушаю тебя, а кто слушает нас с тобой обоих?
Нищий снова улыбнулся, открыто и спокойно. Это тоже было странно.
Пантера постоял, не зная, что делать, потом досадливо вздохнул.
Ладно. Почему ты решил, что он должен тебя бояться? Будь самим собой, остальное приложится.
Он убрал гладий в ножны и вошел в дом. Там гнулся и изгибался хозяин, сириец Забтех, словно ручная обезьяна, потом переменился в лице, увидев взгляд желтых глаз, и постарался куда-то скрыться.
Пантера сощурился.
Не хотел бы я искать здесь ночлега в непогоду. Такой родную мать уложит в овечьем загоне.
Забтех кланялся и пятился вглубь дома. Оттуда доносился плач и попискивание.
Что мне, больше всех надо?
– Верни мне моего ягненочка!
О боги, что это?
Он прошел вглубь жилья. Пахло затхлостью и какой-то подгоревшей едой. У ложа толпились пришедшие со стариком; Воган стоял в стороне, стараясь придать лицу внушительность. Старик бросил на него прежний свой взгляд – затаенную смесь страха и тоски.
На все твоя воля, Адонай!
Пантера повеселел. Это уже было знакомо.
Навстречу ему метнулась испуганной летучей мышью какая-то древняя старуха. Пантера поймал ее за край тряпья, в которое та была укутана, и оглядел со смесью удивления и брезгливости, как глядят на обнаруженную под камнем сороконожку:
– Как тебя зовут, если ты – не Медуза Горгона и не прямая родственница ей?
– Рученьки мои бедные, – запричитала старуха.
– Она что – сумасшедшая? – спросил Пантера у старика.
– Это – Шелима, – сказал Иошаат, мучаясь необходимостью говорить со страшным римлянином. – Приходит… помогает ухаживать за младенцем.
– Родственница?
– Что? Нет. Ничья она.
– Значит, так, – Пантера повернулся к Шелиме. – Я смотрю на тебя – раз, потом я закрываю глаза – два, потом я открываю глаза – и тебя здесь нет. Три!
Шелима, подобрав лохмотья, метнулась к двери.
– Так-то лучше, – Пантера осклабился. – Люблю, когда команды выполняются четко и беспрекословно. Иначе в Иудее при переписи недосчитались бы одной старухи, которая, впрочем, ничья. Верно, не будь я Вепрь?
Равви Менахем монотонно начал свое освидетельствование перед солдатами о том, что эти люди – древодел из Назиры Иошаат и его жена Мириам, а также их недавно родившийся младенец, еще не представленный Господу и потому не имеющий имени. Писец записал свидетельство равви.
Пантера зевнул.
Дело сделано. Скорей бы в казармы! Пока рядом есть простодушный Воган, которого можно обыгрывать в кости, ему обеспечен кувшин вина на ужин.
Затем он
О боги,
увидел Мириам
что за глаза!
и двинулся к ней.
– А ты, значит, просишь дать тебе твоего ягненочка? Воган, – Пантера подмигнул своему напарнику, – у Рима есть волчица, как тебе, должно быть, известно. А у иудеев – овечья мать. Ягненочек! Sancta mater, castusa18!
Что со мной?
Солдаты засмеялись. Пантера повернулся к старику.
– Не поделится ли секретом такой старый почтенный овен, как удалось ему сотворить этого ягненочка?
Воган захохотал преувеличенно громко, как смеются робкие, скованные люди, желая скрыть свою робость.
Ну и шутник этот Пантера!
– Нет, – Пантера продолжал развлекаться, – не верю я. Воган, по-моему, тут не обошлось без вмешательства каких-то других баранов, помоложе!
– Это – мой сын! – голос Иошаата задрожал от стыда и гнева.
– О! – сказал Пантера удовлетворенно.
Наконец-то есть повод придраться.
– Речь не овна, а волка? Волка, защищающего своего волчонка?
Иошаат промолчал.
Молчи, ибо Иошаат ты, а не Иов.
– Известно ли старому облезлому волку, – презрительно сказал Пантера, – что у Рима есть два молодых и вполне зубастых волчонка? И больше волчат ему не надо!
Иошаат вновь промолчал, раздувая ноздри, сжимая и разжимая ладони.
– А для щенков, которые не приучены к хозяйской руке, хватит римских палок. Знаешь ли ты, старик, что такое римские палки?
Пантера придвинулся к Иошаату вплотную и медленно, отчетливо сказал:
– Это – палки, сколоченные крест-накрест.
Иошаат, не выдержав, отвел в сторону глаза. Пантера удовлетворенно кивнул и повернулся вновь к Мириам.
Глупости. Я солдат.
Потом подошел поближе, хищно вглядываясь ей в глаза.
– Что-то мне припоминается…
Мириам, прижав к себе младенца, замерла под взглядом римлянина.
Молчи!
– Что-то интересное…
Мириам, дрожа, снизу вверх глядела в широкоскулое веснушчатое лицо с узкими щелями желтых глаз..
А потом Пантера резко выпрямился.
– Не помню. Какая жалость! А впрочем, Воган, знай: головешки в костре все одинаковые и одинаково обжигают руку, не будь я Вепрь. Я прав, красотка?
В это время младенец оторвался от груди Мириам и пронзительно закричал.
Пантера удовлетворенно ухмыльнулся:
– Вот видишь, я прав. Воган, нам больше нечего делать в этом клоповнике. Ты должен мне кувшин вина, забыл?
Вот так.
Солдаты с шумом и грохотом прошли в двери.
Уходя, Пантера оглянулся и снова долгим взглядом впился в Мириам.
– Нет, ничего. Идем!
За дверью у входа все в той же позе сидел нищий. Он поднял голову, оглядывая проходящий мимо солдат. Он не улыбался. Так смотрят люди на свою работу, подводя ей итог.
– Ты видел его.
Пантера крутанулся на месте.
– Что?
– Ты видел младенца.
Пантере стало легче.
Нищета, как и чрезмерное богатство, плодит безумие.
– Видел, старик, видел. Младенец как младенец.
Большими шагами он догнал ушедшего вперед Вогана.
Оставшиеся в комнате ждали, пока утихнут шаги и голоса римлян. Потом писец и равви, покосившись на дверь, склонили прощально головы и вышли следом. Иошаат повернулся к Мириам:
– Ничего! Ничего, Мириам. Завтра!
Глава третья
Сыновья и дочери
– Хаддах! Не лезь за стол раньше времени! Старшие еще не подошли. Иди лучше поищи Цевеона.
– Не хочу.
– Вот упрямый мальчишка! – Гадасса, старшая сестра, миловидная, слегка полноватая и слегка косящая девочка лет пятнадцати, рассердилась не на шутку. – Ты слышал, что я тебе сказала?
Хаддах, смуглый черноволосый пострел лет шести с блестящими озорством глазами, на всякий случай ускакал в сторону от сестры.
Даже мать не была такой строгой.
– Пусть Суламитт идет.
– Она старше тебя, ей шесть лет, а тебе – всего пять.
– Она – девчонка, вот пусть она и идет.
– Посмотрите на него! – Гадасса, как взрослая женщина, уперла руки в бока. – Посмотрите на этого грозного мужа, отца семейства.
– Вот вернется отец, – пообещала брату Суламитт, – тогда ты узнаешь, кто – грозный муж, а кто – непослушный мальчишка.
– А ты – противная ябеда!
– А ты… А ты…
– Хаддах! Суламитт! Вас на улице слышно.
– А почему она все время ябедничает?
– А почему он обзывается и за Цевеоном не идет?
– Хаддах, за свои дурные слова и непослушание ты три раза прочитаешь вечернюю молитву перед сном.
– Подумаешь!
– Четыре раза, – ледяным тоном уточнила Гадасса.
Хаддах обиженно засопел, решив больше не искушать судьбу.
– Как будто не известно, где он – конечно, у своих голубей.
– Где бы он ни был, к ужину опаздывать негоже, – тоном опытной хозяйки отозвалась Гадасса, и в этот момент Хаддах подпрыгнул на месте и заскакал по двору:
– Вот и он! Вот и он! И нечего шуметь было!
Во двор вошел Цевеон, худенький, болезненного вида мальчик лет десяти. Он шел медленно, неся что-то в сложенных ладонях. Подойдя поближе, он остановился и раскрыл ладони.
– Вот.
– Ой, что это? – на лицах Суламитт и Гадассы отразились в разном соотношении брезгливость и любопытство.
– Голубь! Голубь! – заплясал вокруг радостный Хаддах.
– Птенец, – пояснил Цевеон, – он выпал из гнезда и сломал крыло.
Хаддах осторожно дотронулся до птенца. Тот запищал.
– Живой!
– Он умрет, – просто сказал Цевеон.
– Умрет?
– Конечно. Ночью его любая кошка или собака найдет.
– А если его обратно в голубятню положить? – спросила Гадасса.
– Он не сможет жить со сломанным крылом, – пояснил Цевеон, – и потом…
– Что потом?
– Я пробовал его положить в голубятню.
– И что?
– Остальные голуби… Они… – Цевеон вздохнул. – Они его выбрасывают обратно.
Наступило молчание. Дети обступили Цевеона, рассматривая птенца в его руках.
– Что же с ним делать? – наконец, спросила Суламитт.
– Съесть! – предложил Хаддах. – Зажарить на костре и съесть.
– Тебе ужина мало? – Цевеон удивленно посмотрел на младшего брата.
– А я знаю! – пропела довольная своей задумкой Суламитт.
– Что ты знаешь?
– Мы можем погадать!
– Погадать?
Все уставились на Суламитт.
– Да, погадать. Гадают ведь на жертвенных животных – овцах, петухах, быках… Голубей тоже приносят в жертву, значит, на голубях тоже можно гадать, – пояснила она.
Цевеон нахмурился:
– Да, но гадание – это грех. Так нам наш равви говорит.
– Глупый! Откуда он узнает?
Все невольно посмотрели на маленького Хаддаха. На его лице ясно отображалась борьба желания отомстить вредной сестре с любопытством принять участие в новом развлечении, да еще запретном.
Наконец, любопытство пересилило. Хаддах пожал плечами:
– Откуда он узнает?
– Постойте, постойте, – Гадасса оглядела всех строгим взглядом старшей.
Гадание – грех…
Но мне тоже интересно.
– Гадасса! Я буду слушаться тебя всегда-всегда! – льстиво сказала Суламитт.
– А я прочитаю молитву перед сном целых пять раз, – пообещал Хаддах.
Все невольно рассмеялись, и Гадасса тоже. Она уже не колебалась.
– А на что мы будем гадать? – задала она главный вопрос.
– Давайте – когда ты выйдешь замуж! – предложила Суламитт.
– Что ты, глупая, ни за что! – Гадасса покраснела от смущения.
– Когда отец вернется? – предложил Хаддах.
– Он вернется, когда внесут его в списки переписи в его родном Бет-Лехеме, – сказал Цевеон.
– И она с ним, на сносях, – вздохнула Суламитт.
– Она? Она теперь нам – матерь, – укоризненно поправила Гадасса.
– Соседки до сих пор судачат у колодца, что… – начал Цевеон и запнулся.
– А я знаю, при мне они тоже говорили! – победно закричал Хаддах. – Что она – дева.
– Нет, – покачал головой Цевеон. – Что дева понесла и девою осталась.
– Дева! – ехидно рассмеялась Суламитт. – И понесла – дева, и родит – дева, и теперь нам матерь будет – дева! Чудо неслыханное! Вот на кого гадать надо.
– А что такое дева? – спросил Хаддах.
Сестры его рассмеялись.
– Узнаешь, когда вырастешь, – сказала Гадасса. – Хорошо. Гадаем на нее.
Цевеон положил птенца на округлый плоский камень у скамьи. Все окружили его, заключая в круг на правах старшей Гадассу с зажатым в руке ножом. Она склонилась над птенцом, взялась за крыло свободной рукой. Птенец пискнул и замолчал под ножом, окрашивая камень кровью. Гадасса присела на корточки, всматриваясь в окровавленный комок перьев на камне. Братья и сестры ждали, затаив дыхание и вытянув шеи от любопытства.
– Что тут происходит? – раздался удивленный возглас от ворот.
– Екевах! – крикнул Хаддах, бросаясь навстречу старшему брату, плотному, угловатому юноше, копии Иошаата, старательно подражающего отцу даже в жестах и манере речи.
Гадасса поднялась с колен, торопливо утирая руки пучком травы. Екевах. Она хоть и старше его на целый год, но он – сын, первенец, мужчина.
Екевах подошел ближе, недоуменно оглядев окровавленный комок на камне.
– Не знал я, что у нас дома ворожбой занимаются, – наконец сказал он.
Гадасса не успела ответить, потому что Хаддах бросился к воротам навстречу еще одному брату. Осий, второй сын, на пару лет младше Екеваха, тонкий, худощавый подросток, вернулся с пастбища усталый и запыленный. Суламитт подошла к братьям с кувшином для омовения рук.
Наконец, все расселись, и Екевах прочитал молитву, подняв над головой рано познавшие труд мозолистые руки ученика древодела, наследующего дело отца.
Вечерняя трапеза началась.
– Как твоя работа, Екевах? – спросила Гадасса: по неписаному семейному закону разговор за столом должен быть начат непременно старшими.
– К нему приходил равви Мешуллим, – зачастила Суламитт и осеклась под укоризненным взглядом сестры. – Прости, Екевах.
Екевах выждал паузу, достаточную для того, чтобы сгладилось впечатление от бестактности Суламитт.
– Ко мне приходил равви Мешуллим, – сказал он наконец, – с известием о смерти старого Олама.
– Умер старый Олам! – Гадасса печально воздела руки, зазвенев медными браслетами. – Я знала его еще девочкой, он был добрый, всегда подшучивал надо мной и дарил что-нибудь: персик изюм, эгоиз…
– Равви Мешуллима интересовало, может ли он направить ко мне в отсутствие отца родственников покойного Олама для заказа гробницы.
– Гробницы, – зябко поежилась Суламитт.
– И что ты ответил равви Мешуллиму? – спросил Цевеон.
– О равви Цевеон, я ответил равви Мешуллиму, что готов принять родственников покойного Олама, – Екевах шутливо поклонился Цевеону. – Все наше благополучие держится на таких заказах. А на вырученные деньги, если их хватит, конечно, брат мой, я куплю тебе еще один свиток. Ты рад?
– Да, – сказал Цевеон смущенно.
– Еще больше будет рад наш отец, – сказала Гадасса, – он всегда говорил, что один свиток Завета в доме важнее десяти еф муки.
– Да, тем более – потомкам царя Давида, – кивнул Екевах.
– А ты справишься без отца? – спросила Гадасса.
– Справлюсь, отец меня учил работе с камнем. Справлюсь, если, – Екевах засмеялся, – если мне не помешает еще один потомок царя Давида.
– Кто, Хаддах? – спросила Гадасса. – Этот непослушный мальчишка…
– Нет, не Хаддах, – Екевах покачал головой и хитро улыбнулся, – я хочу до возвращения отца успеть закончить еще одну работу.
– Тоже заказ? – спросил Цевеон. – Еще гробница?
– Нет, не заказ и не гробница.
– А что же это тогда? И при чем тут потомок царя Давида?
– Я хочу сделать колыбель для новорожденного.
– Для него? – понизив голос, со значением спросила Гадасса.
– Да, – кивнул Екевах, – он ведь – новый член семьи, и надо заботиться о нем.
– Колыбельная и гроб! – закричал Хаддах. Все засмеялись невольно, и он снова повторил: – Колыбельная и гроб!
– Да, Хаддах, – сказал Екевах, – колыбельная и гроб, а между ними размещается вся жизнь человеческая.
– Успеешь? – спросила Гадасса.
– Я буду вставать до рассвета и работать дотемна, – сказал Екевах.
– Может быть, тебе помочь? – спросил ревниво Осий.
– А кто же тогда будет пасти соседских овец? Твоя работа тоже очень важна, и дает семье лишний кусок хлеба.
– Кстати, ты сегодня что-то задержался. Ничего не случилось? – спросила Гадасса.
– Нет, все в порядке, – махнул рукой Осий, – просто одна из овец потерялась, так что пришлось побегать по холмам за нею.
– Наверно, эта была одна из овец Ал Аафея, – шутливо сказала Гадасса.
– Ну да, – кивнул Осий, – они у него такие же любопытные, как он сам, так и норовят куда-нибудь удрать.
Все засмеялись.
– Спасибо, сестра, за ужин, – сказал Екевах.
Трапеза была окончена, но все оставались за столом. Так приятно было просто сидеть под ласковым вечерним солнцем. Один неугомонный Хаддах выскочил из-за стола и сейчас носился по двору.
– Ну что, Цевеон, – вздохнул Екевах, – неси свои свитки, наступила пора чтения, как того требует отец после каждого ужина.
Осий привстал, чтобы выпустить Цевеона, и взгляд его упал на плоский окровавленный камень.
– Что это тут? – вскрикнул он невольно.
– А, это? – Екевах посмотрел на Гадассу. – Ну, сестра, что ты нагадала?
– Да ничего она не нагадала, – подскочил Хаддах, – она вообще гадать не умеет. Кровь, кровь, кровь – и больше ничего! Тоже мне взрослая! – передразнил он.
Все засмеялись. Гадасса даже не стала ругать озорника.
– А ведь интересно, – она оглядела всех за столом, – что с нами со всеми будет? Что сбудется, а что не сбудется? Ведь вы все о чем-нибудь мечтаете. Вот ты, Екевах, кем ты хочешь стать?
– Я, – сказал Екевах, – хочу научиться делать не только гробы и колыбели, а дома, дворцы, мосты. Тогда ко мне будут приезжать за заказами из самого Иевуса!
– А ты, Осий?
– Я буду откладывать по одной драхме долго-долго, чтобы потом у меня были свои овцы, целая отара!
– Не забудь только пригласить нас попробовать твоего жареного барашка, – сказал Екевах.
Все засмеялись.
– А Цевеон?
– Ну, насчет Цевеона все ясно, – сказал Екевах. – Наш маленький «равви» станет большим равви Цевеоном, и вся Назира будет приходить к нему за советом.
Все снова засмеялись.
– А ты, Хаддах?
– А я хочу быть воином! – крикнул, носясь по двору, Хаддах. – Чтобы драться с римлянами!
– Хаддах! Тише! – переполошились сестры.
Цевеон вернулся со свитками Завета в руках.
– Читать?
– Читай, читай, – кивнул Екевах.
Приятно быть старшим, когда тебя испрашивают, как быть.
Палец Цевеона заскользил по развернутому свитку, и он нараспев начал:
Один телец, один овен, один однолетний агнец, во всесожжение,
Один козел в жертву за всех19.
– Постойте, постойте! – крикнул Екевах. – Что же это получается? Телец, овен, агнец… Это же про нашего Осия!
Все засмеялись.
– Точно!
– Да, Осий!
– В твоем стаде как раз овнов хватит!
– Ал Аафей поделится! Если его хорошо попросить!
– Козел в жертву! Козел в жертву! – заскакал вокруг Хаддах.
– Ладно, Цевеон, читай дальше, – сказал Екевах. – Только что-нибудь другое, не про козлов и овнов.
Цевеон развернул другой свиток, дождался, когда стихнет смех и прочитал:
Вот, ты строишь храм; если ты будешь ходить по уставам Моим,
и поступать по определениям Моим,
и соблюдать все заповеди Мои, поступая по Ним,
то Я исполню на тебе слово Мое.20
– Екевах! Это про тебя! Ты построишь храм! Екевах! – радостно загалдели дети.
– Это как гадание получается! – Суламитт всплеснула руками. – Грех!
– Глупая, какое же это гадание, – сказала Гадасса, – это же Священное Писание! Скажи ей, «равви»!
– Каждая буква Писания – истина, – важно кивнул Цевеон, – и останется истиной, что бы с ней ни делали.
Екевах помолчал, потом тряхнул курчавой головой:
– Ладно. Только действительно чудно получается… Верь, не верь, а так оно и написано. Читай, Цевеон, дальше.
И положил тело его в своей гробнице, и плакал по нем: увы, брат мой!21
Смех прекратился, все замолчали, глядя друг на друга. Потом Суламитт закрыла лицо ладонями и всхлипнула:
– Мне страшно!
Маленький Хаддах удивленно посмотрел на сестру, потом на братьев и на всякий случай тоже всхлипнул.
– Прекратите! Перестаньте! – рассердился Екевах. – Что за глупости! Сестра, ты видишь, как они себя ведут за столом! Что отец скажет, когда вернется?
– Хаддах! Суламитт!
Хаддах и Суламитт вышли из-за стола и, продолжая всхлипывать, пошли в дом.
– Все, надо заканчивать, – поднялся следом Екевах, – завтра мне рано вставать, надо выспаться.
Братья поднялись и направились в дом. Гадасса осталась прибрать со стола. Она долго сидела, задумчиво глядя в закатное небо.
– Увы, брат мой… – прошептала Гадасса, обнимая себя за озябшие плечи, и невольно взглянула на плоский камень с темнеющим в полумраке пятном на нем. – Увы, брат мой… Увы, брат мой…
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе