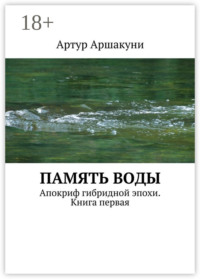Читать книгу: «Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга первая», страница 2
* * *
Он снова думает, вздыхает, прикидывает и так, и этак, потом решается:
– Согласен.
Иошаат долго отсчитывает деньги, все больше драхмы, ассарии и даже лепты. Потом он их пересчитывает еще раз. Еще дольше они пересчитываются торговцем. Затем они ударяют по рукам, и Иошаат всходит на помост, чтобы увести Мириам.
В это время к помосту с рабынями приближаются трое римских солдат, поблескивая шлемами, с прямоугольными щитами в походном положении за спинами и короткими страшными копьями в руках. Они явно навеселе; идут напролом, и все покорно и даже заученно уступают им дорогу. Толпа зевак редеет на глазах.
Наконец, они натыкаются на помост и с хмельным удивлением обнаруживают на нем обнаженных невольниц. Короткий взрыв солдатского восторга и долгое сосредоточенное созерцание женской наготы.
– Гляди, Виталис!
– Что ему смотреть. Это же не окорок!
Довольное ржанье. Толстяк Виталис с короткой бычьей шеей багровеет. Веселье продолжается.
– Это скорее зрелище для Авла, – важно изрекает Виталис.
– Для Авла? Да он сейчас вспыхнет, как факел, от смущения!
Тот, кого назвали Авлом, смеется, хотя видно, что он действительно покраснел.
Третий солдат, рыжеволосый, заводила компании, заметив Иошаата, лениво изрекает:
– Старик козел облизывает козочек!
Раздается пьяный хохот остальных. Анх-Каати поднимает руки, потом прикрывает рот ладонью.
Помни: Рим вскормлен волчицей!
Он смотрит на римлянина без гнева и досады, как смотрят на явление природы, вроде града или сильного ветра.
– Ты один понял меня, не будь я Вепрь8! – так же лениво цедит рыжий солдат.
– Одни любят жизнь в театре, другие – театр в жизни, а третьим не нравится ни то, ни другое, – уклончиво отвечает Анх-Каати.
Солдат с внезапно проснувшимся интересом приглядывается к нему:
– А ты умнее, чем пытаешься показаться.
Потом он замечает смуглую Мириам, уже закутанную в белое покрывало.
– А эта почему в одежде? Эй, умник, открой-ка нам ее!
– Она уже продана, – торопливо произносит Анх-Каати, – по праву…
– О Юпитер Громовержец! – рыжеволосый цедит слова и так же лениво заученным бесконечной муштрой движением руки за голову вытаскивает из ножен хищно блеснувший на солнце короткий меч. – Сколько же можно вдалбливать в башку обрезанной черни, что существует только одно право – право римского солдата!
– Аvе9! – кричат хором его приятели.
Он медленно, поигрывая гладием в полусогнутой голой мускулистой руке, поросшей рыжеватыми волосами, нетвердой походкой поднимается на помост, ухмыляется своим приятелям, потом подходит к Иошаату, долго смотрит на него с пьяной сосредоточенностью, затем хрипло кричит:
– Прячьте жен: ведем мы в город лысого развратника!
Парочка солдат внизу продолжает покатываться от хохота.
Солдат на помосте небрежно, второй рукой, с зажатым в ней пилумом, отталкивает Иошаата. Тот падает, хватаясь за ушибленный бок:
– О Адонай!
– Эти глаза, – говорит солдат, медленно, хищно, как гепард, скрадывающий дичь, обходя Мириам, – эти глаза – словно угли среди черных головешек в костре… Однако головешки должны гореть, давая нам свет и тепло… А не обжигать. Верно
Он, подкравшись,
говорю, мой Авл?
внезапно резко рвет покры-
Dixi!
вало с Мириам, обнажая ей грудь, но та отшаты-
вается, и в руке у нее остро посверкивает лезвие
неизвестно откуда взявшегося кинжала.
Гул изумления снизу. Солдат останавливается в растерянности, забыв про меч в своей руке. Потом растерянно оглядывается на приятелей.
Вдали раздается рев горна и бой барабана. Солдаты, как по команде, – сказывается дисциплина – поворачивают головы.
– Нам пора! – кричат приятели снизу солдату на помосте.
– Заканчивай, Пантера, пойдем!
Солдат по имени Пантера долго смотрит на Мириам желтыми, как у рыси, немигающими глазами, потом резко поворачивается и уходит с помоста. По пути он бешено рубит подвернувшийся под руку кувшин среди выставленных на соседних столах гончарных изделий. Солдаты уходят.
Облегченный гул в поредевшей толпе.
Мириам подходит к Иошаату и помогает ему подняться на ноги. По его лицу видно, что он принял решение. Он берет ее за руку и подводит ее к краю помоста:
– Я, древодел из Назиры Иошаат, из рода Давидова, перед Господом нашим и свидетелями объявляю купленную мною здесь невольницу Мириам вольноотпущенной, а также женой мне, хозяйкой – дому моему и матерью – детям моим.
Толпа расходится, вкусив сполна от пирога сегодняшних событий.
Мириам подходит к отцу. Анх-Каати грустно смотрит на нее:
– Тебе не испить страдания в рабстве, дочь моя, но полны другие чаши его!
Иошаат уже стоит внизу. Ал Аафей, взволнованный и удовлетворенный сегодняшним днем, суетится рядом.
Фамарь моя будет довольна.
– Тебе надо будет засвидетельствовать у равви свои слова, о Иошаат.
– Да, и сделает это равви Саб-Бария, которого знаю я, – отвечает Иошаат, оглядываясь в поисках Мириам…
Устал я.
– Я могу дать своего осла, чтобы увезти твою новую жену.
– Благодарю, добрый сосед, равви Саб-Бария живет недалеко отсюда, у Акры.
Я сам решу, что мне делать со своей женой.
Анх-Каати все еще что-то говорит дочери, и та его внимательно слушает.
О чем можно столько говорить?
Иошаата приятно колет в грудь сладкое, не сравнимое ни с чем чувство собственника – не то чтобы сильно, чтобы дать волю гневу, но достаточно ощутимо, чтобы, отодвинув в сторону Ал Аафея, шагнуть вперед к помосту и спокойным, властным голосом позвать ее:
– Мириам!
* * *
Молчание.
Опять и снова – отвратительное ее молчание.
Она даже не плачет, вот что худо. Она просто лежит, лежит и смотрит в темноту, лежит и смотрит в темноту сухими немигающими глазами.
– Успокойся.
Говори, все время что-то говори, говори, что
У нас есть сын, посланный нам одной только
угодно, только бы не повисало
волей Его. Сын. Сын!
это молчание,
выматывающее душу. И овцы, как назло, замол-
чали. Все время топотали, как римские бара-
Единственный такой, ты
слышишь?
баны, а тут что-то притихли. Спят, должно быть.
Да и то: полночи пролетело в этой свистопляске.
Не мешало бы и самому вздремнуть… Говори!
– Ничего, Мириам! Выкормим мы его, воспитаем. Вырастет наш сын, и содрогнутся враги его. Вырастет он, и возрадуется народ Израиля. Вырастет он, и воздастся нам за него сторицей. Ты слышишь?
Молчание.
Иошаат чувствует легкий укол обиды – не то чтобы сильной, чтобы дать волю гневу, но ощутимой, чтобы высказаться без посторонних:
– Я выкупил тебя из рабынь и сделал вольноотпущенной. Я объявил тебя женой своей перед Господом нашим, и свидетелями, и раввином Саб-Бариею. Я привел тебя в свой дом и объявил тебя перед своими детьми матерью им и хозяйкой дому. Я уверовал в исполнение в тебе всех пророчеств Писания и убедился в этом еще раз сегодня, встретив этих гис… дис… – как их? – волшебных пастухов. Вот – дары их в подтверждение. И сейчас я, муж твой, говорю тебе: успокойся, все хорошо. Ты слышишь меня, Мириам?
– Да, – тихо отвечает Мириам.
Иошаат доволен.
Он добился-таки своего.
Он возвращается на свое место у очага, к почти догоревшему огню, снова, на этот раз поосновательней, прикладывается к кувшину. Последние блики угасающего огня выхватывают из темноты его крупную голову, бороду, узловатые руки мастерового на коленях. Он сидит, слегка покачиваясь, с тяжелой отрешенностью напевая вполголоса:
Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его,
и нарекут имя Ему: Шевет-ханогес, Эл-гибор, Аби-ад, Сар-шалом.
Умножению владычества Его нет предела на престоле Давида и в царстве его,
чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века10.
* * *
– Радуйтесь, ибо младенец родился у нас! Сын нам дан! – на весь дом кричит старый равви Саб-Бария.
В доме равви – радостный переполох. Бедные старики не могут опомниться от постигшего их счастья. И сейчас, принимая Иошаата с Мириам и усаживая их за стол, они с трогательной забывчивостью в третий, пятый и седьмой раз пересказывают им свою историю.
Как-то, давно, Саб-Бария проснулся от ужасного видения во сне, до того напугавшего его, что у бедняги после этого отнялся язык. Человек без языка – это беда. Равви без языка – это беда вдвойне, это горе, ибо язык дает ему кров и хлеб насущный и место среди соплеменников. Бедные супруги не знали, горевать по этому поводу или радоваться тому, что старая Элишева почувствовала себя в тягости!
– Наконец, родился он, долгожданный Иоханнан, – и что ты думаешь, почтенный Иошаат? Речь вернулась ко мне снова!
Верую, о Господи!
– Сын! – гремит Саб-Бария, словно проверяя крепость своего голоса. – Иоханнан!
Иошаат просит хозяина дома узаконить словом равви их брак с Мириам. Саб-Бария благословляет их, Элишева обнимает на радостях Мириам.
– Бедная, ты вся дрожишь! Уж не заболела ли ты? – она заботливо склоняется к Мириам. – О, Адонай, твоя шерстяная накидка промокла насквозь!
– Как она могла промокнуть, если на дворе сухо и нет дождя? – удивляется равви Саб-Бария.
– Ночь холодная. Может быть, роса? – рассуждает задумчиво старая Элишева.
– Ничего, все в порядке, – с досадой говорит Иошаат. – Завтра – домой, в Назиру.
А Саб-Бария начинает в девятый раз рассказывать о своем чуде. Выпитое вино добавляет новые детали. Язык ему отнял не страшный сон, а Ангел Господень, за малодушие и неверие в зачатие собственного сына! Конечно, Ангел – кому же еще быть? Это ли не чудо? А в чуде этом – не Господня ли рука, милующая и карающая всех нас? А рождение Иоханнана – самое большое чудо.
– Чудо! – возглашает Саб-Бария.
Воистину верую!
За столом Мириам вдруг становится дурно. Она бледнеет и зажимает рот рукой. Все взволнованы. Иошаат извиняется перед хозяевами за Мириам, пытаясь сказать о каких-нибудь известных ему женских хворях. Элишева уводит Мириам из-за стола на женскую половину дома. Уводит надолго.
О чем, о Адонай, можно столько говорить?
Наконец, женщины возвращаются. Элишева сияет, как всякая женщина, утолившая свое любопытство сполна. Она садится за стол, но, как истинный ценитель настоящей, неподдельной новости, не спешит.
– Где мой Иоханнан?
Иошаат передает ей сына.
У этой ровесницы Евы появились нотки лукавства и даже какой-то игривости! Говори же, не тяни.
Вдоволь наигравшись с Иоханнаном, Элишева, наконец, с улыбкой встречает встревоженный взгляд Иошаата.
– Ну, если хворь твоей Мириам такая же, что была у меня последние десять месяцев11, тогда благословен будешь ты, Иошаат, еще одним сыном!
Иошаат потрясен.
Дева?
Он растерянно поворачивается к Мириам:
– Как же так! Мириам, ведь ты… Ведь твой отец сказал мне, что ты…
Равви Саб-Бария прерывает очередной свой рассказ о чуде. Любопытные взгляды ощупывают Мириам с разных сторон.
Мириам встает. Лицо ее – каменной бледности, бледности базальта, но Иошаат не знает, что у смуглокожих племен бледность лица соответствует гневу или необычайному волнению.
– Перед Господом нашим Истинносущим, и равви, толкующим нам, простым смертным, премудрости Его, и перед всем Израилем, от Дана до Вирсавии12, клянусь, что сохранила девство свое в целостности, и не порушила его ни впусканием к себе мужчины возлежанием под ним, ни прикосновением мужским к чреву моему, ни взглядом мужским на наготу чрева моего, ни впусканием к себе мужчины возлежанием на нем, ни прикосновением своим к чреслам мужским, ни взглядом своим на нагие чресла мужские. Если же я хоть в чем-то нарушила эту свою клятву, пусть Господь вырвет из народа Израиля двенадцать колен рода отца моего и двенадцать колен рода матери моей и развеет по пескам сорняками злостными.
Мириам садится. Глаза ее закрыты, она дрожит.
Иошаат изумлен и напуган этой вспышкой Мириам.
Надо быть очень… Да нет, – надо быть воистину праведницей, чтобы иметь смелость произнести такую страшную клятву!
– Верю тебе, дочь Израилева! – воодушевленно восклицает Саб-Бария.
– Верю тебе, Мириам! – Иошаат взволнованно оглаживает бороду.
– Никогда мы не слышали о таком, – лукаво улыбается Элишева, – и никогда мы не слышали такой страшной клятвы. Надо верить. Такой клятве надо верить. Но если это так, тогда Господь воистину всемогущ, а милость Его воистину велика, если Он являет нам такое чудо.
– Чудо! Чудо! – подхватывает Саб-Бария.
Снова Ты явил мне Себя!
– И если это правда, – продолжает улыбаться Элишева, – то благословенна будешь ты, оставшись девой, во всех женах Израильских во веки веков!
– Чудо! – трубит захмелевший Саб-Бария.
– Два чуда, – успокоенный Иошаат великодушно оглядывает Мириам и младенца Иоханнана на руках Элишевы.
Словно спохватившись, равви Саб-Бария встает и, указывая на своего сына, объявляет:
– Младенец сей явился нам всем первым чудом, чтобы возвестить о грядущем втором чуде. Осанна тебе, дева!
– Осанна тебе, Мириам, – шепчет растроганный до слез умиления Иошаат.
– Если это правда, – улыбается старая Элишева.
* * *
Мириам, это правда
Мириам, это правда.
Это правда, Мириам.
Это правда, Мириам, что срок твой
и муки родин твоих —
явление Господа в мир
людской, мир плоти, крови и пота
Это правда, Мириам, что у тебя
нет сердца,
а вместо сердца —
камень из пустыни Синайской.
Это правда, Мириам, что сын твой
обнажит мышцу против врагов и поведет
народ Израиля к спасению и славе
Это правда, Мириам, что ты —
хуже гиены, хуже ехидны
и хуже крокодила нильского,
потому что те заботятся о своих
детенышах, выношенных и рожденных
по тому образу и подобию,
которые вложил в них Господь,
а ты бросила своего сына.
Это правда, Мириам, что троны
царские предназначены для одного. И слава
человеческая не делится на двоих. И Господь,
который над нами, истинен лишь потому,
что единносущ
Это правда, Мириам, все страдания, о которых
ты знаешь,
покажутся тебе забавой по сравнению с мукой
расставания навсегда, навсегда,
на веки вечные,
с только что рожденным тобою сыном.
Это – правда?!
Мириам вдруг вскакивает, как от удара бичом.
Тьма истончается, наполняя пространство загона контурами, прозрачными, словно напоминание о тяжести, твердости и протяженности там, во внешнем мире.
У погасшего холодного очага спит Иошаат. Хворост. Кувшин. Остатки ночной трапезы. Дары. Колыхание овец в дальнем углу и там же – звуки, которые издают все новорожденные детеныши, требующие материнских сосцов. И какая страшная, мертвящая тишина снаружи!
Мириам каким-то судорожным рывком бросается вон из загона, останавливается, снова бежит, снова останавливается, слепо озираясь вокруг и ничего не видя в помрачении сердца. Потом выбегает на середину двора и падает обреченно на колени.
Во дворе – следы ног, копыт и остатки кострища, еще теплого.
Поздно.
Это правда.
Караван ушел.
Часть первая
Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него сирота?
И о в, 31, 17.
Глава первая
Дажд13
День сменит ночь, а ночь сменит день, и будут сменять они друг друга, пока это будет угодно Неназываемому и пока сохранится на земле живая душа, чтобы отличать одно от другого. Воистину так, ибо нет среди сотворенных Им ни того, кто бы мог сказать: вот, есть день, а ночи нет, ни другого, кто скажет: вот, есть ночь, а дня нет. Воистину так, ибо и день, и ночь повинуются установленному Им для этого мира высшему закону, который гласит: все имеет свое начало и свой конец.
Поэтому самая ничтожная песчинка, попираемая ногами верблюда, возносит хвалу Ему, устроившему этот мир именно так, ибо, порожденная рассыпавшейся когда-то в прах горой, минуя бесконечную цепь иных рождений и смертей, она, ничтожная, когда-нибудь, через бесконечную цепь новых рождений и смертей, даст начало другой горе. Поэтому на весах Вечности равны величественная гора, подпирающая небо, и ничтожная песчинка, попираемая ногами верблюда; верблюд и погонщик верблюда, погоняющий его палкой; погонщик верблюда и его хозяин, наказывающий палкой и милующий горстью фиников.
И так же, повинуясь этому всеобщему закону, дороги будут брать начало у одних городов, чтобы закончиться у других, дав начало следующим дорогам. И один караван будет сменять другой, имея своим началом и концом торговлю. Торговля же будет начинаться и заканчиваться алчностью. И алчность будет начинаться в человеке и заканчиваться в человеке же. А начало и конец человека – промысел Его, неторопливо, из вечности в вечность, пересыпающего, словно песок с ладони на ладонь, горы и земли, царства и человеков.
И этот маленький караван, принадлежащий обыкновенному сирийскому купцу Бахиру, будет идти мерным шагом по благословенной земле в неблагословенное зимнее время, когда верблюдам приходится тяжело от порывистого ветра, а люди с тревогой вглядываются в небо, не зная, чего ждать в пути: дождя, внезапного града, а то и снега. Правда, снег может выпасть разве что высоко в горах, а до них еще далеко. И будет на пути каравана рынок в Иевусе, где Бахир продаст своих невольников и приобретет шелка и шерсть, чтобы доставить их в Александрию; и будет Эль Халиль с отрадными глазу теревинфовыми рощами и славным постоялым двором, и будет Иутта, после которой Бахир прикажет сделать привал на перекрестках торговых путей, чтобы решить, какой дорогой двигаться дальше.
Крохотный лагерь вырастет среди камней и песка: палатка самого Бахира, еще одна палатка с единственной оставшейся светловолосой невольницей, которую ему так и не удалось продать, и дальше – поставленные кругом пять верблюдов, конь и осел, а в круге – помощник Бахира, из вольноотпущенных, в меру честный, в меру преданный, по имени Юнус, и погонщик Али, из рабов, к тому же глухой, как песок в надтреснутом кувшине, и цена ему – этот надтреснутый кувшин. Их задача – охранять стоянку и стеречь добро, поэтому спать Юнус и Али будут по очереди. А пока до темноты еще далеко, Али будет разводить костер, а Юнус – призван к хозяину на совет.
Решить предстоит несколько вопросов, но главный из них – каким путем двигаться дальше. Юнус водил уже караваны в Египет, но все время одним маршрутом – через Газу по побережью и дальше, мимо озера Сирбонис и небольшую, но коварную пустыню Эль-Ариш, в Александрию Египетскую. И сейчас он будет отстаивать именно этот маршрут, уговаривая Бахира повернуть караван на запад, чтобы выйти на дорогу от Газы. Но чем больше будет горячиться Юнус, тем спокойнее будет становиться Бахир, тем медленнее он станет перебирать четки, выточенные из кости носорога: разговор – не пожар, он требует взвешенности и рассудительности.
Да, путь через Эль-Ариш короче, почти все караваны в Египет пользуются им. Но знает ли юный и неопытный Юнус – тридцать лет не возраст для мужчины! – что это известно не только купцам, торгующим с Египтом, но и кишащим там разбойникам? Он сам может привести несколько случаев грабежей караванов, хотя ходил-то сам туда раз, два, не больше.
Дальше…
Еще одна отполированная кость переместится по шелковому шнурку.
Купцы предпочитают ходить побережьем летом, когда путь через Синай труден из-за жары в пустыне, и смертельно опасен для того, кто не знает оазисов и укромных колодцев для стоянок. Еще покойный отец Бахира, почтенный Базид, имя которого до сих пор уважаемо среди торговцев, да возрадуется его душа, слыша, что сын до сих пор его почитает, повторял: «Две дороги в Египет: летом – через Суэц, зимой – через Синай». Сейчас – зима, погода им благоприятствует. А оазисы и колодцы сегодня никто лучше Бахира не знает – впрок пошли уроки почтенного Базида, благословен будь его посох, измочаленный о бока сына!
Дальше…
Еще одна кость скользнет по шнурку.
Если они пойдут через Синай, на пути у них будет Акаба; а в это время там часто можно встретить купцов из Индии. Индийские купцы, всем известно, платят хорошо, за хороший товар денег не жалеют, не то что эти египетские мошенники!
Внезапный шум прервет рассуждения Бахира. Это погонщик Али со своим невразумительным мычанием и испуганными жестами. Юнус поднимется с места и пойдет узнать, в чем дело. Вернется он с сообщением, что по дороге от благословенной земли в их сторону движется человек. Встревоженный Бахир распорядится припрятать получше товары и приготовиться к обороне. Но напряжение спадет, когда подошедший окажется благообразным стариком с длинной седой бородой, развеваемой ветром.
– Мир вам, о путники! – обратится он к Бахиру, выделив его из всех не потерявшим зоркости взглядом.
– Мир и тебе, путник! – ответит на приветствие Бахир и пригласит старика к костру по древнему обычаю.
Законы пустыни суровы: если встреченный желает тебе мира, ты обязан разделить с ним еду и тепло костра, ибо кто знает, не окажешься ли завтра ты сам в его положении?
И сядет старик к костру, пригладив бороду и протягивая к теплу озябшие руки, и оба будут бросать незаметные, но пытливые взгляды друг на друга: один – из-под кустистых бровей, другой – из узких хитрых щелочек, куда так удобно прятать глаза.
И потечет неторопливая обстоятельная восточная беседа, беседа ни о чем – невежливо задавать интересующие тебя вопросы незнакомцу прямо в лоб – в которой не менее слов важны интонация, паузы и жесты. Наконец, Бахир поведает о себе, бедном, маленьком купце из Сирии, который едва сводит концы с концами, подвергая себя постоянным лишениям в пути. Старик покивает, сочувствуя Бахиру, и в свою очередь назовет себя странником, который ходит из города в город и довольствуется добротой встречных.
– Хватает ли почтенному страннику доброты встречных? – лукаво спросит Бахир.
– Хватает ли птице неба, а рыбе – моря? – ответит странник. – В душе самого закоренелого преступника доброты хватит на все мироздание, необходимо только подобрать нужный ключ к его душе. А самый верный ключ к душе человека – знание о его будущем.
– Воистину так, – согласится Бахир, перебирая четки, только глаза его еще глубже уйдут в узкие щелочки, потому что в этом древнем, как мир, состязании – разговоре двух человек – перевес на его стороне.
– Еще я снимаю порчу, зубную боль, ведаю травы, вправляю суставы, – монотонно продолжит странник, и Бахир будет согласно кивать ему, перебирая четки и внутренне настораживаясь.
Смутное беспокойство охватит его.
Непрост этот старик! Обладая половиной этих знаний, можно рассчитывать на нечто большее, чем кусок хлеба и придорожный костер. Если…
Если только он не корыстный шарлатан, обращающий себе на пользу людскую доверчивость.
– Истинное знание отличается от шарлатанства тем, – продолжит старик, словно прочитав мысли Бахира, – что стремится не навредить человеку.
– Разве может правильное предсказание навредить человеку? – удивится Бахир. – Если ты правильно предскажешь мне, с какой прибылью я продам свой товар в Акабе индийским купцам, я смогу уже сейчас строить свои планы на обратный путь, – что же в этом плохого?
– Скажи, – спросит старик, подняв глаза от пламени и впервые за весь разговор открыто посмотрев в лицо Бахира, – ты хотел бы знать, когда ты умрешь?
Наступит молчание, ибо Бахир будет растерян и смущен.
Непрост старик, и в этом состязании у Бахира уже нет перевеса.
Чтобы выиграть время и собраться с мыслями, Бахир крикнет Юнусу привести к костру невольницу.
Разговор о женщинах – умный и отвлекающий ход в этой партии.
И сядет невольница по другую сторону костра, пряча лицо от мужчин, и займется младенцем на ее руках.
– Вот, – усмехнется Бахир, – убыток мне и разорение! Купил я ее еще в Харране вместе с другими рабынями, оставил в Дамаске, благо он рядом, пустил остаток денег во второй оборот и отправился с караваном в Тарс с шелком и выделанными кожами. Затем вернулся за ними, чтобы продать в Иевусе, а она, оказывается, уже в тягости!
– Тягость женщины – благо человеку, – заметит странник, внимательно оглядывая невольницу с белокурыми волосами, склонившуюся над младенцем.
– И убыток торговцу! – возразит с невеселым смехом Бахир. – Дикарки с другой стороны Понта хорошо идут на наших рынках, но кому нужна рабыня с младенцем? Пока она кормит, – она нечиста, ибо должны пройти дни ее. А кормить даром младенца в ожидании, когда он станет сильным и работящим, никто не хочет. Придется отнять у нее младенца. Эй, Иллели! – крикнет Бахир невольнице. – Я отниму у тебя младенца и продам тебя на обратном пути. Ты слышишь меня?
Невольница крепче прижмет к себе младенца и что-то глухо, как собака из своей конуры, заворчит вполголоса.
– Странная она какая-то! – продолжит Бахир доверительно. – Юнус сказал мне сначала, что родила она вроде как мертвого младенца, я обрадовался, но оказалось, зря – живой, щенок, и невредимый! Эй, Иллели! Это правда?
И не заметит при этом Бахир, как насторожится старик.
– Мой сын, мой Дажд… Он долго спал, а теперь проснулся. Он живой!
– А теперь мне надо кормить и тебя, и твоего Дажда? – Бахир развлекается от скуки и развлекает странника. – Отниму!
– Младенец? – скажет старик негромко, словно самому себе. – Дажд?
– Он – мой! – рабыня судорожно стиснет младенца, и блеск ее бездонных глаз невольно озадачит Бахира: то ли это – ненависть, то ли просто блики костра. – Дажд – мой!
– Младенец? – снова скажет старик. – Звезды не могут лгать.
– Ты что-то сказал, почтенный? – спросит Бахир.
– Я иду от Бет-Лехема, – переведет разговор странник, и Бахир тотчас мановением руки отошлет Иллели с ее младенцем к себе.
Конец развлечению, продолжается серьезный разговор двух мужчин, продолжается состязание!
– Знаком мне этот город, – делает он осторожный ответный ход, передвигая полированную кость по шелковому шнурку.
– Там на постоялом дворе…
– И постоялый двор знаком мне! Кто же из купцов не знает постоялый двор Бет-Лехема и Забтеха, наикорыстнейшего хозяина его? Но продолжай, – еще одна кость скользнет по шелковому шнурку.
– В ночь новолуния великое чудо засвидетельствовали мы.
– Чудо? Какое же, о почтенный странник?
– Рождение младенца.
Бахир едва сдержит вздох разочарования и раздражения.
Со слабым играть неинтересно.
Воистину между глупостью и мудростью расстояние тоньше волоса из хвоста осла!
– Тогда, почтеннейший, каждый мужчина, начиная с Адама, познавая женщину, может считать себя чудотворцем, – засмеется Бахир, сдвигая все кости по шнурку и начиная партию сначала. – Но прошу тебя, давай не будем больше о младенцах, – я тоже иду от этого постоялого двора не могу опомниться от такого «чуда».
– Я – гость у твоего костра, – согласно наклонит голову странник. – Красивые у тебя четки, – заметит он, начиная новую тему.
– В пути, о путник, да будет тебе известно, лучше перебирать четки, чем считать верблюжьи шаги, – уклончиво ответит Бахир.
– Я вижу, что они недавно у тебя, – усмехнется старик.
– Да… – растеряется Бахир. – Я выиграл их в кости как раз у хозяина постоялого двора в Бет-Лехеме, почтенного Забтеха.
Нет, не прост старик!
Четки! Откуда он узнал?
– Однако ты сказал «мы»? – вспомнит Бахир. – «Мы засвидетельствовали чудо»?
– Колодец мудрости не вычерпать одной горстью.
– И они тоже, как и ты… кудесники и прорицатели?
– Я – недостойный ученик, испивший крохотный глоток из колодца Знания.
– Хорошо, – Бахир, наконец, решается свести разговор к пугающей и манящей его теме, – Юнус! Приведи сюда Али. Да поживее!
Наконец, разбуженный и перепуганный Али будет вытолкнут Юнусом в светлый круг костра.
– Где я мог видеть его? – удивится старик.
– Его? Этот высохший овечий помет? – всплеснет руками Бахир. – Не смеши меня, почтеннейший. Его можно видеть или спящим под верблюдом, или спящим на верблюде… Ты сказал, что не предсказываешь судьбу, чтобы не навредить слышавшим их людям? Этот Али – он глух, подобно черепку кувшина. Он не может услышать твои слова, поэтому они никак не навредят ему. Предскажи нам его судьбу!
Странник долго будет смотреть на огонь, словно не расслышав вопроса. Потом поднимет взлохмаченную ветром голову:
– Он умрет.
Беспокойство охватит Бахира, но он попытается отшутиться:
– Такие пророчества и мне по силам, ибо кто не знает, что все мы смертны?
– Он умрет скоро.
Веселье оставит Бахира, и уже боязливо, с трудом двигая внезапно одеревеневшим языком, он спросит, уставившись в огонь:
– Когда?
И услышит в ответ одно короткое слово:
– Завтра.
Бахир нетерпеливым жестом отошлет несчастного Али к себе обратно.
Какой страшный ответ! Сколько он рождает вопросов! Что случится завтра? Что случится с Али? А с остальными? А…
– Не спрашивай меня больше, о гостеприимный путник! – скажет странный старик и решительно поднимется с места. – Благодарю тебя за тепло костра и разделенную трапезу. Мне пора в путь.
– Куда же ты – впереди ночь! – Бахиру немного досадно прерывать разговор.
Ибо в этом состязании победа была не на его стороне.
– Самая спокойная пора, – усмехнется старик, – в наше смутное время, а я сведущ еще и в звездах. Звезды же говорят, что все идет по предначертанному ими пути, с которого не свернуть ни мне, ни тебе, ни твоей невольнице с чудесным младенцем. Прощай!
Бахир останется сидеть, пригвожденный к месту страшным пророчеством, провожая глазами фигуру, постепенно тускнеющую во мраке. А потом, удивленно обнаружив в своей руке забытые четки, он вскочит, словно ужаленный, и крикнет вслед старику:
– Скажи мне еще! Иллели – ее здесь нет!
– Она слышит, – раздастся в ответ.
– Тогда – младенец ее неразумный! Дажд!
Фигура старика замрет на мгновенье, а потом растворится во тьме, и до костра долетит ослабленный ветром крик:
– Он не умрет.
Костер станет едва теплиться. Пора ложиться – предстоит дальняя дорога.
Бахир еще раз отдаст распоряжения Юнусу о ночном дозоре, а затем медленно побредет в свою палатку и долго будет ворочаться на своем ложе, вспоминая странные слова предсказания.
Непрост старик! Как это все понимать? Он и не собирался пока вышвыривать этого щенка! Ну, а что касается глухонемого Али… Змея, что ли, его ужалит? Хотя – какие змеи зимой? Со скалы сорвется? А что его туда понесет? Какая разница! Умрет – значит, умрет. Цена ему – тень осла на песке. Одним едоком меньше. Добраться бы до Акабы – там он купит себе нового погонщика верблюдов.
И уже погружаясь в спасительные волны сна, Бахир, словно передвинув последнюю полированную кость по шелковому шнурку, удивленно пробормочет про себя:
– Дажд?
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе