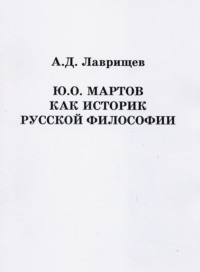Читать книгу: «Ю.О. Мартов как историк русской философии», страница 2
Один из идейных кумиров Мартова, Н.Г. Чернышевский, писал: “Политические теории, да и всякие вообще философские учения, создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ”7.
Марксизм привлекал Ю.О. Мартова тем, что позволял научно обосновать возможность построения общества справедливости и равенства (именно этим прельщало учение Маркса и остальную российскую молодежь), марксизм требовал максимального напряжения интеллектуальных сил, поскольку предполагал активное воплощение абстрактной философии в общественно-политической практике. Поэтому социалистические учения, предшествовавшие марксизму, сочувствия к себе у Мартова не встретили. “Первые великие утописты Оуэн, Сен-Симон, Фурье, – писал Мартов, – рассматривали социализм, как чисто экономическую проблему и проявляли полное равнодушие к политическим формам и политической борьбе”8. Мартов говорил о “двух фазах социалистической мысли” – марксистской и утопической, или либеральной. Продолжателями последней он видел ревизионистское направление в европейской социал-демократии. Характеризуя позиции европейских ревизионистов, Мартов писал: “Французы и бельгийцы не пошли по существу дальше романтического социализма чувств, который может подыматься до крайней высоты радикализма… в собственном воображении, но который абсолютно не способен справиться с реальной действительностью и легко разбивается первыми же ударами марксисткой критики”9.
Ю.О. Мартов не рассматривал русскую философию в качестве изолированного явления, поскольку прекрасно понимал, что без плодотворной рецепции передовой западноевропейской мысли любая национальная философия обречена на жалкое прозябание. Но эта рецепция, как считал Мартов, отнюдь не представляет собой механическое заимствование, напротив того, он считал названное заимствование творческим процессом, позволяющим максимально раскрыть творческий потенциал российской интеллигенции.
Проблема “заимствований” в русской философии, которая была актуальной в работах по истории философии на рубеже веков, представлялась Мартову как объективный процесс, связанный с органическим единством всего мира, и потому такое “заимствование” рассматривалось им без отрицательной оценки10. Исходя из этой посылки, Мартов совершенно спокойно реагировал на то, что российская интеллигенция переняла у буржуазных мыслителей то лучшее, что они выработали в течении XIX в. “Сближение мелкобуржуазной демократии с социализмом, – писал Мартов, – в социально-политической сфере способствовало тому, что коллективистские и коммунистические симпатии русской интеллигенции могли психологически сочетаться с тяготением к философии тогдашнего западноевропейского буржуазно-индивидуалистического радикализма. Материалистические и позитивистские разновидности этой философии, в которой буржуазная личность давала последний бой за свое освобождение, вполне отвечали запросам русской интеллигенции, переживавшей разгар борьбы с крепостническими узами и крепостническими традициями; а гуманитарная и социал-реформаторская окраска этого философского индивидуализма мирила социал-народнически настроенную интеллигенцию с классовой узостью и ограниченностью ее общего кругозора”11. Таким образом, Мартов подчёркивал зависимость русской философии как от социально-политического состояния российского общества, так и от зрелости его интеллектуальной элиты. “Заимствования” носили творческий характер, т. е. не были слепым подражанием, а были связаны с необходимостью поиска ответов на злободневные вопросы современности.12
Философская взаимосвязь России и Европы выражалась также и в общей зависимости от политических событий. Так, по мнению Мартова, успешное становление буржуазного строя сопровождалось ростом влияния материализма и позитивизма – “прогрессивных” течений философии, а разгром Парижской Коммуны и “торжество политики “крови и железа””, положившие конец новому расцвету буржуазной демократии привели к “попятному” движению в развитии философии, что означало возвращение к идеализму и метафизике. Обращение к идеализму привело к тому, что “естественные науки, недавно еще непосредственно служившие цели борьбы за эмансипацию личности, теперь выступили в роли боевого орудия против эгалитарных стремлений”. Именно с таких позиций Мартов оценивал философское значение дарвинизма, который “революционизировал естествознание” и явился “опорой консервативно-буржуазных течений, как в социальной науке, так и в политике”13. Речь здесь, разумеется, идёт о социал-дарвинизме, получившем значительное распространение в Англии и Германии.
Начислим
+11
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе