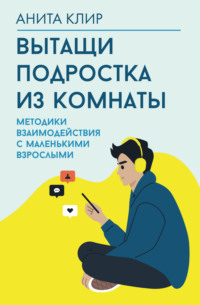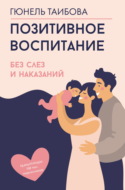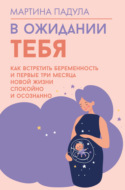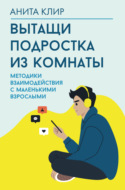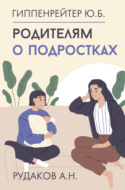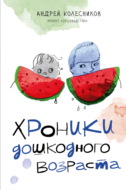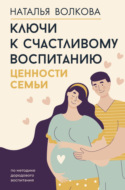Читать книгу: «Вытащи подростка из комнаты. Методики взаимодействия с маленькими взрослыми», страница 2
Что происходит у них в голове?
Теперь давайте разберемся, что происходит в мозгу подростка, чтобы воплотить эти четыре стимула независимости в мысли и действия. Внешне подростки могут выглядеть почти взрослыми, но в их мозгу все еще происходит множество процессов.
Грубо говоря, человеческий мозг состоит из трех основных областей. Задняя часть мозга управляет нашими инстинктивными функциями выживания (такими как сердцебиение и дыхание). Именно эта часть мозга берет на себя ответственность, когда нет времени на размышления и нужно действовать быстро: например, подготавливая нас к маневрам, позволяющим избежать угрозы в случае опасности. Кроме того, существует передняя часть мозга, которую часто называют «мыслящим» мозгом. Здесь находится префронтальная кора, которая обеспечивает исполнительные функции более высокого уровня, позволяющие нам планировать последовательность действий для достижения цели. Поведение, управляемое этими исполнительными функциями, обычно ассоциируется у нас с наступлением зрелости, и мы больше всего хотим видеть его у наших подростков, например:
• помнить о том, что нужно сделать (без напоминаний);
• составлять график занятий (и придерживаться его);
• концентрироваться на задаче (не отвлекаясь);
• быть организованным (не терять вещи);
• сохранять спокойствие и обдумывать ситуацию (не поддаваться эмоциям);
• тщательно взвешивать решения (не действовать импульсивно).
Между передней и задней частями мозга находится лимбическая система, которая управляет нашими эмоциями. Именно здесь находится миндалевидное тело, которое играет ключевую роль в сортировке поступающей в мозг информации, направляя ее либо в передние отделы мозга, либо в задние. Миндалевидное тело всегда находится начеку, сканируя поступающую через органы чувств информацию в поисках признаков опасности, чтобы направить ее в задние отделы мозга для немедленной защитной реакции.
Задние отделы мозга наиболее важны для нашего выживания, поскольку они управляют телесными процессами, поддерживающими жизнь. Поэтому логично, что по мере роста детей развитие их мозга направлено в первую очередь на укрепление важнейших задних отделов, а затем на развитие лимбических областей и лобных долей. Когда наступает половое созревание и дети вступают в подростковый возраст, большая часть основных процессов в их мозге уже завершена. Мозг переключает свое внимание на повышение скорости и точности передачи сигналов по своим сетям. Это сродни масштабной переделке электропроводки, в ходе которой изолируются сигнальные провода, обрезаются неиспользуемые пути и устанавливаются более быстрые разъемы, чтобы мозг молодого человека был в оптимальном режиме работы при переходе к самостоятельной жизни.
Однако это окончательное повышение производительности также происходит наоборот, начиная с инстинктивной задней части мозга, продвигаясь через средние эмоциональные области мозга и заканчивая передними отделами. Это означает, что части мозга подростка, управляющие эмоциями, обновляются раньше, чем более рациональная префронтальная кора. По сути, эмоциональный центр мозга подростка работает на полную катушку, в то время как передняя мыслительная часть все еще подключена через 3G. При небезопасном соединении сигнал от «мыслящей» части мозга подростка часто пропадает или просто заглушается более громкими и четкими сигналами эмоциональных областей.
В конце концов, когда мозг подростка завершит обновление (примерно в 25 лет), связи между передней и задней частями его мозга сформируют полноценную информационную магистраль и его «думающий» мозг будет не так легко вывести из строя (хотя даже взрослые иногда с этим сталкиваются!). А пока что ваш подросток может казаться этаким доктором Джекилом и мистером Хайдом: в один момент его захлестывают эмоции, и он становится совершенно неразумным (пока связь с его «мыслящей» префронтальной корой не восстановлена), а в другой – снова превращается в милого, рассудительного, вдумчивого человека (как только эмоции утихают, и префронтальная кора снова работает).
Как мозг подростка управляет его поступками
«Вы хотите сказать, что моего подростка заставляет так себя вести его мозг?»
Тот факт, что лимбические отделы мозга подростков находятся в возбужденном состоянии, в то время как префронтальная кора головного мозга все еще находится в стадии формирования, позволяет объяснить типичное поведение подростков. Префронтальная кора играет важнейшую роль не только в регулировании наших эмоций, но и в сдерживании неприемлемого поведения. Если ваш прежде послушный и покладистый ребенок теперь хлопает дверьми, ведет себя агрессивно и вообще нарушает все правила хорошего тона, которым вы учили его последние десять лет, это действительно связано с изменениями в его мозге. Без сдерживающего импульса со стороны префронтальной коры головного мозга, у подростков не остается достаточно мощных механизмов, удерживающих их от грубости, вспышек гнева или нервных срывов.
«Мой подросток не проявляет эмоций и не кричит на меня. Он просто игнорирует меня и ни в какую не хочет со мной разговаривать».
Не все подростки выплескивают свои эмоции наружу. В то время как один подросток выплескивает свои эмоции активной жестикуляцией или громким голосом, другой может столь же интенсивно погружаться в свой внутренний мир, в то время как для случайного наблюдателя это выглядит так, будто он просто смотрит YouTube. У них может быть пустой взгляд. Они могут сказать, что им все равно. Но это не значит, что внутри они не переполнены сильными чувствами. Когда лимбическая система мозга работает на полную мощность, и подросток не может с этим справиться, обычной реакцией становится отключение.
Благодаря такому развитию мозга в переднем и заднем отделах, подростки становятся гораздо более восприимчивыми к соблазнам острых ощущений и вознаграждений. Приятные и полезные ощущения возникают благодаря нашей лимбической системе, которая у подростков работает в полную силу. Но поскольку передняя часть мозга менее надежно контролирует ситуацию, подросткам сложнее устоять перед соблазном. Сигналы о вознаграждении, поступающие в полном объеме, легко заглушают любые предостережения со стороны «мыслящей» части мозга, в результате чего подростки гораздо чаще действуют импульсивно или принимают решения, основанные на желании вознаграждения (вопреки здравому смыслу или, более того, вашему мудрому совету). Подросток может с трудом контролировать большие опасные импульсы, связанные с вознаграждением (например, прыгнуть в реку, чтобы произвести впечатление на друзей), или споткнуться на более мелких повседневных импульсах (например, посмотреть еще одну серию смешного мультфильма, хотя он знает, что нужно сделать домашнее задание).
«Мой подросток почти не выходит из своей комнаты, он никогда не прыгнет с моста!»
Доминирование лимбической системы в мозге подростка не всегда приводит к поиску удовольствий и риску. Она также делает подростков более склонными к чувству страха или угрозы и более уязвимыми к тревоге. Без уравновешивающего баланса со стороны более разумных лобных долей, отвечающих за механизм «Погоди, давай-ка сначала все обдумаем», миндалевидное тело подростка (которое всегда начеку) может начать видеть опасность в любой ситуации и нажимать на тревожную кнопку, посылая один за другим сигналы «Бей, беги, замри».
Иногда такая тревожная реакция возникает по причинам, которые родители могут легко определить: например, подросток так переживает из-за провала на экзамене, что не может сосредоточиться на занятиях. Но часто триггеры не столь очевидны или могут показаться нам пустяковыми, потому что то, что подросток воспринимает как угрозу, отличается от тех угроз, о которых мы беспокоимся как родители. Миндалевидное тело подростка особенно быстро воспринимает угрозы (реальные или воображаемые), которые связаны с четырьмя большими стимулами развития [сепарация, автономия, индивидуализация, ассимиляция]. Например, подросток может отреагировать на стук в дверь любящего родителя, сообщившего, что ужин готов, как на угрозу своему праву самостоятельно принимать решения о том, что и когда делать [автономия], и выдать агрессивную боевую реакцию «Уходи!» Другой подросток может быть настолько чувствителен к угрозе быть исключенным из общества [ассимиляция], что будет участвовать в глупых или недоброжелательных действиях, чтобы оставаться частью толпы. Другой может вообще отказаться заводить друзей и сидеть дома из-за страха кому-то не понравиться. Поскольку лимбическая система у подростков преобладает над «мыслящей» частью мозга, они оценивают риски иначе, чем взрослые, и нам часто бывает трудно уловить реальное ощущение угрозы, которое движет их реакцией (и слишком легко отмахнуться от нее как от несоразмерной).
Конечно, все подростки разные. Развитие мозга может идти по одному и тому же пути, но с разной скоростью для каждого подростка, или проявляться в разных формах поведения. У некоторых подростков признаки зрелости проявляются раньше. Их более сильные исполнительные функции помогут им хорошо сдать школьные экзамены и будут поддерживать их на первых шагах к независимости. Для нейродивергентных подростков (например, страдающих расстройствами аутического спектра или СДВГ) этот период может быть особенно сложным. Развитие их исполнительных функций может идти по другой траектории или в другом темпе, и им может быть особенно трудно не поддаться воздействию миндалевидного тела, которое столь остро реагирует на угрозы и различные раздражители.
Все это не является признаком того, что мозг подростка работает неправильно. Напротив, мозг вашего замечательного подростка переключается на те неврологические паттерны активации, которые приведут его именно к тому поведению, которое необходимо ему на данном этапе развития, – поведению, развивающему навыки независимости и реализующему его стремление к сепарации, автономии, индивидуализации и ассимиляции. Стремление к вознаграждению дает подросткам феноменальную способность к обучению и побуждает их действовать самостоятельно. Сильные эмоции помогают подросткам устанавливать тесные связи с друзьями. Бдительность к угрозам помогает подросткам ориентироваться в обществе и находить свое место в нем. Эта повышенная чувствительность появляется именно тогда, когда она больше всего нужна детям – когда они выходят из-под защиты семьи и самостоятельно занимают свое место в обществе.
Но это не всегда облегчает жизнь подростка. Как, впрочем, и жизнь с ним.
«Кем я стану?»
Если вам трудно узнать своего подростка, поверьте, ему еще труднее понять, кто он такой. По всей вероятности, ваши дети провели первые десять лет жизни вместе с семьей (какой бы она ни была), впитывая привычки, ценности, симпатии и антипатии вашей семейной культуры. Семья – это то, как дети понимают себя. То, что мы делаем вместе, и те выборы, которые мы делаем как семейная ячейка, формирует у детей представление о самих себе и о том, где находится их место. Однако, вступив в подростковый возраст, дети оказываются в гораздо более неспокойных условиях. Внезапно им нужно отдалиться от семьи [сепарация] и начать делать свой собственный выбор [автономия]. Однако каждый их выбор что-то говорит о них самих [индивидуализация] и должен рассматриваться с точки зрения того, как он выглядит и что могут подумать о нем другие [ассимиляция]. Это напоминает жонглирование, которое требует от подростков выйти из защитного пузыря семьи и построить новую независимую идентичность.
Где подросток находит материалы для формирования своей идентичности? Если посмотреть по сторонам, то окажется, что их выбор ограничен. Большая часть жизни подростка уже определена различными обстоятельствами. Подростки не могут выбирать, где им жить. Они вынуждены ходить в школу (независимо от того, нравится им это или нет). Самостоятельно путешествовать может быть непросто, и (как часто напоминают им родители) живут они не в собственном доме и не они оплачивают счета, так что они не могут принимать решения. Один из немногих способов, с помощью которого подросток может заявить о себе, – это его выбор: стиль одежды, прическа, любимые бренды, музыкальные предпочтения, компьютерные игры. Таким образом, подростки используют эти инструменты, чтобы определить (и обозначить), к какому типу людей они относятся (или какими хотят быть), и показать, чего они добиваются.
Со стороны эта стратегия формирования идентичности с помощью косвенных маркеров может выглядеть не столько как открытие подростками своей подлинной сущности, сколько как «примерка уже готовых образов и моделей». Ваш подросток может внезапно заговорить на совершенно другом языке, говоря с друзьями с акцентом, который он никогда раньше не использовал, и говорить слова, которые могут вам не понравиться. Они могут страстно желать носить одежду только определенной марки, которая, по их убеждению, жизненно необходима для их счастья, и использовать все свои эмоциональные приемы, добиваясь этого от вас. Многие из экспериментов вашего подростка с идентичностью будут мимолетными и поверхностными (через полгода вы найдете ту самую дизайнерскую толстовку, которую он уже никогда не наденет, скомканной под кроватью). Другие же откроют правду о себе, которая останется навсегда. В этом процессе нет ничего ложного или недостоверного, каждая новая итерация идентичности (повторение какого-либо действия) содержит что-то важное, что ваш подросток узнает о себе.
Будучи родителем, бывает непросто уследить за этими внезапными изменениями личности или, более того, принять их, особенно если они противоречат нашим ценностям или представлениям о ребенке. Потратив более десяти лет на то, чтобы так хорошо узнать своего ребенка, мы, естественно, немного цепляемся за его детскую версию, которую так полюбили. Нам может казаться, что мы знаем своего ребенка лучше, чем он сам себя, хотя на самом деле это он внутри работает над тем, кем становится, в то время как мы просто наблюдаем за ним снаружи. Подросткам требуется огромная смелость, чтобы показать миру, кто они такие, поэтому никогда не высмеивайте, не отвергайте и не отрицайте самовыражение вашего подростка. Дайте ему понять, что абсолютно принимаете, любите и цените его.
Способы решения
Беспорядок в комнате
Беспорядок в комнате подростка – одна из самых распространенных проблем, на которую жалуются родители. А что, если посмотреть на неубранную комнату под другим углом? Не как на признак того, что наш подросток не смог сделать (например, повесить одежду, убрать посуду или вытереть лужу от пролитого напитка), а как на проявление того, как много всего происходит в его жизни и в его сознании?
Косметика (без крышек), разбросанная перед зеркалом: может быть, она показывает, как трудно вашему подростку найти путь между социальными ожиданиями и верой в себя?
Следы на ковре от брошенных выпрямителей для волос: может быть, они показывают, как напряженно каждый день идет подготовка к съемкам?
Гантели, собирающие пыль рядом с пустым тюбиком крема от высыпаний: как трудно расставить приоритеты, когда важно все?
Выброшенные крышки от ручек, сломанный игровой контроллер, бигуди для ресниц рядом со скомканными конспектами для эссе о суфражистках, мотивационный плакат, висящий на стене («Мечтай о большем! Будь добрее! Продолжай улыбаться!»), прошлогодние поздравительные открытки… Когда мы находим время посмотреть, с чем имеют дело наши подростки, нас поражает, сколько элементов они пытаются совместить и сколько энергии на это уходит.
Взгляните на это по-новому. Что бы вы увидели, если бы взглянули на беспорядок в комнате вашего подростка другими глазами?
«Где мое место?»
Им просто нужно быть самими собой, не так ли? Что подумают другие люди, не должно быть для них так важно. Эти косвенные признаки – одежда, прическа, место жительства, хобби – так важны, потому что идентичность подростка – это не только выяснение того, кто он есть, но и то, кем его видят. Подросткам нужно ответить не только на вопрос «Кто я?» [индивидуализация], но и «Куда вписывается это самое „Я“?» [ассимиляция]. Одновременно с выработкой собственных взглядов и предпочтений подростки сопоставляют их со шкалой социального одобрения и спрашивают себя: «Что подумают мои друзья, если увидят, что я так поступаю?» Это почти как если бы они мысленно представляли себе воображаемую аудиторию друзей, чтобы проверить, как могут быть восприняты их мысли, действия и внешний вид в любой момент.
Конечно, все мы в той или иной степени делаем это, в том числе и родители, но воображаемая аудитория подростка особенно сильна. Из экспериментов, проведенных с помощью магнитно-резонансной томографии, известно, что мысль о том, что за вами наблюдают, гораздо сильнее отражается в мозге подростка, чем в мозге взрослого или ребенка, и, когда подростки верят (или воображают), что за ними наблюдает другой подросток, у них активируется реакция стресса. Их сердца учащенно бьются, кожа может покраснеть, они начинают потеть при одной только мысли о том, что за ними наблюдает другой подросток. Если добавить сюда социальные сети и реальную перспективу того, что кто-то может прямо сейчас смотреть на вашу фотографию или последнюю публикацию в групповом чате, то подростковая застенчивость может быстро перерасти в тревогу.
Как родители, мы хотим, чтобы наши подростки чувствовали себя хорошо и знали, что они прекрасны и любимы такими, какие они есть. Мы расстраиваемся, когда видим, насколько сильно они пекутся о том, что думают другие люди, следуют за толпой или модными трендами. Однако для подростка влиться в группу сверстников – это не выбор. Мозг, тело и бурный рост подростка кричат о том, что ему необходимо влиться куда-нибудь. Психологи называют этот процесс адаптации «присоединением к группе сверстников». Подростки будто бы пытаются приклеиться к своей группе сверстников. С точки зрения эволюции, это вполне логично, поскольку «прилипание» к группе позволяет адаптироваться (если вы часть стаи, у вас гораздо больше шансов остаться в живых и найти себе пару). Научиться считывать социальные сигналы – древний механизм выживания, а быть отвергнутым стаей – угроза существованию. И, как мы знаем, когда срабатывают инстинкты выживания, включаются те самые активные участки в задней части мозга подростка. Настолько, что на МРТ мозг подростка регистрирует социальную боль с той же интенсивностью, с какой мозг взрослого человека регистрирует боль физическую. Просто задумайтесь об этом на мгновение. Когда подросток чувствует себя униженным или отверженным (или даже просто представляет, что такое может случиться), его мозг реагирует так, как если бы ему причинили физическую боль. Они действительно чувствуют эту боль сильнее, чем мы.
И поскольку это так больно, неудивительно, что подростки всеми силами стараются избегать неодобрения со стороны сверстников. Они делают это разными способами – например, всегда носят одежду тех же марок, что и их друзья, или идут на поводу у толпы (даже если знают, что это плохая идея). Другие пытаются избежать неодобрения, оставаясь в стороне от всеобщего внимания и будучи как можно менее заметными, никогда не задают вопросов на уроках, сливаются с толпой в школьных коридорах или прячутся дома в своих спальнях.
То, что для них важна группа сверстников, не означает, что у них много друзей. Подростки прекрасно понимают, какое место они занимают в социальной иерархии.
Конечно, если бы моего подростка действительно так волновало мнение окружающих, он бы чаще принимал душ и больше гулял.
Когда одобрение трудно получить, а боязнь быть отвергнутым так остро ощущается, уход из социальных групп и пребывание в своей комнате (или ограничение общения телефонами или компьютерными играми) – вполне разумная стратегия, позволяющая избежать отвержения и сохранить хоть какую-то самооценку. Не заботиться о том, что носить, или не принимать душ – это тоже социальные стратегии, хотя и защитные. Если вы добровольно исключаете себя из общества и делаете вид, что не хотите быть частью группы, вас не могут отвергнуть. Даже если подростки полностью скрываются в своих комнатах, давление со стороны группы сверстников все равно действует на них. Это те подростки, которые часто смертельно расстраиваются, если не могут быть в Сети в определенное время суток, играя в компьютерную игру со своей сетевой командой.
Большинство родителей остро чувствуют, когда наши подростки сталкиваются с проблемами, связанными с тем, как вписаться в общество. Мы отчаянно хотим помочь. Однако именно в это время подростки чаще всего отказываются от нашей поддержки и отвергают наше мнение. Даже если вашему подростку трудно разобраться в своей идентичности, эти факторы развития означают, что ему все равно нужно как-то дать понять (себе и своей воображаемой аудитории), что он больше не тот ребенок, которым был раньше. И один из самых простых способов заявить о том, что он больше не ребенок, – это перестать участвовать в семейных мероприятиях и отвергать все, что им нравится и не нравится. Возможно, ваш подросток еще не понял, кто он такой, но одно он знает точно – это не вы. Потому что, честно говоря, все, что связано с вами, просто неправильно.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе