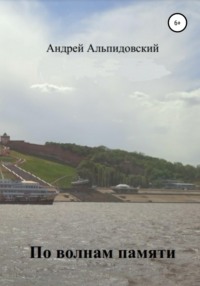Читать книгу: «По волнам памяти. Воспоминания в рассказах», страница 2
Речная романтика или аромат балыка
1958 год, грузовой теплоход «Норильск». Я – на штатной практике в должности третьего штурмана.
А.: Теплоход «Норильск» – тип речных сухогрузных теплоходов грузоподъёмностью 2000 тонн (проект 11, построен в 1951 г.).Строительство судов проекта 11 «Большая Волга» велось с 1948 по 1956 годы на волжских судостроительных заводах в Горьком и Сталинграде. Всего за указанный период было построено около 130 речных сухогрузных теплоходов этого проекта. Суда предназначались для транспортировки насыпных, навалочных, тарно-штучных грузов, угля, щебёнки, песка и гравия, бумаги в рулонах, древесины в брёвнах.
В навигацию этого года мне посчастливилось работать с капитаном Алексеем Григорьевичем Чернышёвым, мягким по характеру, внимательным, доброжелательным человеком, но при этом настоящим профессионалом своего дела. Команда его любила, экипаж был, как одна семья.
Личная жизнь у Алексея Григорьевича, к сожалению, не сложилась. Его сын Вячеслав после неудачного прыжка с парашютом во время учёбы в лётном училище повредил позвоночник, стал инвалидом. Всю навигацию он проводил вместе с отцом на теплоходе «Норильск». Жена Алексея Григорьевича с дочерью жила в Саратове и ни разу за время моей практики его не навестила.
Капитан относился ко мне по-отечески, многому научил в профессиональном и практическом отношении.
Как-то при подходе к Горному Балыклею он сказал мне: «Митя, сегодня ночью нам бакенщик привезёт осетров. Я тебя научу, как готовить балык!».
А.: Горный Балыклей – село в Дубовском районе Волгоградской области. Основано в 1732 году как станица Балыклейская Волжского казачьего войска. В 1744 году построена первая церковь. В 1777 году за участие в Пугачёвском бунте волжские казаки были выселены на Терек. Лишь части казаков, наименее замешанных в событиях крестьянской войны, было позволено остаться на Волге. Село расположено в степи в пределах Приволжской возвышенности, относящейся к Восточно-Европейской равнине, на западном берегу Волгоградского водохранилища и северном берегу залива, образованного в устье реки Балыклейки.
В то время, о котором я рассказываю, Волгоградское водохранилище еще не было заполнено.
Как вы понимаете, балыка без соли не сделаешь. Так как мы часто грузили соль в Ахтубинске (административный центр Ахтубинского района Астраханской области; был образован в 1959 году путем объединения слободы Владимировка, поселков Петропавловка и Ахтуба), её у нас было в достатке, хранилась соль в специальном ларе, большом деревянном ящике с откидной крышкой.
Ночью бакенщик на моторке привез нескольких осетров, не бесплатно, конечно. На следующий день на баке (надстройка судна в носовой части, доходящая до форштевня. На речных судах баком называется возвышение над палубой в носовой части судна. На баке устанавливаются механизмы для подъема якорей), где были разложены осетры, капитан начал меня учить «процессу». Он принёс с собой клеёнку, шпагат, острые ножи. Велел мне принести тазы, вёдра с водой и пакет с солью «нулевого помола».
Когда всё было приготовлено, Алексей Григорьевич обратился ко мне: «Смотри и повторяй за мной.
– Первое: отрезается голова.
– Второе: вспарывается брюховина. Если обнаруживаем икру, складываем ее отдельно, очищаем от полос. Икру складываем в двухслойную марлю и погружаем в чистое ведро с насыщенным соляным раствором на два часа. Затем икру в марле подвешиваем и ждем, когда стечет раствор. Потом перекладываем ее в эмалированное блюдо и ставим в холодильник. Если осетр – самец, то его молоки вместе с головизной (голова и часть хребта рыбы, из которых готовят заливное, студень, уху, рассольники и бульоны) пойдут на готовку ухи для экипажа, на «колпит» («коллективное питание» – запас продуктов и денежных средств для питания членов экипажа на судне).
– Третье: надрезается хвост и вместе с ним вытягивается хребет («вязига» – спинная струна, или хорда осетровых рыб, которую сушат на чистом воздухе, а затем вяжут в пучки и используют в вареном виде для начинки пирогов, расстегаев и кулебяк), которая затем используется как начинка для пирогов.
– Четвёртое: тщательно смывается слизь из внутренней полости брюха. Тушка кладётся на клеёнку, спинка надрезается полосками, внутри живота делаются глубокие разрезы. Надрезы тщательно просаливаются крупной солью, особенно на спинке.
– Пятое: тушка плотно сворачивается в клеёнку и туго обвязывается шпагатом наискосок, по спирали к хвосту, где завязывается.
– Шестое: тушки в клеёнке складируются в румпельное отделение на корме (помещение на судне, в котором расположен румпель – одноплечий или двуплечий рычаг, насаженный на голову руля; посредством румпеля производится перекладка руля). Там всегда сыро и прохладно. Закладка происходит на трое суток.
– Седьмое: позади рубки, под её крышу крепятся крюки, на которые вывешивается балык. Теперь надо ждать, пока не стечет влага и не образуется коричневая корочка. Дозревание балыка на солнышке и на ветерке проходит в течение пяти-семи дней, в зависимости от погоды.
– Восьмое: балык снимается, разрезается на куски и в восковой бумаге помещается в холодильник».
«Лекция» Алексея Григорьевича, а особенно практическая часть, запомнилась мне на всю жизнь.
Ночная вахта на судне длилась шесть часов. Молодому практиканту очень хотелось поесть. Капитан отпускал меня за балыком и ржаным хлебом.
Мы с ним с удовольствием и большим аппетитом «наворачивали» балык с горбухой хлеба. Вдыхали аромат этой «вкуснятины», запахи ночного воздуха и реки Волги, любовались бескрайним звездным небом над головами – незабываемые мгновения речной романтики!
Уверен, что сейчас такого балыка в магазине не купишь, будь вы даже олигарх или крупный чиновник. А в те годы всё было доступно речникам и их семьям.
А.: О доступности семьям речников щедрых волжских даров. «В 1960-70-е годы почти каждое лето мы с родителями (а потом и с сестрой Леной) отдыхали, как сейчас говорят, «совершая речные круизы». Мы ходили и до Москвы, и до Ленинграда, и до Ростова, и, конечно, до Астрахани. Почти в каждом порту нас встречали, угощали и провожали папины знакомые. Особенно теплый прием всегда был в Астрахани. Арбузы, дыни, вобла, осетрина, чёрная икра – всё это изобилие, казалось, будет всегда и никогда не закончится. Надо отметить, что папа, как работник речного транспорта, мог ежегодно бесплатно получать билеты на проезд в каюте 2-класса на себя, жену и детей. Обычно он доплачивал необходимую сумму (несколько рублей) и мы путешествовали в каютах 1-го класса. Да, было «золотое» время…» (Альпидовские. История рода / Андрей Альпидовский. – Нижний Новгород: издательство «Дятловы горы», 2011, – 112 с. ISBN 978-5-905225-01-4)
Папа вышел на пенсию ровно через 40 лет после описываемых им событий – в 1998 году (как он говорил: «После прихода в пароходство «разрушителей»). Но моя семья, благодаря отцу, немного застала эпоху волжского изобилия. В 1996 году, когда Дмитрий Валентинович работал начальником отдела кадров Волжского объединенного речного пароходства, я со своей семьей (жена Люда и сыновья Саша и Кирюша) сходили до Астрахани в каюте 2-го класса. И всё повторилось, как в моём детстве: радушные папины однокурсники (особенно в Астрахани), арбузы, вобла, черная икра, балык…
Дикий зверь в «Социализме» и НЛО в «Париже»
Вспоминается одно из моих дежурств в период зимнего отстоя флота в судоремонтного завода (СРЗ) «Память Парижской коммуны» («Париж» – распространенное в среде волгарей название СРЗ «Память Парижской Коммуны»). Директором СРЗ тогда был Юрий Иванович Хлебников, главным инженером – Владимир Васильевич Амосов. Дежурство проходило в верхней «караванке» (небольшое помещение близ каравана судов, в котором находился дежурный по каравану, обязанный вести учет прихода и выхода судов, а также сохранность судов стоящих у причалов), оборудованной металлической печью. Для отопления применялся каменный уголь, который брали на улице метрах в десяти от «караванки».
Шел декабрь 1959 года. Ночь. Мороз ниже минус тридцати градусов. Вдруг с верхнего счала (счал – группа из нескольких соединённых между собою судов) бежит вахтенная (женщина средних лет) в тулупе до пят и кричит: «Чёрт! Чёрт!».
Сначала я не понял, что случилось. А потом, подойдя поближе к судам, увидел, что это рысь попала в гребное колесо парохода «Социализм». Как она запуталась в спицах колеса – непонятно. Зверь агрессивно рычал, не давая подойти ближе. Через какое-то время рыси удалось освободиться, и она убежала. Но вахтенная боялась возвращаться на счал.
Мы стояли с ней у кучи угля для растопки печки и разговаривали.
Вдруг вахтенная опять резко закричала: «Смотри, луна спускается!»
Гляжу – над верхним счалом завис огненный шар. Потом он направился к нам. Женщина рухнула лицом вниз, уткнулась в снег и стала причитать: «Свят, свят, спаси меня!»
Огненный шар был размером с волейбольный мяч, вокруг него образовывались искры, слышен был характерный треск. Наступила странная тишина. Шар, то поднимался, то оседал, постепенно удаляясь от нас к дубовой роще. Наконец, он пропал из виду.
Это небывалое зрелище долго обсуждали в караванке. Большинство высказывалось за то, что это была шаровая молния. Я, сомневаясь, спросил: «Откуда она взялась зимой? Грозы-то не было». Но все убеждали меня, что шар образовался из-за большого количества высоковольтных линий, проходящих недалеко от «Парижа». Я, однако, не уверен на сто процентов, что это была шаровая молния. А вдруг все-таки неопознанный объект (НЛО)?
Много лет спустя, проезжая летом на троллейбусе в районе Советской площади города Горького, я второй раз увидел такой огненный шар. При его появлении пропало напряжение в электропроводах, троллейбус остановился, и наступила тишина, почти такая же, как в 1959 году.
Странно, но пассажиры, хоть и были удивлены увиденным, не стали обсуждать между собой это явление.
«Правительственные» рейсы
В 1960 году я был назначен вторым штурманом на пассажирский теплоход «Комарно». В то время его капитаном был наш сосед по коммунальной квартире – Николай Сергеевич Абатнин.
Квартира (под номером 3) находилась на втором этаже в доме 24 по улице Нестерова.
А.: Пётр Никола́евич Не́стеров (1887 – 1914) – русский военный лётчик, штабс-капитан. Родился в Нижнем Новгороде 15 февраля 1887 года в семье офицера-воспитателя кадетского корпуса Николая Фёдоровича Нестерова (1863—1890). 26 августа 1897 года Нестеров поступил в Нижегородский кадетский корпус. Его отец умер рано, в возрасте 27 лет. В связи с плохим материальным положением, возникшим после потери кормильца, его вдова Маргарита Викторовна вынуждена была переехать на частную квартиру (ул. Больничная, позднее Нестерова). В 1904 году Нестеров закончил корпус. Основоположник высшего пилотажа (петля Нестерова). Погиб в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации применив таран.
История улицы и дома заслуживает отдельного рассказа.
История улицы Больничной (Нестерова)
А.: сделаем небольшой экскурс в историю родной улицы. Улица Больничная была спроектирована еще планом 1770 г., но пробита лишь при Генеральном размежевании территории города Нижнего Новгорода в 1784 – 1787 гг. Первоначально называлась Ивановской по расположенному рядом Иоанновскому монастырю, исключенному из штатов в 1764 г., значительную часть которого занял архиерейский сад. После возведения на спуске улицы в Ковалихинский овраг больничных корпусов в 80-х годах XVIII в. она стала в обиходе именоваться "идущей от Жуковской в Ковалиху мимо больницы".
В 1825 г., когда у полковника С. М. Мартынова под больницу на Жуковской улице был куплен значительный участок земли, на нем стали возводить палаты. После этого улица, на которой располагались и старая, и новая больницы, чаще именовалась уже Больничной. При уточнении названий улиц и площадей Н. Новгорода по конфирмованному плану 1839 г. ее стали именовать так уже официально.
Николай Храмцовский (русский историк, основоположник нижегородского краеведения, впервые изложивший многовековую историю Нижнего Новгорода в одной книге, изданной в 1857 году: «Краткий очерк истории Н. Новгорода») писал о ней так: «Больничная улица идет от Ковалихи до Верхней набережной, пересекая Тихоновскую, Большую Печерскую и Жуковскую. Между Ковалихой и Тихоновской находится Александровская богадельня, а налево – рабочий дом. Строение на ней почти всё деревянное, но чистое и довольно красивое».
Дом № 8 «А» по нынешней улице Нестерова принадлежал крестьянину Александру Яковлевичу Малышеву. После отмены крепостного права крестьяне стали чаще переезжать в Нижний Новгород на жительство. На купленном участке земли Малышев решил выстроить каменный постоялый двор. Проект дома он заказал ведущему архитектору города Н. Д. Григорьеву. Планы-фасады были рассмотрены и одобрены Строительным отделением городской управы 25 мая 1883 г., и сразу же начались работы под надзором автора проекта. Был устроен центральный арочный проезд во двор, и постояльцам начали сдавать не только комнаты для ночлега во флигеле, который соединялся с главным зданием, но и конюшни для лошадей.
К слову, с 1889 по 1891 гг. в этом доме после своего первого ареста жил Алексей Максимович Горький.
До революции 1917 года ул. Больничная была застроена, в основном, двухэтажными деревянными домами на каменных подклетях. По воспоминаниям Д.В.Альпидовского в домах проживали, в основном, семьи врачей. Например, в доме 24 жил врач-гинеколог Глядков. В доме 22 жил известный врач-отоларинголог Петерсон.
Семьи врачей занимали вторые этажи зданий, на первом они вели прием пациентов. После октябрьских событий все квартиры дома стали коммунальными, врачей кого выселили, кто сам уехал. В коммунальной квартире 3 дома 24 на 2-м этаже примерно с 20-х годов 20-го века жило наше семейство. Дед Александр Иванович Бондарев (1878-1933 гг.), его жена, бабушка Мария Сергеевна Бондарева (1888-1986 гг.) и ее дочери: Александра Александровна Альпидовская (мама, 1909-2000 гг.) и Елена Александровна Ростокина (1913-2001 гг.) с семьями.
В квартире на втором этаже было 6 комнат, русская печь, ванна. Комнаты располагались вокруг прихожей, в каждой, кроме двери в прихожую, была дверь в соседнее помещение. Гостиная, столовая, кабинет, спальная, кухня, комната для прислуги – напоминает квартиру профессора Преображенского из «Собачьего сердца», не так ли? Когда квартиру превратили в коммунальную, двери между комнатами заделали, ванную убрали, в общем – никакой буржуазной роскоши не осталось. Кроме семей Бондаревых, Альпидовских и Ростокиных в квартире жили семьи Абатниных, Грязновых, Глассонов и др.
Мой дед, Александр Иванович, до революции работал управляющим у «мукомольного короля» купца М. Е. Башкирова. До революции семья А.И.Бондарева жила в районе площади Сенной в каменном доме и занимала весь 2-й этаж, внизу находился хлебный магазин. У детей была гувернантка, учительница французского языка. На 90-м году жизни мама, Александра Александровна, вспомнила детство и читала стихи на французском языке. По причине «непролетарского» происхождения ее в 20-х годах прошлого века не приняли в университет, хотя вступительные испытания она прошла успешно. После революции семью переселили в квартиру 3 в том самом доме 24 на улице Больничной. Слава Богу, обошлось без репрессий.
Возвращаемся к повествованию о «правительственных рейсах».
Остров Свияжск. «Бухта радости»
Пассажирский теплоход «Комарно» проекта 26-37 был построен на судоверфи в г. Комарно (город на территории Житного острова в юго-западной Словакии на Дунае) Чехословацкой социалистической республики в 1959 году. Для приёмки теплохода нас командировали в Ростов-на-Дону. Там, чтобы свободно пройти под одним из мостов города Ростова-на-Дону, на заводе «Красный Дон» было произведено снятие оборудование судна (антенна, электрика, рубка, труба), которое потом вновь смонтировали, и «Комарно» отправилось в первый рейс на Волгу.
Теплоход сразу поставили на «правительственную» перевозку. В Казани к нам сел А.Б.Аристов, секретарь ЦК КПСС. В это время проводились мероприятия по «братанию» татар и чувашей. Был «придуман» праздник в городке Свияжске на одноимённом острове. Этот остров «брал» Иван Грозный в свое время.
Там же швартовался теплоход «Г.В. Плеханов». В Свияжске к нам на борт прибыла чувашская делегация. На теплоходе «Г.В.Плеханов» присутствовал член правительства Д.С.Полянский. На нем вторым штурманом был мой однокурсник Венедикт Кистень. Теплоходы стояли борт к борту. На палубе проходили гуляния, пели национальные песни. За хорошую организацию перевозок и обслуживания экипажи получили премии.
Не успели мы завершить этот рейс, как нас (после дооборудования) поставили в Москву на обслуживание пленума ЦК КПСС (13-16 июля 1960 г.).
А.: Повестка дня пленума – доклады председателя Госплана СССР К.М.Герасимова, секретаря ЦК КПСС Ф.Р.Козлова, заместителя председателя СМ Украинской ССР И.С. Сенина, директора Института электросварки им. Е.О.Патона АН УССР Б.Е.Патона и др.
Было принято постановление «О ходе выполнения решений XXI съезда КПСС о развитии промышленности, транспорта и внедрении в производство новейших достижений науки и техники».
Теплоход «Комарно» использовался в качестве «штаба» (там планировали собираться члены правительства, секретари обкомов во главе с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Сергеевичем Хрущевым и приглашенные гости). На теплоход был вызван Ростислав Евгеньевич Алексеев (советский кораблестроитель, создатель судов на подводных крыльях, экранопланов и экранолётов) с опытными образцами «крылатых» судов и экраноплана в «военном» варианте (высокоскоростное транспортное средство, аппарат, летящий в пределах действия аэродинамического экрана, то есть на относительно небольшой (до нескольких метров) высоте от поверхности воды, земли, снега или льда).
Мы стояли в «Бухте Радости» (зона отдыха "Бухта радости" находится на Пироговском водохранилище, 18-й км по Осташковскому шоссе), там, где правительственные дачи на берегу небольшого водохранилища. Был очень жаркий день. Перед приездом высоких гостей прибыл Зосима Алексеевич Шашков, министр речного флота. В нейлоновой рубашке (в то время в Советском Союзе красочные, не мнущиеся рубашки и батники из нейлона вызывали настоящий фурор и были предметом зависти менее удачливых сограждан, щеголяющих в хлопке), без формы, он лично осмотрел весь теплоход.
А перед его приездом мы отдраили всё судно, расстелили ковры, пропылесосили.
Неожиданно он командует мне: «Штурман, убирай ковры!». Мы убрали ковры, а под ними – пыль, опять надо убираться. Кое-как успели.
Приехал Н.С.Хрущев, пошёл по теплоходу в сопровождении министра З.А. Шашкова. Капитан и мы, штурманы, идём за ними, мне хорошо слышен разговор.
Никита Сергеевич говорит Шашкову: «Это другое дело, чувствуется, что здесь никаких излишеств нет». А до этого он посетил теплоход «Добрыня Никитич», немецкой постройки (ГДР). Там везде были ковры. Поднимается он на третий дек (дэк (англ. deck) – палуба судна), на нем одноместные каюты, люкс, каюта капитана. На третьем деке ковер остался. Тут министр, так сказать «прокололся». Хрущёв спрашивает:
– А почему здесь ковер?
Шашков:
– Вы знаете, Никита Сергеевич, на втором деке, ниже, тоже каюты. Женщины сейчас ходят на высоких каблуках, стучат, беспокоят нижних пассажиров – поэтому постелили.
Хрущёв:
– Вечно у тебя одни бабы на уме!
А на самом деле, монтажные палубные щиты, которые закрывали кабели электропроводки, были сделаны с выступающими дюралевыми ободочками. За них можно было случайно зацепиться и упасть, поэтому по всему коридору стелили ковры.
Хрущев вошёл в отведённый ему люкс. Там ему не понравились на окнах тёмные плотные шторы. Шашков стал объяснять: «Если вы, Никита Сергеевич, решите днём прилечь отдохнуть, то шторы закроют яркий солнечный свет». Хрущев опять сделал замечание министру: «Днём надо работать, а не спать!».
По распоряжению Н.С.Хрущева в этом же году Зосима Шашков был снят с должности министра речного флота РСФСР с формулировкой: «За перерасход средств на строительство флота». Шашков практически был последним министром из «сталинской» команды.
А.: Зосима Алексеевич Шашков родился 30 апреля 1905 года в деревне Новинки Сольвычегодского района Архангельской губернии в семье крестьянина. С окончанием Приводинской церковно-приходской школы в 1918 году Шашков работал бакенщиком на Двине. В 1922 году поступил в Устюгское речное училище, окончив которое получил диплом штурмана первого разряда речного флота и был назначен на должность начальника надзора Северного бассейна. В 1929 году Шашков поступил в Московский институт инженеров водного транспорта, а затем перевёлся в Ленинградский институт инженеров водного транспорта. Последний институт в 1933 году окончил с отличием. В том же году начал преподавать в Горьковском институте инженеров водного транспорта, где с 1933 по 1937 годы работал деканом факультета, а с 1937 по 1938 годы – директором института. В годы Великой Отечественной войны, являясь членом транспортного комитета при Государственном комитете обороны, Шашков руководил организацией Ладожской переправы во время блокады Ленинграда, а также снабжением по рекам войск Сталинградского фронта.
С 15 марта 1953 по 25 августа 1954 года Зосима Шашков возглавлял объединённое Министерство морского и речного флота СССР, с 25 августа 1954 по 31 мая 1956 года – Министерство речного флота СССР, а с мая 1956 по 1960 год – Министерство речного флота РСФСР. Умер в 1984 г.
Когда я об этом эпизоде рассказал начальнику ВОРПа Константину Константиновичу Короткову (заслуженный работник транспорта РСФСР, начальник Волжского объединённого речного пароходства (1960 – 1984 гг.)), он спросил меня: «А ты знаешь, за что на самом деле сняли Шашкова?» Я отвечаю, что сам читал постановление с формулировкой «за перерасход». Коротков говорит: «Нет, ты не знаешь. Мне рассказывал сам Шашков. У него с Хрущёвым давнишнее противостояние. Когда Никита Сергеевич в 30-х годах был первым секретарем Московского горкома партии, у И.В.Сталина проводилось совещание, на котором докладывали о ходе строительства канала Москва – Волга. Когда главные инженеры проекта закончили, слово предоставили Хрущёву. Он говорит:
– Мы, Иосиф Виссарионович, при строительстве мостов через канал сумели сэкономить».
В то время суда были двухдечные, низенькие, как в фильме «Волга-Волга», или, например, как пароход «Иосиф Сталин».
«Сталин послушал Хрущева и спрашивает:
– А что нам скажет нарком?
Зосима Алексеевич Шашков тогда был самым молодым из министров (наркомов), его должность называлась «наркомвод», то есть он командовал и речным, и морским флотом. До этого он работал ректором Горьковского института инженеров водного транспорта.
Шашков встает и докладывает:
– Товарищ Сталин, мы считаем, что такие низкие мосты будут тормозом для развития речного флота. Дело в том, что на смену нынешним небольшим пароходам придут суда, которые будут выходить в моря. Москва будет портом пяти морей.
– Правильно, – вставил реплику Сталин.
– Поэтому мы считаем, что высоту мостов нужно поднять, – продолжил Шашков.
– Правильно говорит товарищ Шашков. Мы должны строить на века! – сказал Сталин.
Совещание заканчивается. Шашков рассказывает:
– Я выхожу, хлопаю по плечу Хрущёва, говорю: Ну что, Никита?
Хрущёв отвечает:
– Я тебе этого не прощу.
25 лет спустя он мне этого и не простил».
Вот такой интересный рассказ К.К.Короткова о его разговоре с З.А. Шашковым.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе