Очень неоднозначное впечатление от этой книги. С одной строны - беспросветность и тоска российской деревни (поселка в данном случае), пьющие родители, семеро по лавкам, вечная нехватка денег. С другой - мир глазами подростка, почти еще ребенка. Катька другой жизни не знает, для нее мир вокруг - это данность, не хорошая и не плохая. Осознание, что нужно бежать из поселка, еще только начинает пробиваться в сознании. Потому что в целом жить в поселке хорошо - тут речка есть, учительница обещала красивую географическую карту подарить, попадья пирожками угощает, продавщица Олеся Ивановна на работу взяла... Но мысль "вот уеду в город" - она уже есть. Это надежда, которая, впрочем, для Катьки вряд ли сбудется. Потому что не сможет она бросить мелких братьев и сестер. Наверняка так и останется в поселке, начнет попивать, станет такой же как ее мать. Но пока еще осталось немножко детства и немножко лета, еще можно помечтать, что город в ее жизни обязательно будет.
Что такое деревенская жизнь?
Это подъем с петухами, лучи ласкового солнца в окне, чистейшая до сладости родниковая вода, квартет лягушек в огороде, кошкины подношения мышей на пороге, далекий собачий лай в начале деревни, или же стук колес по железной дороге, постепенно увозящей состав куда-то в далекую даль?
Нет, деревенская жизнь это вечные побои, холод из-за нетопленной неделями печки, громкое урчание в животе при виде свежайших печенюшек «Курабье» и какая-то неимоверная тоска по большому городу и возможности затеряться в его огнях навсегда…
История подростков из семьи Комаровых - это портрет ушедшей эпохи девяностых, когда в стране порядка уже не было, но ещё свежи были воспоминания о нем у тогдашних стариков, переживших войну и Советский Союз.
Роман «Поселок на реке Оредеж» - произведение, написанное кровью всех тех, кто выжил и кого сломала деревня с её безнадегой, пьянством и распущенностью.
Здесь говорящая фамилия Комаровы это клеймо, грязное пятно, надоедливые насекомые, которых каждый хочет стукнуть, прогнать, о которых не вспоминают до лета, потому что они портят всем нервы - так и с девочками Катей и Леной, ненужными и брошенными на произвол судьбы, для которых чужая тетя роднее матери, а чужой дядя - почти бог.
Непременно читайте роман Анаит Григорян, но не ищите в нем динамичность и бег времени - в том посёлке их просто нет, остался лишь рыжий песок по берегам реки Оредеж да душераздирающий крик выпи, сулящий беду.
Спасибо блогеру read_k за то, что познакомила меня с творчеством автора.
Поразительно…как же мы меняемся…
…У подростков Кати и Лены Комаровых из многодетной бедной семьи забот полон рот: пока пьяные отец и мать ссорятся друг с другом, нужно как-то накормить, одеть и обуть младших сестренок и братьев. На носу кризис 1998 года, но надежда на чудо не оставляет детей. И чудо все-таки случается. Ведь там, где взрослый не увидит ничего, кроме нищеты и безысходности, ребенок способен рассмотреть тайну…
Первый раз я читала этот роман сразу как только он вышел и признаюсь, что я его ругала…я даже специально не удаляю и не архивирую тот пост, который является для меня чёткой отметиной после которой мое мнение о мире, о книгах, о житейских моментах, о детях, о семье и многом другом очень сильно изменилось.
Роман настолько прошёл мимо меня, что я даже не запомнила автора, но спустя какое-то время прочитав другие книги Анаит Григорян и увидев вот это «смутно знакомое» название в новой обложке у @read_k я решила, что нужно перечитать и сделала это не зря…ощущение, что я тогда читала совершенно другую книгу, ну и не рассмотрела того, что вижу в ней сейчас!
Для знакомства с автором я бы все же советовала начать с другой книги, хотя возможно это просто моя ментальная память из прошлого так говорит…
В общем роман я рекомендую к прочтению! Он оказался совсем другим, чем я его запомнила, просто нужно что-то прочесть между строк, кое-где заглянуть в себя, что-то мысленно покрутить, а что-то отложить на потом и обдумать!
Это был очень интересный для меня опыт прочтения и сравнения меня и моих мироощущений тогда и сейчас! Книги Анаит Григорян как всегда ярки, жизненны и интересны!
Тем, кто думает, планирует или помышляет это читать, стоит знать несколько вещей. Во-первых, для повести в "Поселке" многовато букв, по объему это вполне тянет на средний роман. Во-вторых, никакой магии, в отличие от "Осьминога", только харкдор, только реализм. В-третих, всё время чтения меня страстно интересовало, где этот самый поселок, так что я, конечно, загуглила и узнала. Это не Дальний Восток, не Заполярье и даже не Бобруйск - это в Ленинградской области.
Абсолютную тоску и безысходность писательница передала превосходно. Главная героиня - девочка двенадцати лет, старшая в семье из семерых. На дворе 90-е и глухое безвременье. К радостям чтения дети (героиня чаще всего тыняется со своей младшей сестрой, ей 10) не приучены. Отец страшно пьет и бьет смертным боем всю семью, мать работает швеей третьего разряда, бабка померла, одна из сестёр идиотка. Из медицины в поселке фельдшерица, которая все болезни лечит парацетамолом. Для духовного развития есть священник, его жена и разбитная продавщица в магазине... И мать уже ждет, какая из сестер первая принесет в подоле.
О будущем детей писательница сострадательно умалчивает, да и не в этом, видимо, была цель. Книга заканчивается внезапно. Тест Бехдель пройдет.
Второй раз я открываю книгу от того, что в заголовке присутствует знакомое название. Я не одно лето провела в Ленинградской области, и хотя не довелось побывать в окрестностях поселка, чье название в книге так и не появилось, река Оредеж мне знакома. Не раз проезжала на электричке по линии СПб- Луга и знать не знала, что гатчинские леса скрывают поселок, с жителями которого знакомит эта книга. Книга написана прекрасным языком и, видимо от убедительности описаний быта и диалогов персонажей, накатывают такие горькие ощущения. Для меня не новость, что вымирают деревни, но то, что описано в книге - мрак и жуть... Уж не потому ли автор июльские ночи (в самый разгар "белых ночей") описывает как темные-темные. Во время чтения в глубине мозга постоянно рефреном возникали некрасовские строки: "Прочна суровая среда, Где поколения людей Живут и гибнут без следа И без урока для детей!.." Что ждет детей семейства Комаровых? Которых бьют, и жестоко, до крови, бьют! Старшая - Катя - уезжать из депрессивного поселка не хочет. ее сестра Ленка о городе мечтает, но если она и уедет туда через несколько лет, то что ее - недоучку, бросившую школу в пятом классе - ждет там? Самая низкоквалифицированная работа, и Ленкины мечты о лучшей жизни очень быстро перерастут в ненависть ко всем и всему. А что ждет не совсем нормальную Ольку? чья ущербность - результат то ли пьянства родителей, то ли избиений матери пьяным отцом, то ли девочку в раннем детстве "повоспитывали" лбом об стенку. По хорошему ее бы определить в интернат, где работают с подобными детьми, и не исключено, что можно было бы в какой-то мере восстановить часть навыков, необходимых для жизни в социуме. Но нет, никому не интересно, что будет с Олькой когда не станет родителей. Да и младший сын мог бы умереть, если бы мать на третьи сутки не спохватилась, и не привезла доктора. Что будет с этим семейством через несколько лет? Самое вероятное - рухнет дом за которым перестали присматривать и вовремя чинить мелкие повреждения. Которые со временем разрастаются в крупные. Дом пока еще стоит, дети еще дети, но в их душах уже пробились ростки агрессивности ко всем "не нашим". Отчего старшей Комаровой постоянно хочется творить мелкие пакости Светке, которая из более благополучной семьи, отчего без всякой причины швыряет она репьи в волосы девочки-дачницы, отчего у нее практически каждый "дурак"? Очень символично, что и кошка у них злая. Как все остальные. Автор как бы намекает, что надо приобщиться к вере. Не зря только у Татьяны - жены отца Сергия - в доме и чистота необыкновенная, и тепло, и уют, и вкуснейшие пироги. Но, с другой стороны, как быть тем, кто не верит в Бога? Трясина такого безрадостного существования затягивает даже деятельных поначалу людей. Наталья - мать Кати, Ленки и остальных детей - когда-то знала иную жизнь, в институте училась, но все былое забыто, забыты ласковые слова и детей она только лупит, по поводу и без, она уже не может указать детям иной путь кроме как загибаться вместе с поселком. Брат Олеси Кирилл - толковый инженер, не пьющий, построивший крепкий дом, все-таки начал скатываться в безысходность, на что прямо указывают гниющие во дворе доски так и не построенного сарая. Да и прикладываться к спиртному Кирилл начал.
Замечаний у мня немного. 1. Почему автор старшую сестру называет по фамилии, а не по имени? Как бы указание, что не мать, а Катя главная в семье? Она за всех в ответе? Сомневаюсь. Да, она берет на себя Ленкины пакости, она запрещает младшей сестре воровать, но почему при такой навязанной ей ответственности Комарова бОльшую часть повести проводит вне дома? Вплоть до того, что ночует с сестрой у Татьяны? Ее отсутствие объяснимо, когда Катя стала работать, но летом, когда у ней каникулы и она еще не думала бросать школу, в чем проявилась ее забота о младших? Так что, нет, не согласна я с тем, что старшая из детей чувствует свою ответственность за всех младших. Ведь молиться за больного братика (и обтирать того водкой) она стала лишь тогда, когда мать приказала не спускать с него глаз. А если бы мать не приказала? Сама, по велению своей души, осталась бы Комарова рядом с братом? Никуда бы не убежала? Мальчика приглашенный врач вылечил. Но у болезненного мальчика спустя время раздуло щеку. Занялась бы Комарова лечением флюса, если бы братик тихо постанывал, а не орал на весь дом? Как-никак лишь на третьи сутки терпение лопнуло. Мне даже кажется, защита Лены не столько желание уберечь более слабого, сколько следование принципу "свои собаки грызутся - чужая не лезь". 2. Никогда специально с лупой не выискиваю огрехи, но в данной книге неувязки с возрастом Комаровой как-то уж слишком бросались в глаза:
Первая осень, когда не нужно идти в школу, – семь классов Комарова с грехом пополам окончила, а в восьмой не пошла: и так дел по хозяйству невпроворот. Ленка вон вообще пятый бросила, не доходила, и никто ей слова не сказал;
То есть, самой Комаровой 14 после 7-ого класса, Лене - 12, если бы она не бросила 5-й класс, то осенью пошла бы в 6-ой. Несколько страниц спустя
– Тебе скоро десять, а ты дура дурой. Только семки лузгать
Не стану приводить еще несколько цитат, только с датой смерти бабушки тоже не все увязывается. В 1-й части бабушка умерла, когда Комаровой было 6 лет, во 2-й части - Комаровой на момент смерти бабушки уже 10. Вроде бы не слишком существенно, на сюжет не влияет, тем не менее, слегка напрягает. 3. Чем вызвано построение, когда во 2-й части описываются события более ранние, чем в 1-й? Мне кажется, стоило сохранить хронологию.
Роман о временах двадцатилетней давности, на носу кризис и конец 90-х. Самое сложное и как будто беспросветное время современной России.
Перед нами жизнь двух девочек из поселка на реке Оредеж Ленинградской области, которые растут в неблагополучной семье.
Пока пьющие, жестокие, бесконечно ругающиеся и дерущиеся родители занимаются своими проблемами, девочки и младшие братья и сестры предоставлены сами себе и вынуждены как-то выкручиваться, чтобы выжить и спастись.
Это не книга - сюжет, а книга - наблюдение. Автор погружает читателя в жизнь поселка и позволяет стать свидетелем и участником его жизни, жизни его обитателей и их судеб.
Здесь тоска, безнадёжность и пустые мечты о чуде, спасении, лучшей жизни и благополучии.
Тяжелые обстоятельства, где дети принимают взрослые решения. Где люди - злые, жестокие, грубые снаружи, с комом в горле от невозможности проявить любовь, и добрые, нежные, чуткие внутри.
А еще бедность, домашнее насилие, осуждение со стороны общества, голод - множество остросоциальных тем, которые не исчезли за последние двадцать лет, но о которых стали говорить.
Все события, герои и их переживания, образ мыслей, речь достоверны настолько, что читая, ты проникаешься теми же горестями, обидами, несбыточными мечтами о счастье.
Этот роман – трудное, но нужное чтение. На меня произвел глубокое впечатление в первую очередь, потому что это наша культура, сложная и понятная русскому человеку.
Богатый, прекрасный, литературный русский язык и живой, настоящий, правдивый, так близкий по духу, сюжет - как минимум две причины обязательно познакомиться с этим произведением.
«Болтаешься, как беспризорная. Как будто дел у тебя нет!»
Ох, сколько же эмоций доставила мне книга «Поселок на реке Оредеж» Анаит Григорян! На двое суток я вернулась в свое детство, которое прошло в деревне в суровые 90-е. И как бы сложно ни жилось в то время, я бы хотела прожить эти годы еще раз.
Но вернемся к книге.
Главные герои этой истории - Катька и Ленка Комаровы, девчонки 13 и 9 лет.
Неблагополучная семья, пьющий отец, да и мать не лучше. Кроме них в семье еще пятеро детей, но Катька самая старшая, а значит, должна помогать и делать домашние дела наравне со взрослыми, а еще и за маленькими братьями и сестрами присматривать. Одна бабушка жалела и заботилась о Катьке, и с ней Комарова могла почувствовать, что все-таки она еще ребенок. Но бабка померла…
Утешение Катька находит, помогая местной продавщице сельпо Олесе Иванне, болтая с попом деревенской церкви отцом Сергием и заглядывая в гости на чай с пирожками к матушке Татьяне. А вот с деревенскими ребятами, особенно с дачниками, Катька не ладит, слишком взрослая она по сравнению с ними, и жизнь ее слишком отличается.
У истории нет четкого сюжета. Это просто отрывки событий из жизни Катьки, Ленки и других жителей поселка. На протяжении всей истории читателя не оставляет ощущение чего-то тревожного, трагичного. Но финал книги дает нам шанс самим закончить эту историю и не разрушать такое хрупкое ощущение детства.
Думаю, не одна я увидела свои детские годы, как будто это было вчера. Деревенский магазин, куда покупатели ходят со своим пакетом под крупы и макароны, рукомойник со штырьком, прибитый во дворе к столбу, уличная колонка, на рычаг которой нужно с силой надавить, чтобы потекла вода, стадо коров, возвращающееся длинной вереницей с поля, выпендривающиеся дети дачников…
Искренняя и очень жизненная история, которая наполнена гнетущей безысходностью и личными переживаниями каждого персонажа.
Все события происходят в конце 90-х в российской глубинке. Жизнь в посёлке будто была поставлена на паузу, события вялотекущие и обволакивающие.
Образы героев книги сразу врезаются в память, ты сочувствуешь, сопереживаешь им, у каждого из них есть своя история. Автор очень душевно и бережно преподносит нам их судьбы, возникает ощущение, что ты знаешь всех лично и невольно представляешь себя жителем этой глубинки.
Из ярких представителей книги хорошо запомнилась местная незамужняя продавщица Олеся Ивановна, видная женщина к ней так и липнут мужики, жены которых не очень то и довольны похождениями своих мужей в магазинчик.
Ещё один персонаж - отец Сергий, человек который несёт слово божье. Жена его Татьяна - изо дня в день молится Богу и мечтает чтобы он подарил им ребёночка.
Семья Комаровых многодетная и неблагополучная, как щемило у меня сердце, когда я читала, что происходило в их семье. Отец семейства любитель выпить, как только он становится пьяным, сразу же поднимает руку на жену и на детей. Мать же одного поля ягода со своим мужем. А дети просто попадают под раздачу обоих родителей.
Несмотря на то, что в семье Комаровых семеро детей, основное повествование будет сосредоточено на двух старших сёстрах - 10-летней Ленке, которая мечтает вырваться из этого топкого болота, и уехать жить в город навстречу новым горизонтам, и смирившейся со многим происходящим 13-летней Катьке. Они забросили учебу в школе, и даже не получили общее среднее образование, они управляются по дому и заботятся о младших детях.
Очень реалистично были переданы мысли и диалоги главных героев, поселковые выражения и весь этот своеобразный ничем не приметный колорит повседневной жизни. Автор поднимает остросоциальные темы, показывая жизнь такой какая она есть на самом деле и поражает своей искренностью, при этом история пропитана безысходностью, мы наблюдаем как рушатся мечты и надежды. Финал книги оставляет после себя множество различных мыслей, которые ещё долго тебя не отпускают…
Но знала чертова дыра Родство сиротства — мы отсюда. Так по родимому пятну Детей искали в старину. Сергей Гандлевский, 1980
Бродишь по улочкам незнакомого зарубежного города, и что-то неуловимо напоминает тебе твою родину: то ли очертания этой группы домов, то ли взрыв смеха с балкона, то ли качающаяся листва. Слышишь песню на языке, слов которого не разберешь, но как будто узнаешь ее: подобный мотив ты уже слышал, но это совсем разные страны и даже эпохи, авторы не могли быть знакомы друг с другом, это не кавер, и даже не ретеллинг, и тем более — не плагиат. Даже люди могут встретить своих двойников, обладающих разной национальностью: об этом недавно было любопытное исследование. Лет в двенадцать я размышляла в стихотворении «Хранилище Великого Забвения» о том, что схожая идея может быть рождена дважды, а то и трижды, в не связанных друг с другом координатах времени и пространства. Такими неожиданными двойняшками для меня оказались книги «На последней парте» венгерского автора Марии Халаши и «Поселок на реке Оредеж» петербургской писательницы Анаит Григорян. Говорить я буду преимущественно о второй, потому что о первой все самое важное уже написали, хотя и мало. На книжных прилавках толком нет ни второй, ни первой, что зря. Книга Халаши написана в 60-е и посвящена острой проблеме «чужой, не такой, как все». Главная героиня — юная цыганка Кати Лакатош, ученица обычной венгерской школы, которая постоянно попадает в неприятности, потому что она — цыганка, другая, чужая. В 90-е годы имя Халаши было забыто как в Венгрии, так и в России. Несмотря на то, что в книгах затрагивались проблемы тяжелого детства: нехватка родительского внимания и жестокость к детям, дискриминация и попытка найти свое место под солнцем, — их стали воспринимать исключительно в контексте просоветского дискурса, который в обеих странах утратил свою актуальность. Анаит Григорян написала «Поселок на реке Оредеж» в 2019 году. Протагонистка — тезка и ровесница Лакатош, подросток Катя Комарова, вечно в ссадинах и с обкусанными ногтями. «На последней парте» — одна из книг, любовь к которым, заложенная в детстве, не вытравливается уже ничем; неудивительно, что, идя вглубь «Поселка…», я встречаю знакомые повороты сюжета и силуэт, который уже где-то видела… Обе Кати родом из многодетных семей, живущих за чертой бедности. Смотрят на мир настороженно и, пожалуй, ничего от него не ждут. На добро реагируют по-звериному: когда в Венгрии продавщица Этука хочет чем-то угостить Кати, та смущается и убегает, когда в поселке продавщица Олеся Иванна спрашивает, поела ли Комарова, та отнекивается, будучи очевидно голодной. В обеих книгах есть фигура учительницы, стремящейся понять: венгерская тетя Дерди, применяющая весь свой мотивационный спектр от кнута до пряника, от наказания за потерю роли для классного спектакля до приглашения к себе домой; безымянная поселковая учительница, говорящая Комаровой «можешь, но не стараешься» и обещающая подарить ей новенькую географическую карту за успехи в учебе. У Кати Лакатош — братья, бесталанный раздолбай Руди, который ей грубит, и Шаньо, чье поведение далеко от идеала; у Кати Комаровой — девятилетняя сестра Ленка, таскающаяся за ней, как хвостик, близняшки Анька и Светка, отстающая в развитии Олька, вечно болеющий Саня и пропадающий в поселке Ваня, которому пророчат будущее, как у местного грозы района Антона Босого. В обоих произведениях фигурирует мягкий пуховый платок как подарок судьбы. Комаровой белый платок достался от сердобольной попадьи Татьяны, которая фактически является ангелом-хранителем всего поселка и никому не отказывает в помощи. Для Лакатош небесно-голубая шелковая шаль цвета глаз матери, умершей рано, — последняя память о ней. Мама у Комаровой есть, но сложно сказать, что она выполняет свои родительские обязанности добросовестно, поскольку подвергает детей регулярному физическому насилию, вымещая на них всю злость за собственную нереализованность и угробленную жизнь. Восемь детей — плоды брака с человеком, который несколько лет назад стоял на платформе с сияющими глазами и говорил о большой любви, а в мрачном сегодня по-черному пьет и доставляет одни проблемы. Не имеющая своих детей, потому что «бог не дал», попадья Татьяна, реализуя через заботу свой материнский инстинкт, становится Комаровой второй матерью: и приютит, если дома мать «дала звону», то есть как следует побила и наорала, и обогреет, и залатает порванную одежду, и накормит вкусными котлетами. Для девочек эти платки — что-то очень важное, теплое не только по форме, но и по содержанию, по значению, которое понятно только им. Примечателен и мотив бабушки в обоих произведениях: и Катина бабушка-цыганка, берущая с собой внучку торговать на рынке, и бабка Марья — искусные сказочницы, и хотя их истории и простые, они способны вложить в детское сердце куда больше, чем гомон улицы и грубые окрики матери. Венгерский мальчик Крайцар, показавший Кати увлекательный мир заброшенного кладбища, похож на Максима, который зовет Катю смотреть поезда. Поселок настолько «полон достопримечательностей», что если для любого из городских жителей поезд — обычное дело, а метро — ежедневный квест, то для оредежских ребят это настоящее событие. В обоих случаях можно говорить о первой влюбленности девушек, появившейся в такой среде, где невозможно ни обговорить это с кем-либо, ни признаться в этом самим себе. Даже лихорадка обеих Кать описана крайне схоже: спутанное, лоскутное сознание, одни люди становятся другими, потерянные вещи находятся легко и быстро, и болезнь в обеих книгах — не столько физиологическое происшествие, сколько подчеркнутая реакция на происходящее. Только если для Лакатош болезнь становится поворотным пунктом, благодаря которому к ней начинают приходить домой одноклассники и завязывается коммуникация, то для Комаровой зараза, подхваченная от брата Сани, — это открытый финал книги, где каждый из выходов будет по-своему спасительным. Если о ней кто-то решится заботиться, наконец, это будет хорошо. Если она погибнет, в этом тоже не будет ничего плохого: река в Оредежи будет так же течь, Олеся Иванна так же будет обвешивать покупателей, а отец Сергий — крестить и отпевать. И вряд ли кто-то вспомнит, что Катя Комарова была заботливой сестрой, которая хоть и отбирала у Ленки восковых человечков, но сквозь время застыдилась и набрала в церкви воска для нового; которая натирает братика водкой, как видела на чужом примере; берет Ленины проделки на себя перед грозным и безголовым Босым. Какая память, если впору спиться или утопиться? Главная проблема, затронутая в обеих книгах, — дискриминация. Водораздел между «своими» и «чужими»: между цыганами и венграми течет огромный метафорический Дунай, между поселковыми и городскими разливается река Оредеж. В отличие от цыганки Кати в венгерской школе, Катя Комарова хотя бы находится на своей территории, что дает ей сомнительное право кидать репьем в заносчивых снобов-городских, приехавших снимать дачи на лето. Она не в восторге от планов сестренки Ленки выйти замуж за городского: «Кому ты там нужна?», как будто каким-то образом прочитала книгу «На последней парте» и уже знает, что ждет неместную в городе, да еще и с ногами по колено в грязи. Все они, оредежские, презирают город, и это презрение — смесь страха и зависти. Зависти, потому что всем понятно, что там, куда увозит электричка, — возможности. И не придется обдирать кожаные цветочки с выходных туфель матери и «получать звону», и пряники там не лежалые. Страха, потому что уехавшие за Черту не возвращаются. У них там, в городе, семьи, дети, а навещать бабушку, работающую на железнодорожной станции, они как-то не спешат. Мотив «чужой — значит, грязный» присутствует в обеих книгах. Тетя Бешке вряд ли является такой уж поборницей чистоты, какой она показана в книге глазами Кати, ненавидящей мыться: ее стремление к чистоплотности привычно и понятно любому городскому жителю, в то время как «детям улиц» это не кажется жизненной необходимостью. Так происходит не из любви к грязи, а из-за дискомфорта, причиняемого процессом мытья: в поселковых дворах стоят неудобные бочки с ледяной водой, окатывающие целиком, и в сравнении с этой почти китайской «пыткой водой» неудобства от знойного лета не кажутся такими нестерпимыми. О том, что такое теплая чистая ванна с пенящейся водой, эти девочки просто не знают. В их понятийном словаре такого нет. У Кати Комаровой нет желания уехать в город: ее даже на станцию влечет просто поглазеть, и не столько на товарняки, сколько на первую любовь — Максима; она понятия не имеет, что такое город и чем он хорош. Если бы кто-то привез ее туда и показал, как там живут люди, она бы, возможно, имела цель. А сейчас лучше разглядывать мошек, бьющихся в окно, слушать, как воют выпи и волки, смотреть странные сны и не трогать вот это вот, городское, чужое. Костик с его дерматитом, неуклюжий и добрый, — чужой, едва ли не хуже Антона Босого и его банды, потому что второй хотя бы понятен и привычен, а этот — что если возьмет и увезет Ленку в город, а это все-таки сестра и все-таки, наверное, любимая. Просто слова «любовь» у Катьки Комаровой тоже нет. Она выучила те параграфы для продвинутых учеников в школе жизни, что про несчастья, а добрые страницы были вырваны и пущены на самокрутки, только уже в другой книге — дедушкой Кати Лакатош. Какая разница, из какой песни эта строчка, если все равно эти слова были скурены и стали тяжелым воздухом? Я не могла не спросить, знакома ли Анаит с творением Халаши. И, получив отрицательный ответ, не удивилась. Испытала чувство, схожее с тем, как если бы несколько раз ударила кулаком по стене, не причинив бетону ни малейшего вреда, бессильная что-то изменить. Действие «Поселка…» современно нам, хоть и происходит в конце 90-х: можем ли мы считать, что что-то изменилось сейчас, двадцать лет спустя, если в Венгрии уже писали об этом полвека назад? Как ни крути эту Землю, на ней везде живут такие Кати. Живут Олеси Иванны, которые принимают своих Петров и Юриев всей душой, а те и рады пользоваться, а потом готовы окрестить шалавой, потому что женщина всегда везде виновата — от этого литература долго не избавится, феминизм еще не победил до конца. Живут отцы Сергии, которые найдут для всех правильные слова, а для своей жены не найдут, лишь машинально, автоматически погладят по голове, такой же рыжей, как и в юности. Жизнь «без»: дети без родителей (при живых родителях), сапожники без сапог, все — без денег, большой любви и надежды. Незаслуженно забытая Мария Халаши могла бы встать в один ряд со знаменитыми писательницами Астрид Линдгрен, Туве Янссон и многими другими. Почему бы этот ряд не пополнить и Анаит Григорян, которая есть у нас сейчас и дышит с нами одним воздухом? Анаит пишет жизнь, о которой мы, преимущественно дети города, могли бы вообще никогда не узнать. Мы часто удивляемся, а почему у некоторых на страничках «ВК» такая вопиющая безграмотность. Что за треш происходит в приложении «ДругВокруг», где алкоголички и зэки проводят прямые трансляции? Откуда берутся провинциальные сверхпробивные личности, готовые идти по головам? Или, наоборот, утратившие ценностные ориентиры, погружающиеся в болото из собственной нереализованности люди? Все они родом из этого же безымянного поселка, который лишь на первый взгляд — неприметная точка на карте, у него даже имени нет, есть у соседних, чуть побольше: вот Суйда, вот Сусанин, вот Семрино. Да и имя главной героини возникает далеко не сразу: с первых страниц, когда она появляется на исповеди в церкви, читатель вообще не признает в Комаровой девочку. Она кажется смурной и грустной женщиной, сполна познавшей жизнь, и после такой «прививки» читателю не разглядеть в ней легконогого и веселого подростка, коим она, возможно, никогда не являлась. «Раба Божия Екатерина», требует она, чтобы так к ней обращался сам Антон Босой. Мол, не властны надо мной ты и твои угрозы, только Богу я подчиняюсь, хотя вряд ли понимаю толком, что это такое или кто это такой. В «Поселке…» нет ни положительных, ни отрицательных героев: плюсы и минусы, высыпавшиеся из мешочка личной истории каждого, ложатся так, что становятся звездочками. Каждый герой — «задача со звездочкой». Даже не способный вызвать ни капли симпатии Антон Босой — не злодей, он всего лишь продукт этой фабрики, плод этого страшного сада. У поэта М.Кедреновского есть строка: «Изделие спрашивает у мастера: зачем ты меня так сделал?» У кого спросить: у пьющих или умерших родителей, у больной соседки, развешивающей трусы, или у попадьи, которая, канонично, самый теплый человек — и с нестерпимой большой бедой, бесплодием и плохо выражаемой любовью мужа? Ответы на эти вопросы можно только выдумать, как отец Сергий выдумывает легенду, почему люди курят. Он и сам не знает. Слово Божие в книге — не абсолют и не способно исцелить ничьих мук. Не так важно, что за слова говорят, важно, кто их произносит. Оттого люди и стремятся в церковь: оттого, что верят. Но верят они не столько в Бога, сколько в человеческое к ним отношение. Можно было бы сказать, что «Поселок…» — ренессанс деревенской прозы, и на этом остановиться, но нет. Это звание громкое, но ничего не объясняющее. Эта книга — не просто про деревню и то, как там живут, умирают, пьют и дерутся. Книга не для того, чтобы быть зрелищем под попкорн, это не смешно. Если Джордж Мартин через каждые несколько страниц убивает нового героя, то Анаит Григорян по кусочкам отрубает тебе веру в то, что «в деревне так хорошо жить, наверное». А потом ты вспоминаешь, что ты не Катя Комарова из поселка на реке Оредеж, и можешь максимум претендовать на роль Светки или Костика и не получить никакой серьезной травмы там, в поселке, кроме репья в волосы и задранного подола, и становится хорошо, как будто из ледяной речной воды мигом перемещаешься в теплую травяную ванну со свечами по бортику. Как бы ни были похожи книжка-венгерка и книжка-петербурженка, дело не в одинаковом имени, возрасте и условиях, в которых живут их героини. Подобно родимым пятнам, по которым узнавали детей в старину, на обеих лежит грязь общества, в котором они живут; дискриминационные клейма, и это — то, что не смыть ни в каком тазу с мылом у тети Бешке, ни под какой бочкой с ледяной оредежской водой. Даже персонаж совершенно иной культуры, Иватани Наофуми из японского анимесериала «Восхождение Героя Щита» — дальний родственник этих девочек, на котором — пятна той же грязи. Это классическая история попаданца в иной мир, где героя сразу дискриминируют, потому что, пока остальные герои сражаются с колюще-режущим оружием, у Наофуми есть щит и мировая несправедливость. Позже он, конечно, научится делать с щитом такое, что не подвластно ни копью, ни мечу, ни луку. Дальнейшие отсылки к фэнтези уже недопустимы, потому что Кати вышли из-под пера реалистов, и ничего, кроме грязных обкусанных ногтей, у них нет. Когда-нибудь, через полвека, будет женщина, и она снова напишет про девочку Катю. Башкирская Катыра, корейская Ерин, испанская Каталина — да будет ли это важно, если речь идет об одной и той же девочке, меняющей национальность и место жительства, но не меняющей судьбу? И будет новый литературовед, который найдет эту статью, романы Халаши, Григорян и тот, свежий, и то ли с удивлением, то ли с ужасом поймет, что это сама жизнь пишет руками писательниц такой странный ретеллинг самой себя. Возможно, эта третья Катя будет жить в тайской плавучей деревне, мимо которой русские туристы, купив экскурсию по реке Квай, так часто проезжают в красивых лодках. И она обязательно будет чем-то в кого-то кидаться. Не репьем, так дурианом. А может, сразу все поймет, прочитает эти две книги, испугается, будет изо всех сил учиться и поступит в Оксфорд, и все у нее будет хорошо, и выйдет из матрицы.
Опубликовано в Юность №4, 2021
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе

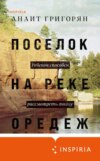


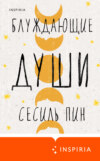
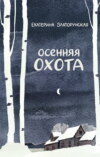


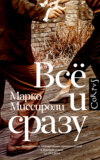


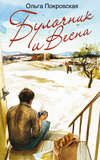




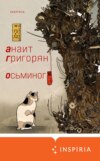

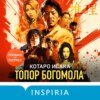

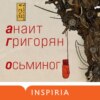

Отзывы на книгу «Поселок на реке Оредеж», страница 10, 135 отзывов