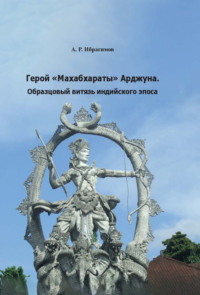Читать книгу: «Герой «Махабхараты» Арджуна. Образцовый витязь индийского эпоса», страница 7
Свадьбе Пандавов с Драупади посвящено отдельное «Сказание о бракосочетании». Для нас представляет интерес следующая сцена. Во дворце царя панчалов Кунти, принимая знаки почитания от женщин двора, торжественно наставляет новобрачную; наставление звучит как пророчество. Основные положения этого пророчества-заклинания (любовь супругов и преданность им, рождение сыновей, долгая жизнь в супружестве, участие в жертвоприношениях, почитание гостей, передача богатства во владение брахманам) (Мбх I, 191, 5-12) близко воспроизводят соответствующие пункты из свадебного гимна «Ригведы» («Ригведа» X, 85, 23–27. Мандалы IX–X. М. 1999), представляющего древний мифологический образец свадьбы. После сцены апофеоза Кунти и наставления новобрачной царица-мать уже никогда не выступит главой и водительницей семейства Пандавов, знаменуя их переход к зрелости. Отныне роль наставника и водителя братьев-героев возьмёт на себя их божественный кузен Кришна.
Помимо приведённой выше сцены, сказание тщательно описывает, как в течение пяти дней Пандавы один за другим под руководством домашнего жреца сочетаются с общей женой, и её девственность чудесным образом восстанавливается для очередного мужа (Мбх I, 190,13–14). Данный деликатный аспект бракосочетания Драупади также находит параллель в указанном гимне, в качестве важной части свадебного ритуала специально упоминающем дефлорацию («Ригведа» X, 85, 28. Мандалы IX–X. М. 1999), которой, как известно, придавалось исключительное магическое значение (традиционные представления об «обезвреживании» девицы настолько универсальны, что не требуют дополнительного комментария). Отчасти резюмируя сказанное выше, можно заключить, что брак Пандавов с добытой Арджуной невестой не только происходит по замыслу богов (т. е. предполагает некую космическую цель), но и следует освящённому авторитетом Вед небесному образцу.
11. Обретение царства
«Хродгар возвысился
в битвах удачливый…
выросло войско
из малой дружины
в силу великую.
Он же задумал
данов подвигнуть
на труд небывалый:
хоромы строить,
чертог для трапез,
какого люди
вовек не видывали…»
«Беовульф» 64–70.
О женитьбе Пандавов на Драупади становится известно Дхритараштре, и старый царь после бурных дебатов с советниками, родичами и старейшинами приглашает некстати «воскресших» племянников с матерью и молодой женой прибыть в столицу Кауравов. Судьбоносное решение Пандавов с Кунти и Драупади отправиться в Хастинапур принято с участием Кришны. После почётного приёма царь под давлением Бхишмы предлагает Юдхиштхире полцарства, с отменной откровенностью мотивируя свою щедрость: «… Дабы не возникло снова раздора у вас (с моими сыновьями), отправляйся в Кхандавапрастху. Ибо, когда вы будете жить там, никто не сможет обижать вас, охраняемых Партхою» (Арджуной – А. И.), «подобно тому, как боги (охраняются) Громодержцем» (Мбх I, 199, 24–25). Характерная деталь: и старый царь отмечает особую роль Арджуны в качестве первого воителя Пандавов, которому предстоит защищать царя Юдхиштхиру, семейство и вновь обретённое царство; неслучайно и уподобление Арджуны его небесному отцу – архетипическому кшатрию.
Для истолкования дальнейших деяний Арджуны важно понимать, что за «полцарства» получили герои. Очевидно, это территория в глуши: доставшаяся им доля царства Кхандавапрастха носит говорящее название – область леса Кхандава. Действительно, Пандавам выделена дикая местность, возможно, вовсе лишённая населения: «И, вняв тому слову царя и поклонившись ему, все быки среди мужей отправились тогда в тот дремучий лес… На священном и благоприятном месте… совершив очистительные обряды, стали строить город» (Мбх I, 199, 26, 28). Наконец обретшие царство Пандавы не унывают и основывают на берегу Ямуны прекрасную столицу, названную Индрапрастхой в честь небесного отца Арджуны. Дарованная Дхритараштрой территория, очевидно, с обременением – необходимостью вести пограничные войны с окрестными царями: «Покорив своих врагов, премудрые сыновья Панду, преданные закону и правде, жили там в великом счастье» (Мбх I, 200, 7) (курсив наш – А. И.). Причём дело не (только) в экспансионистском задоре Пандавов, о чём пойдёт речь ниже, но в планах старого царя и Бхишмы: «Живя в Индрапрастхе, Пандавы по велению царя Дхритараштры и сына Шантану убили других царей» (Мбх I, 214, 7) (курсив наш – А. И.). Возможно, любезно предоставленная Пандавам территория и вовсе не контролировалсь правителем Кауравов? Это обычная часть биографии и подвигов выдающихся воинов героического эпоса. В сходном положении находится великий франкский герой; император Людовик Благочестивый жалует Гильому фьеф, который тот должен отвоевать у неверных в далёкой и неподвластной «щедрому» сюзерену Испании:
«Пожалуйте Вальсур мне, государь,
И город Ним, что крепок и богат.
Оттуда изгнан будет мной Отран.
Язычник и французов лютый враг…
Я большего не попрошу у вас»
(«Нимская телега» XX, 494-7, 500)(курсив наш – А. И.).
Как видим, Гильом сам вызывается отвоевать владения у сарацин (правда, только после того, как достойного графства в «милой Франции» ему не нашлось). Очевидно, это признак великого героя и верного вассала: обрести владения в боях, одновременно увеличив территорию, подконтрольную сюзерену. Аналогично, король Кастилии Альфонс любезно оставляет под властью испанского героя Сида Кампеадора Валенсию, отвоёванную Сидом у мавров («Свадьба дочерей Сида». «Песнь о Сиде» М.-Л. 1959).
Итак, обретение Пандавами царства связано с успешными захватническими походами под предводительством Арджуны. Кроме того, оно происходит после и, опосредованным образом, вследствие завоевания Арджуной жены, ведь именно услыхав о сваямваре Драупади Дхритараштра признал племянников и призвал их на царство. Более того, именно в результате сваямвары Пандавы приобрели могучего союзника в лице царя Друпады, и этим также может объясняться сговорчивость старого царя Кауравов. В обустройстве царства Пандавов важная роль отведена Кришне: «Предводительствуемые Кришной, непоборимые Пандавы, явившись туда, украсили это место, как небеса» (Мбх I, 199,27) (курсив наш – А. И.). Наше предположение об отсутствии населения в диком краю косвенно подтверждается рассказом о заселении основанного Пандавами города: «И туда приходили дваждырождённые…лучшие из знающих Веды, и знатоки всех языков… Туда стекались купцы из различных стран… Туда на жительство приходили также знатоки всех видов искусств» (Мбх I, 199, 37–38). Но, самое главное, «как громадная куча облаков, пронизанная молниями, сверкал там на красивом и благоприятном месте дворец потомков Куру, полный богатства и подобный жилищу владыки сокровищ (Куберы)» (Мбх I, 199, 36). Сказание придаёт обретению Пандавами дворца такое значение, что обращается к этой теме дважды. Помимо краткого упоминания, приведённого выше, мы находим подробный рассказ о постройке демоном-зодчим Майей дворца, «какого не мог бы воссоздать, даже рассмотрев его со всем вниманием, никто из людей во всём этом земном мире». Эта постройка затеяна через двенадцать лет после обретения царства и первого упоминания о дворце Пандавов; очевидно, речь идёт о новом проекте. Кстати, идея постройки нового дворца и его базовые параметры («небесные, асуровы и человеческие») предложены Кришной. А демон был готов оказать услугу Арджуне, спасшему его во время сражения с Индрой (см. гл. 15), то есть и этим достижением Пандавы обязаны Арджуне. [Позже сказание сообщит: «Партха» (здесь Арджуна – А. И.), «получив превосходнейший лук и два неистощимых колчана, колесницу, древко знамени и дворец собраний, сказал Юдхиштхире…» (Мбх II, 23, 1) (курсив наш – А. И.)]. Подробному описанию проектирования и строительства дворца, занявшего четырнадцать месяцев, и его украшению небесными сокровищами сказание отводит три главы Сабхапарвы. Разберёмся, в чём значение этого мотива, очевидно, важного для полной картины достижений героя.
В фольклорных традициях самых разных народов дворец представляется сакральным символом монаршей власти. Поэтому мотив постройки или (при)обретения дворца универсален и находит отражение в сказаниях о многих земных владыках. Вот описание палат датского конунга, возведённых им после военных побед:
«В холмах воссияла
злато слепящая
кровля чертога,
жилища Хродгара:
под небом не было
знатней хоромины,
чем та, озарявшая
окрестные земли»
(«Беовульф» 309–312. М. 1975).
Рассматриваемый мотив присутствует и в мифах о богах, обретших верховную власть в своём пантеоне [e.g., о «силаче» Ба’лу угаритских мифов («Поэма о постройке дворца для Ба’лу», табл. V. «О Ба’лу». Угаритскиие поэтические повествования. М. 1999) или о Мардуке, после военной победы над древними богами возглавившем сонм вавилонских богов («Энума илиш», табл. 6. «Когда Ану сотворил небо». Литература древней Месопотамии. М. 2006)]. Этот признак обретения суверенной власти настолько универсален, что даже чудовище Асаг, временно узурпировавшее власть богов Шумера, спешит обустроить достойное пристанище:
«Боги всех городов склоняются пред его силой.
…Он уж престол построил, руки его не лежат без дела»
(«Нинурта и Асаг», 40–41. Шумеро-аккадский эпос Нинурты. СПб. 2023) (курсив наш – А. И.).
С мотивами утверждения во власти и постройки жилища оказываются сюжетно сцеплены не только победы, но и женитьба героя, о чём прямолинейно свидетельствует исландская сага: «…Захотел Эймунд посетить свои владения, и берёт большое и хорошо снаряжённое войско… Вот идёт Эймунд из Гардарики» (Русь – А. И.) «с большим почетом… и приходит теперь в Свитьод» (Швеция – А. И.), «и утверждается там в своем государстве и владениях, и тотчас задумал он жениться… Вот живёт Эймунд в своем государстве, управляет им и распоряжается, как подобает конунгу, и расширяет свое государство, становится у него всё больше людей. Он велит построить себе большой зал и достойно убрать его, и каждый день там накрывали стол для многих людей…» («Сага об Ингваре Путешественнике» М. 2002) (курсив наш – А. И.). Здесь особо отмечена социально-политическая функция жилища вождя как места собраний (ср. с залом Собрания Кауравов).
Выделенный нами в саге набор мотивов важен для изложения нашей темы и составляет, очевидно, устойчивый комплекс; его можно усмотреть и в ближневосточной традиции. «И пошёл Давид и люди его на Иерусалим… Давид взял крепость Сион… И поселился Давид в крепости, и назвал её городом Давидовым… И преуспевал Давид и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду и кедровые деревья и плотников и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царём над Израилем и что возвысил царство его… И взял Давид ещё наложниц и жён из Иерусалима… И родились ещё у Давида сыновья и дочери» (2 Цар 5:6–7, 9-13) (курсив наш – А. И.). В этом отрывке нас интересуют выделенные курсивом взаимосвязанные (как и у конунга Эймунда, vide supra) обстоятельства жизни героя сказания, сделавшего головокружительную карьеру, – пастушка, царского зятя, разбойника, инсургента и, наконец, царя Давида. Перечислим эти обстоятельства.
1. Обретение царства, причём с санкции Господа (ср. с участием Кришны в случае Пандавов, т. е. с обязательным благословением небесных сил); важным фактором обретения царства служат победоносные военные предприятия (ср. с Пандавами, покорившими окрестных царей). Можно думать, что необходимое для военных побед и обретения царства покровительство неба, это не измышления панегиристов и сказителей, но отражение универсальных взглядов традиционных обществ. Вот как соратники Александр Македонского рассматривали источник его побед: «Им уж давно казалось, что он ничего не предпринимает без божественного содействия: всюду сопутствовала ему фортуна…» (Курций Руф. «История Александра Великого Македонского» кн.1, VI, 18. М. 2023).
2. Очевидным символом утверждения героя в новом статусе является постройка жилища, достойного монарха (ср. великолепный дворец в Индрапрастхе).
3. Координированные с обретением царства матримониальные планы.
Внутри этой универсальной схемы возможны вариации и причинно-следственные инверсии. Франкский герой Гильом Оранжский обретает графство (т. е. фьеф, а не суверенное королевство), отвоевав у неверных Ним и Оранж, а заодно с последним, то есть как непосредственное следствие своих военных успехов, приобретает роскошный мавританский дворец Глорьет и прекрасную сарацинку Орабль – свою будущую жену. Указанные достижения Гильома происходят в результате победоносной войны с басурманами, то есть также Божьим попечением.
У западных семитов многоженство не возбранялось, и победоносный Давид, утвердившись на царстве, не только строит достойное жилище с привлечением заграничных мастеров и импортных стройматериалов, но и расширяет гарем и обзаводится дополнительным потомством. Сцепленность рассматриваемых мотивов универсальна, о чём свидетельствуют и японские анналы. Божество Аматупико-по-но ниниги-но микото, спустившись с небес и пройдя много земель, находит подходящую местность, затем требует и получает от местного «хозяина» в распоряжение страну: «Тут есть страна. Поступай с ней по своему изволению». Дальше последовательность событий следует общему образцу: «Возвёл тогда царственный внук» (титулование божества – А. И.) «дворец и там поселился. Потом вышел он на берег моря и увидел там красавицу…Рек царственный внук: «Я хочу взять тебя в жёны»» («Нихон сёки», свиток II, 9.2. Т. 1, СПб. 1997).
В случае Пандавов речь идёт не об индивидуальном герое, а о пятерых, между которыми мы отметили «разделение труда». Женой, добытой Арджуной при участии Бхимасены, обладают все братья; победоносные войны ведут четыре младших брата с Арджуной во главе; царская власть достаётся старшему брату; построенный по настоянию Кришны демоном-архитектором (который обязан жизнью Арджуне) волшебный дворец делят все братья (хотя принадлежит дворец царю Юдхиштхире), а главному витязю Пандавов, как и Давиду, предстоят новые матримониальные свершения, которые будут рассмотрены в следующей главе. При этом сказание неустанно напоминает аудитории, что основным бенефициаром указанных достижений является Царь справедливости, тогда как достижения принадлежат его первому витязю: «Партха, обретя… дворец собраний, сказал Юдхиштхире: «Лук… сторонники и владения, слава и мощь – все это, всегда трудно достижимое, хотя и желанное, добыто мною, о царь!»» (Мбх II, 15, 6–7) (курсив наш – А. И.). Особое значение этому утверждению придаёт то тот факт, что фраза об обретении дворца собраний дословно повторяется сказанием ещё раз (Мбх II, 23, 1). По аналогии с сюжетом о царе Давиде, воспоследует и обзаведение Пандавов наследниками.
Подводя итог обретению Пандавами царства, сказание вновь упоминает особую, хотя и до поры не формулируемую явно, роль их божественного кузена: «А герой Кешава» (Кришна – А. И.) «…поселив там Пандавов. с их дозволения отправился тогда в Дваравати» (столица ядавов – А. И.) (Мбх I, 199, 50) (курсив наш – А. И.). Отмеченную нами роль Кришны-агента неба, покровительствующего Пандавам, осознают и персонажи сказания. Вот как Юдхиштхира обращается к божественному кузену: «Ведь ты никогда не (стоишь) во главе тех, от кого отворачивается Лакшми» (богиня, персонифицирующая царскую удачу-А. И.) (Мбх II, 18,10).
12. Покаяние и побочные матримонии
«Афанасий Иванович женился тридцати лет, когда был молодцом и носил шитый камзол; он даже увёз довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него…»
Николай Гоголь «Старосветские помещики»
Благоденствующие в своем дворце Пандавы по совету божественного мудреца Нарады устанавливают правила общения с женой, «чтобы не возникло… тут раздора»: ни один из братьев не должен входить к другому, уединившемуся с Драупади. Нарушитель подвергнется покаянию – двенадцатилетнему изгнанию с обетом полового воздержания. Адржуне презрел мудрое правило, когда его защиты от грабителей потребовал брахман: оружие хранилось в покое, где уединился Юдхиштхира с женой. Герой нарушил tete-a-tete царской четы, взял оружие, наказал грабителей и вернулся во дворец объявить об уходе в изгнание. На замечание Юдхиштхиры, что он извиняет младшего брата и не требует наказания, Арджуна высокомерно возразил: ««Не должно соблюдать закон посредством самообмана», – так я слышал от тебя. Ия не отклонюсь от правды. В правде я имею оружие» (Мбх 1,205,29) (курсив наш – А.И.). Очевидно, герой не кривил душой, просто он своевременно «забыл» о своей лжи Карне на сваямваре Драупади. На протяжении оставшейся долгой и полной приключений жизни он действительно больше не позволит себе прямого словесного обмана, хотя совершит ряд вполне предосудительных поступков, в основном на поле боя и преимущественно по наущению Кришны.
В лесном изгнании покаянный Арджуна усердно посещает места священных омовений и, кажется, искренне намеревается соблюдать обет воздержания, но результат будет прямо противоположным – мы увидим преувеличенный эротизм героя, далеко превосходящий достижения его братьев. Значительная сексуальная мощь и/или привлекательность являются важным эпическим мотивом, маркирующим выдающегося героя в пору его молодости/взросления в сказаниях разных народов. Вот сообщение саги о Кухулине, первом витязе Ирландии: «Превыше всех прочих любили его женщины Улада за ловкость в играх, отвагу в прыжках, ясность ума, смелость речей, прелесть лица и ласковость взора…Задумались тогда улады, как быть им с Кухулином, ибо уж слишком любили его их жёны и дочери, а юноша в то время ещё не выбрал себе жену…Думали улады, что, имея добрую и заботливую жену, не станет он соблазнять их дочерей и женщин» («Сватовство к Эмер». Саги об уладах. М. 2004). Реноме героя подтверждает его возлюбленная: «…Нет среди них» (женщин Улада – А. И.) «ни одной, которая бы не любила тебя и не принадлежала тебе хоть частью» («Болезнь Кухулина и единственная ревность Эмер». Там же). Не отстаёт от Кухулина и главный фаворит Каллиопы: Геракл в течение пятидесяти ночей сочетался с пятьюдесятью дочерьми беотийского царя Феспия, причём в подтверждение мощи героя каждая царевна в положенный срок родила сына (Аполлодор «Мифологическая библиотека» II, 4, 9-10. Л. 1972), а две принесли по двойне (Павсаний «Описание Эллады» IX, 27, 6. М. 2002). Откровенно живописует достижения юного красавца финское сказание:
«Так весёлый Лемминкяйнен,
Молодец тот, Каукомъели,
Оборвал смешки красавиц,
Прекратил девиц насмешки:
Ни одной не миновало,
Ни одной из дев невинных,
Чтобы он её не обнял,
Чтоб не переспал он с нею»
(«Калевала» XI, 3)
О древнейшем эпическом персонаже – великом шумерском герое царе Урука Гильгамеше – сказание сообщает, ссылаясь на экспертное мнение блудницы Шамхат:
«…Прекрасен он мужеством, силой мужскою,
Несёт сладострастье всё его тело…»
(«О всё видавшем», таб. 1, V, 16–17. М.-Л. 1961).
Готовая проявиться сексуальная мощь и подчёркиваемая мужская привлекательность Арджуны имеют трансцендентный источник: это естественное наследие его небесного отца, в своём ведическом аспекте бога грозы и освободителя мировых вод, воплотившего силы плодородия.
Покаянные странствия Арджуны неожиданно направляются в новое русло, когда во время его ритуального омовения в священной Ганге с целью ублажить усопших предков царевна нагов [змеи-оборотни индийских мифов (рис. 1)] Улупи увлекает прекрасного витязя в подводное царство своего отца (очевидный катабасис героя) и недвусмысленно требует: «Осчастливь же меня, терзаемую из-за тебя богом любви». Речь идёт о союзе гандхарва, вот как характеризует свои романтические намерения сама Улупи: «У меня нет никого другого, отдайся же мне тайно» (Мбх I, 206, 20). Прекрасная царевна-оборотень действительно одинока, позже сказание сообщит о её вдовстве (Мбх VI, 86, 7). Препираясь с влюблённой дамой в не слишком убедительной попытке соблюсти целибат, Арджуна между прочим замечает: «Никакая неправда и ранее никогда не изрекалась мною» (Мбх I, 206, 22), – но против чар искусительницы устоять не может, тем более, что в случае его отказа Улупи угрожает расстаться с жизнью. Проведя с возлюбленной ночь, Арджуна покидает царевну-змею ради новых приключений. Улупи родит сына-змея Иравана, который, применяя колдовские способности оборотня на пользу Пандавов, будет доблестно сражаться и погибнет на Курукшетре.

Рис. 1. Статуи нагов
Чтобы оценить значение краткого союза Арджуны с Улупи, расссмотрим сходное по природе романтическое приключение, которое традиция приписывает греческому герою в стране скифов: «Геракл… прибыл в землю по имени Гилея. Там в пещере он нашёл некое существо смешанной природы – полудеву, полузмею. Верхняя часть туловища от ягодиц у нее была женской, а нижняя – змеиной. Увидев её, Геракл с удивлением спросил, не видала ли она где-нибудь его заблудившихся коней. В ответ женщина-змея сказала, что кони у неё, но она не отдаст их, пока Геракл не вступит с ней в любовную связь» (Геродот. История IV, 9. Л. 1972) [в пантеоне скифов действительно присутствовала змееногая богиня (рис. 2)].

Рис. 2. Скифская змееногая богиня земли и плодородия
Змеи во многих культурах являются символом плодовитости, и в архаичных сказаниях связь со змеёй (и вообще с существом чуждой природы) демонстрирует сексуальную мощь героя. Кроме того, таким образом сказание подчеркивает сверхчеловеческую природу персонажа, безнаказанно нарушающего общепринятые нормы поведения простых смертных, для которых разрешённые половые контакты повсеместно были ограничены не только противоположным полом, но и своим видом. Вот предписание Ветхого Завета: «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить семя и оскверниться от него… это гнусно» (Лев 18:22–23). Сходные запреты находим в древнеиндийской традиции: «Мужчине, имевшему сношение с самкой животного», предписывается особое покаяние («Зоны Ману» XI, 174. М. 1992), включающее такие неприятные процедуры, как «питание коровьей мочой и коровьим помётом» (там же, 213).
Видимо, в соответствии с этими нормами в «Махабхарате» соединение мужчины с самкой чуждой природы является редчайшим исключением, происходит только с лесными аскетами, а не с рядовыми людьми, но и для этих незаурядных персонажей требует оправдывающих обстоятельств. Знаменитый вставной сюжет о об аскете Ришьяшринге, рождённом ланью от брахмана-мудреца Вибхандаки, «через совершенство обретшего знание Атмана», оправдывает последнего отсутствием собственно соития (лань выпила воду, куда почтенный риши излил семя) (Мбх III, ПО, 13–18). Другой пример ещё красноречивее. «Царь Панду, бродя в дремучем лесу, населённом антилопами и хищниками, увидел вожака стада антилоп, сочетавшегося с самкой… То был… (не кто иной, как) богатый аскетическими подвигами, блистательный сын мудреца, который под видом антилопы-самца сочетался со своею супругой» (Мбх I, 109, 5, 7) (курсив наш – А. И.). Аскет сообщает царю: «Ведь я отшельник, по имени Киндама, несравненный по своим аскетическим подвигам. Стыдясь людей, я совершил соитие с антилопой» (Мбх I, 109, 26) (курсив наш – А. И.). Необходимость оправдания подобных действий даже самых «заслуженных» аскетов позволяет предположить, что фривольное обращение с особями чуждых видов ограничено наиболее древними слоями сказания и без серьёзных оговорок допустимо только для мифологических персонажей, к коим в рассматриваемом эпизоде следует отнести Арджуну. Но даже такие выдающиеся и отменно мифологизированные герои, как Арджуна и Геракл, нуждаются в некотором оправдании соития с женщиной-змеёй: первый уступает угрозе самоубийством влюблённой красавицы, второй – шантажу похищенными конями. Принуждение героя к соитию с феминой змеиной природы достигает предельного выражения в позднем варианте этого сюжета в южнославянском эпосе, где о плодовитости союза речи уже не идёт, но сохраняется мотив соблазна хтонической искусительницы:
«Лицом хороша змеиха,
Когда на нее глянули,
Лицо ее светит, как солнце.
Стан у нее тонкий,
Коса у нее золотая»
(«Овчар и змеиха». Песни южных славян. М. 1976).
В пережиточном варианте мотив соития со «змеихой» уже безусловное зло, и сербского героя ведовством спасает его матушка с помощью «травы от змеев, отсушки» (там же).
Как видим, Арджуна не только вступает в связь с потусторонней барышней (Драупади) и дамой нечеловеческой природы (Улупи, в этом случае даже совершая катабасис), но и обзаводится неземным потомством. Далее, союз с Улупи и рождение ею сына, которого отец увидит только через много лет на поле боя, знаменует ряд матрилокальных браков героя; о значении этого обстоятельства его семейной жизни будет сказано ниже, но здесь уместны некоторые предварительные замечания. Мотив матрилокального брака героя может служить самостоятельным авантюрным сюжетом (e.g., заблудившийся в лесу конунг Гаути и девица Снотра «Саги о Гаутреке»). Но «Махабхарата» ни в одном из сюжетных звеньев о матрилокальных союзах Арджуны этой привлекательной возможностью не пользуется; очевидно, в применении к первому витязю цель данных сюжетов иная. Пока только отметим, что матрилокальность браков может использоваться сказаниями как способ организовать полигамную брачную жизнь героя (в качестве мерила его сексуальной мощи): «У Харальда конунга было много жен и много детей…Дети Харальда конунга воспитывались там, где жила родня их матери» (Снорри Стурлусон «Сага о Харальде Прекрасноволосом» XXI. «Круг земной» М. 1980).
При посещении царя Маналуры Читраваханы Арджуна, «увидев прекраснобёдрую дочь Читраваханы…влюбился в неё. Явившись к царю, он объявил ему о своём намерении» (Мбх I, 207,16) (курсив наш – А. И.). Выделенный курсивом эпитет подчёркивает «плодородные» достоинства невесты, как это было в случае Кунти при обсуждении её потомства от богов. Союз Арджуны с Читрангадой, очевидно, предполагает брак асура, так как обсуждается выкуп за невесту, и царь ставит оригинальное условие: «Да будет твоим свадебным подарком то, что (сын), родившийся от неё, пусть станет здесь продолжателем рода» (Мбх I, 207, 22) (курсив наш – А.И.). Можно видеть, что и этот брак Арджуны матрилокален, а наследование царства матрилинейно: с принцессой Маналуры Арджуна провёл три года, а когда через некоторое время снова наведался туда, его юный сын Бабхрувахана уже правил страной.
Затем следует встреча с пятью апсарами, которые за фривольное поведение были на сто лет превращены в огромных крокодилов; Арджуна не испугался страшных рептилий и освободил их от заклятия. Приключение напоминает известный фольклорный сюжет о расколдовывании спящей красавицы, но в данном случае освобождение от чар несёт не всякий заезжий прекрасный принц – роль магического избавителя, по слову божественного риши Нарады, обращённому к апсарам, предвещана именно Арджуне: «…Тигр среди мужей – Дхананджая, сын Панду, одарённый чистой душою, скоро избавит вас от этого несчастья; тут нет сомнения!» (Мбх I, 209,18). Герой не подвёл: «И вытащенный (на берег) достославным Арджуной крокодил тот обратился в прекрасную женщину, украшенную всеми украшениями. Очаровательная, наделённая божественными формами…она сияла красотою» (Мбх I, 208, 10–11). Опасная процедура – ведь сначала требуется вступить в схватку с безжалостным хищником – повторена пять раз.
Важнейшая из побочных матримоний Арджуны оказывается, как и обретение Пандавами царства, связана с Кришной. Здесь Кришна впервые выступает не в роли величественного покровителя и наставника Пандавов, но в роли близкого друга и побратима Арджуны. Кришна неожиданно посетил Арджуну в пору его изгнания и после дружеских объятий пригласил кузена в увеселительную поездку. Дальше события следуют привычному сценарию: в столице ядавов любвеобильный герой узрел сводную сестру Кришны Субхадру и «лишь только Арджуна увидел её, им овладел бог любви» (Мбх I, 211, 75). Кришна даёт побратиму дельный совет: «Уведи силою мою прекрасную сестру, ибо кто знает, что она задумала сделать на сваямваре?» (Мбх I, 211, 23).
Далее сказание, несмотря на сходный с предыдущим браком зачин, отклоняется от общей схемы и вводит драматические детали, подчёркивая богатырский характер данного сватовства. Испросив и получив согласие на очередной брак от Юдхиштхиры (всё сделано в срочном порядке с помощью гонцов), герой в полном вооружении подстерёг Субхадру «и насильно посадил в свою колесницу. И, схватив деву с ясной улыбкой, тигр среди мужей отправился тогда на быстролётной колеснице в свой город» (Мбх I, 212, 8); пример брака ракшаса. Похищение было предпринято не зря: дополнительные сведения, содержащиеся в «Хариванше», говорят о наличии у Субхадры жениха. При виде похитителя «вооружённая охрана с криком убежала». После предшествовавших мирных и относительно безопасных любовных приключений героя (даже катабасис с Улупи не выглядел опасным предприятием) похищение Субхадры – типичное богатырское деяние индоевропейского героического эпоса – призвано напомнить о доблести лихого воителя.
Оскорблённые наглым похищением родичи готовили погоню, но после вмешательства Кришны последовали примирение, свадьба и жительство Арджуны в семье новобрачной в течение года. Здесь находим очередной матрилокальный брак и рождение сына-богатыря Абхиманью, который героически погибнет на Курукшетре, но успеет продолжить почти истреблённую войной династию. Отметим, что сомнения в исходе сватовства, высказанные Кришной, и невосторженное отношение других родичей не уникальны для героических сказаний. Даже величайший греческий герой Геракл оказывался в подобном положении: «…Геракл прибыл к царю Ормению и посватался к его дочери Астидамии. Поскольку он был уже женат на Деянире, дочери Ойнея, то получил отказ». Геракл не растерялся, «захватил город, убил отказавшего ему царя и, взяв себе Астидамию пленницей, вступил с ней в связь» (Диодор Сицилийский. «Историческая библиотека. Греческая мифология» IV, 37, 4. М. 2000). Вскоре неуёмный герой «потерпел неудачу в сватовстве к Иоле», дочери эхалийского царя Эврита, со сходным результатом – город несговорчивого царя разрушен, его сыновья убиты (там же, 5). Очевидно, не менее решительно настроен герой германских сказаний Зигфрид перед сватовством к Кримхильде (см. эпиграф к гл. 10), как и датский герой саги: «Когда Горм возмужал и стал конунгом, он покинул свою страну, чтобы посвататься к дочери Харальда-ярла. А если ярл не захочет отдать ему свою дочь, он решил пойти на него войной» («Сага о йомсвикингах», 2. М.-СПб. 2018). Отец прекрасной Елены спартанский царь испытывает вполне обоснованные опасения: «Видя, что женихов столь великое множество, Тиндарей испугался, как бы не подняли мятеж остальные женихи после того, как выбор падет на одного из них» (Аполлодор «Мифологическая библиотека» III, 10, 8. Л. 1972). И «Махабхарата» не лишена подобного примера: вспомним о попытке недовольных исходом сваямвары Драупади женихов расправиться с Друпадой. Ещё красноречивее другое древнеиндийское сказание, устами царя Джанаки повествующее о войне, развязанной отвергнутыми женихами, не сумевшими даже поднять богатырский лук:
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+8
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе