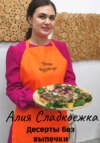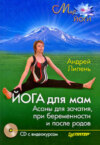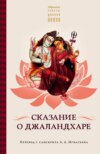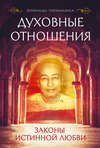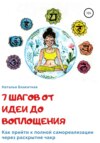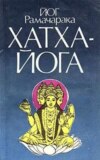Читать книгу: «Герой «Махабхараты» Арджуна. Образцовый витязь индийского эпоса», страница 6
9. Богатырское сватовство
«Иван Федорович сидел на своем стуле как на иголках, краснел и потуплял глаза; но барышня, казалось, вовсе этого не замечала и равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены или следуя глазами за кошкою…»
Николай Гоголь«Иван Фёдоровой Шпонька и его тётушка»
Следующий подвиг Арджуны – завоевание царевны Драупади – имеет особое значение. Во-первых, как указано выше, это событие можно считать важнейшим признаком перехода к взрослой жизни юного героя и его братьев (пока отметим кратко, что, в отличие от менее масштабных сказаний, в данном случае переход будет не одноактным, но многостадийным и растянутым во времени). Во-вторых, данная матримония определит не только судьбу Пандавов и царской династии в целом, но и всей империи Кауравов совокупно с множеством окрестных царств, а также ознаменует смену юг – мировых периодов. Далее, помимо традиционных «земных» аспектов сюжета о героическом сватовстве Арджуны мы внимательно рассмотрим знаки его причастности потустороннему. Кроме того, не следует забывать, что богатырское сватовство в различных формах является одним из наиболее популярных эпических мотивов и двигателей сюжета в героической поэзии, так как может:
А) быть одним из ярких эпизодов в череде подвигов витязя
Б) служить локомотивом героической карьеры (приобретение славы и/или положения зятя/наследника правителя)
В) служить затравкой и оправданием многолетней вражды, представлющей основу сюжета сказания (добывание Зигфридом Брюнхильды для Гунтера ведёт к соперничеству, ревности, убийству и цепной реакции отмщений в «Песни о Нибелунгах», определяя судьбы героев на десятилетия вперёд)
Г) снабжать героя для его военных предприятий союзниками в лице тестя и/или шурина
Д) служить самостоятельным сюжетным звеном или даже исчерпывать сюжет целого сказания (былина «Дунай сватает невесту князю Владимиру»), подчас довольно сложный и разветвлённый (свершения и подвиги Кухулина в саге «Сватовство к Эмер», казахский романический эпос «Козы-Корпеш и Баян-сулу»).
Брак девушки с победившим на состязании женихом распространён во многих эпосах. Расхожим и возможно, самым узнаваемым в различных фольклорных формах остаётся наиболее архаичный вариант брачного состязания – поединок героя с девой-богатыркой [e.g., вариант русской былины:
«…Кто мене побьёт во чистом поле,
За тово мне, девице, замуж идти»
(«О женитьбе князя Владимира» 255–256.«Древние российские стихотворения, собранные Киршёю Даниловым». М.-Л. 1958)].
Индийским сказаниям эпический мотив поединка с невестой не свойствен. В то же время в индийском эпосе нет недостатка разнообразных способов обретения невесты; некоторые перечни видов брака насчитывают восемь вариантов (Мбх I, 67, S), но мы ограничимся четырьмя, имеющими непосредственное отношение к нашему герою. Это уже упоминавшаяся сваямвара (состязание женихов за руку девушки, осуществляющей свой выбор), гандхарва (союз, основанный на обоюдной любви, без участия родителей или других родичей), ракшаса (похищение девушки без её согласия, с последующей женитьбой на ней) и асура (брак с предоставлением выкупа родителям невесты).
Пример сваямвары – выбор царевной Кунти могучего Панду. Форма гандхарва реализовалась в добрачных связях Парашара – Сатьявати и Сурья – Кунти, причём в указанных случаях в роли любовника выступает либо божество, либо приравненный к нему по сверхъестественным способностям божественный мудрец (это важное обстоятельство: восхищённый любовник предоставляет чудесные дары избраннице и будущему отпрыску). Инициатором любовного союза способна выступать и девица, которая также может нести черты потустороннего существа – такую форму брака, наряду с другими, предстоит испытать Арджуне с царевной оборотней-нагов Улупи; и в этом случае не обойдётся без сверхъестественного дара, но не при первой встрече, а через много лет.
Пример брака ракшаса находим при похищении Бхишмой трёх сестёр, хотя в данном случае эта форма была осложнена сопутствующими обстоятельствами: а) похититель Бхишма выступает заместителем, добывая невест для сводного брата; б) царь Каши планировал для своих дочерей сваямвару, но Бхишма дерзко нарушил планы царя, самих девиц на выданье и претендентов-женихов, умыкнув невест; в) одну из похищенных царевен Бхишма отпустил, узнав, что у неё есть возлюбленный. К этой форме брака мы ещё вернёмся: и таким браком в определённый момент не погнушается наш герой, похитив сводную сестру Кришны и свою кузину по матери прекрасную Субхадру
Браком асура соединились Панду и красавица Мадри, купленная Бхишмой для племянника «за огромное богатство». Следует отметить, что выкуп может быть нематериальным; Сатьявати была сосватана для Шантану с условием, что её потомство наследует трон Кауравов. Этот вариант брака также реализуется в одной из матримоний любвеобильного Арджуны – с царевной Манипуры Читрангадой. Но сейчас мы обратимся к сваямваре – это форма первого, главного и судьбоносного брака Арджуны.
Отличительной чертой сваямвары является соревновательность; этой черты могут быть не лишены и другие способы обретения невесты (Бхишме при похищении царевен Косалы приходится сражаться с целой армией разгневанных женихов), но сваямвара является конкуренцией женихов за благосклонность невесты par excellence.
Вот как подготавливается главный брак Арджуны и Пандавов. Случайно встреченные Пандавами брахманы выполняют роль вестников, превознося достоинства невесты и подогревая (т. е. сюжетно оправдывая) интерес героев к участию в сватовстве. Вместе с Пандавами аудитория узнаёт: «У… благородного Друпады есть дочь, родившаяся из середины жертвенного алтаря. Её глаза подобны лепесткам лотоса. Прекрасная и безупречносложенная, она нежна и разумна. Драупади обладает… тонкой талией, от неё исходит благоухание, как от лепестков голубого лотоса…» (Мбх I, 175, 7-10). Далее словоохотливые вестники повествуют о сваямваре: «…Дочь Яджнясены… нетерпеливо ожидает времени выбрать супруга… Цари и царевичи….чистые и благородные, соблюдающие обет, юные и прекрасные – могучие воины, сражающиеся на колеснице, владеющие оружием, съедутся туда из различных стран» (Мбх I, 175,12–13). Заодно брахманы, обращаясь к Юдхиштхире как к старшему в группе, пророчествуют: «Увидев вас всех, прекрасных как сами боги, находящихся там, Кришна» (Драупади – А. И.), «может случиться, изберет одного из вас, лучшего из всех. Этот твой брат с могучими руками, счастливый и прекрасный, сражающийся в поединках, может случиться, добудет огромное богатство» (Мбх I, 175, 18–19). Интересно, что «случайные» вестники прозревают истинную сословную принадлежность «сражающегося в поединках» Арджуны, тогда как на сваямваре никто из толпы гостей, женихов и родичей невесты не усомнится, что перед ними всего лишь юный и вряд ли способный на богатырский подвиг брахман. Можно думать, что непоименованные брахманы занимают нишу безупречно осведомлённых иномирных вестников, характерных для фольклорно-сказочных сюжетов о сватовстве (e.g., чудесные гуси-посредники между ещё не встречавшимися Налой и Дамаянти). Это, в свою очередь, свидетельствует о небесном плане, определившем предназначенность Драупади Арджуне: девица является суженой нашего героя. Следует отметить, что в общем случае сюжетное приложение данного мотива не исчерпывается осведомлением героя о суженой. В странствиях герой, независимо от матримониальных сюжетов, встречает сверхъестественно осведомлённого советчика: в якутских олонхо это всезнающий старец Сэркээн Сэсэн. В русском эпосе и странствие не является обязательным: таинственные старцы, определяющие судьбу богатыря, навещают Илью Муромца в его избе.
Итак, первая и важнейшая сцена богатырского сватовства Арджуны тщательно подготовлена. Во-первых, сказание осведомляет аудиторию, что невеста прекрасна собою, к тому же имеет полностью потустороннее происхождение и готова выбрать суженого. Во-вторых, выясняется, что на руку невесты претендуют бесчисленные и воинственные конкуренты – предвещание настоящего агона, а не просто выставки красующихся женихов, как на сваямваре царевны Дамаянти. В-третьих, «прекрасному и могучему» Арджуне предсказана победа. И если предсказание об исходе сваямвары звучит не совсем твёрдо, то дополнительные сведения, доступные аудитории, но не участникам действия, добавляют уверенности в победе Арджуны. Оказывается, об этом позаботился сам отец невесты: «У Яджнясены» (Друпады – А. И.) «было всегда желание выдать Кришну» (Драупади – А. И.) «за Пандаву Киритина» (Арджуну – А. И.), «но он об этом (никому) не говорил. И царь панчалов для того, чтобы разыскать сыновей Кунти…велел изготовить тугой лук, который никто не смог согнуть!.. Кроме того, он велел построить машину, способную подниматься в воздух, а также золотую цель, прикреплённую к тому сооружению. Друпада сказал: «Кто натянет сей лук, снабжённый тетивой, и отличившись, пронзит стрелами, выпущенными из лука, цель, тот получит мою дочь»» (Мбх 1,176, 8-11). Существенной деталью сваямвары Драупади оказывается повышенное внимание к происходящему потусторонних сил, и сказание не скупится на детали: «Туда явились также сонмы богов на воздушных колесницах: Рудры и Адитьи, все Васу и оба Ашвина, садхьи и маруты все, предшествуемые Ямой и владыкою богатства; также дайтьи и супарны, и могучие змеи; божественные мудрецы, гухьяки и чараны, Вишвавасу, Нарада и Парвати, а также главные из гандхарвов вместе с апсарами» (Мбх I, 178, 6–8). Сходным образом было обставлено появление на свет Арджуны, и это сходство нельзя счесть случайным. Так же пышно будет обставлено еще одно важнейшее событие в жизни героя (см. гл. 19).
Если наши наблюдения над этой сценой верны, то на основе намёков сказания позволительно сделать следующие выводы. Прежде всего, главным героем сваямвары Драупади суждено стать Арджуне, хотя жена будет общей для всех братьев; как упомянуто выше, именно первый витязь сказания должен завоевать царевну. (Аналогично, в «Песни о нибелунгах» Зигфрид в качестве первого витязя добывает жену для своего побратима Гунтера). Кроме того, повышенный интерес потусторонних существ намекает на космическую по масштабу роль, которую предстоит исполнить Драупади в качестве супруги Арджуны и всех Пандавов. Далее, сходство визитов потусторонних персонажей при рождении Арджуны и на сваямваре панчалийской царевны может говорить о следующем: возможно, что и важное для насельников небес деяние, предвещанное Арджуне, как-либо связано с предполагаемой ролью Драупади.
10. Триумф Арджуны
«Лишь усмехнулся Зигфрид: «Отец, да что мне в том?
Коль я свою невесту не получу добром,
Её я силой вырву у братьев-королей,
А земли их и подданных возьму в придачу к ней»»
«Песнь о нибелунгах» III
Повествуя о сваямваре Драупади, сказание вновь щедро использует разнообразные аспекты мотива аутсайдера, но теперь роль «тёмной лошадки» принадлежит Арджуне. О бесчисленных великолепных женихах сказание сообщает: «И там в разнообразных дворцах поселились все цари, нарядившиеся в красивые одежды, соперничая друг с другом» (Мбх I, 176, 23). В противоположность этому, «Пандавы поселились там в доме горшечника. Там они стали вести набожный образ жизни, собирая милостыню» (Мбх I, 176, 6–7). Когда прекрасная царевна вышла на арену, её брат Дхриштадьюмна объявил условия состязания и стал «говорить Драупади, называя имена, происхождение и заслуги собравшихся там царей» (Мбх I, 176, 36). Разумеется, Арджуна невесте не был представлен (как на состязании учеников Дроны не был представлен публике Карна), так как Пандавы сохраняют инкогнито: «И этих героев, прибывших туда, люди совсем не узнали» (Мбх I, 176, 7). Далее, Пандавы присутствуют на торжестве в качестве зевак, сидя среди брахманов, а не среди кшатриев-претендентов. В противоположность скромному облику Пандавов, о царевичах и царях-женихах сказание сообщает: «И те юные мужи…собравшиеся там, соперничая друг с другом, поднимались, высокомерно гордясь своим оружием и силой» (Мбх I, 178, 7). Мотив сватовства героя под чужой личиной, иными словами, в неузнаваемом виде (хотя в данном случае отец невесты ждет именно его), дополнительно подчеркивает тему судьбы – небесного предопределения.
Когда после неудачных попыток всех претендентов на арену выходит Арджуна, поднимается ропот: «Если славными в мире царями во главе с Карной» (sic!) «и Шальей» (царь мадров и дядя Пандавов – А. И.), «могучими и искусными в военной науке, не был согнут лук, то каким образом он может быть согнут простым юношей, не владеющим оружием и слабейшим по силе?…Лучше пусть он не выходит. Пусть будет ему запрещено натягивать лук, ибо он решился на это либо из тщеславия, либо из дерзости, или же по опрометчивости» (Мбх 1,179, 4–7) (ср. с инвективой Елиава юному Давиду перед его поединком с Голиафом). Сомнения в способности юного героя справиться с богатырской задачей, независимо от цели агона, это эпическое клише; вот как этот мотив представлен в сюжете о богатырском сватовстве бурятского эпоса:
«Три метких стрелка,
Три удалых седока,
Увидели Нюргая – хохочут,
– А ты, сопляк, чего хочешь?
Каждый с презрением на него взглянул,
Каждый плетью его стегнул».
Реакция соперников не должна удивлять аудиторию, поскольку внешний вид и экипировка аутсайдера преувеличенно жалки:
«Лошадёнку взял он самую дрянненькую,
Седло на неё надел деревянненькое,
На спину лошадёнки костлявенькой
Попонку накинул дырявенькую,
Вид у лошадёнки понурый,
Сбруя вся из мышиных шкурок.
На себя надел он шубу из семидесяти лоскутков
…Лук он захватил из жиденькой ивы,
Стрелы он захватил из слабенькой липы.
…На правом глазу у него ячмень сидит,
У левого глаза распухший вид…»
(«Гэсэр», т. 1, ветвь 2. М. 1988).
Сам по себе рассматриваемый эпический мотив в применении к сваямваре Драупади выглядит стандартно, хотя «жалкость» Арджуны не слишком утрирована. Но исполнение этого мотива индийским сказанием готовит аудитории сюрприз, а именно уникальную для данного эпического мотива рокировку героев: теперь Карна является знаменитостью и общепризнанным фаворитом (ведь Пандавы сгинули в пламени смоляного дома), а Арджуна – неизвестным, необъявленным и незваным аутсайдером. Правда, на этот раз сюжет развивается в полном соответствии с канонами жанра: аутсайдеру, притом сохраняющему инкогнито, суждена победа. «…Арджуна остановился возле лука, неподвижный как утёс. Он совершил обхождение лука слева направо» (ритуальное выражение почтительности – А. И.) «и, склонившись челом, укротитель врагов, обрадованный, взял его. Он натянул его в мгновение ока. И, взяв стрелы числом полдесятка, он пронзил цель…» (Мбх I, 179,14–16).
Стрельба из лука отнюдь не является необходимой принадлежностью сваямвары: выбор жениха невестой может происходить и по другим критериям, как следует из вставного сказания о Нале и Дамаянти (Мбх III, 50–79), но в данном случае соревнование лучников вряд ли можно признать случайным условием сваямвары. Очевидна символика соревнования в стрельбе из лука для образа Арджуны как в качестве великого лучника par excellence, так и в качестве героя, которому пришла пора демонстрировать свою сексуальную мощь. Как указывает эпосовед в исследовании якутских сказаний, «лук и стрела являются ритуально-мифологической метафорой оплодотворённого космического лона» (Л. Н. Семенова. «Эпический мир олонхо» с. 148. СПб. 2006).
Но слишком легко Арджуна одержал победу. Сказание пытается придать сцене богатырского сватовства дополнительный драматизм, а заодно и возвеличить героя. Добиться этого с применением популярных эпических мотивов несложно: достаточно объяснить, почему выполнения условий предполагаемого тестя недостаточно для обретения невесты, и изыскать предлог для поединка. Оказывается, толпы женихов недовольны исходом сваямвары, и повод для недовольства раздосадованные претенденты приводят вполне солидный: «В Ведах хорошо известно такое предписание: «У брахманов нет права на такой брак, при котором дева сама избирает себе супруга, – сваямвара (допускается) для кшатриев». Если же эта дева не желает никого (из нас) здесь выбрать, то бросим её в огонь и отправимся в свои края…» Сказав так, цари-тигры… обрадовавшись, бросились с оружием на Друпаду с намерением уничтожить его» (Мбх I, 180, 6-11). Арджуна и Бхимасена ввязываются в схватку, чтобы защитить царя и царевну; Юдхиштхира и близнецы заблаговременно удалились. Предводителем разгневанных женихов и поединщиком Арджуны, естественно, оказывается Карна.
Подобной несложной и сюжетно привлекательной схеме удвоения брачного испытания следуют и другие сказания. Когда знатная молодая вдова Гида на смотре женихов (функционально это очевидная аналогия сваямвары) избирает неизвестного пришельца — им оказывается явившийся инкогнито норвежский конунг Олав Трюггвасон, – недовольство местного аристократа и, по совместительству, главного претендента на её руку приводит к незапланированному поединку двух отрядов по дюжине воинов (Снорри Стурлусон. «Сага об Олаве сыне Трюггви», XXXII. «Круг земной». М. 1980). Аналогично, в казахском эпосе заглавный герой Кобланды-батыр одержал победу в упражнении с луком, но для женитьбы на ханской дочери должен был «незапланированно» сразиться с великаном Кызылером. Дополнительные после выполнения исходного условия подвиги находим в сватовстве иранского героя Гоштаспа к принцессе Рума Кетаюн. Невеста сама выбрала мужа на смотринах (ср. со сваямварой), но позже он подтверждает своё богатырство, помогая двум витязям сосватать младших сестер Кетаюн, для чего повергает чудовищного волка и дракона, а позже побеждает витязей в спортивных играх («Лохрасп». «Шахнаме», т. IV, М. 1969). Кстати, выступление в роли бестиария может быть и основным условием богатырского сватовства: огузский герой ради невесты сражается с быком, львом и верблюдом («Песнь о Кан-Турали, сыне Канлы-Коджи». «Книга моего деда Коркута» М.-Л. 1962).
Итак, состязание на сваямваре Драупади неожиданно обретает второй акт: после демонстрации владения оружием нуёмные соперники навязывают победителю объявленного конкурса поединок. Если во время выпускного состязания учеников Дроны поединок Арджуны и Карны не состоялся, то теперь раздосадованные поражением цари не упустят случая расправиться с юным выскочкой.
Рассмотрим важные для нас детали поединка. Во-первых, вновь проявляется военная специализация братьев: Арджуна берётся за лук, тогда как Бхимасена устрашает воинство царей, вырвав дерево с корнем. Затем Бхимасена и могучий Шалья вступают в схватку, «колотя друг друга кулаками и коленями». В это время «Карна, сын Викартаны» (Сурьи – А. И.), «решительно пошёл на Арджуну, подобно тому, как слон, рвущийся в бой из-за самки, (идёт) на слона-соперника» (Мбх I, 181, 7) (обратим внимание на неслучайное в данном эпизоде териоморфное сравнение). Во-вторых, в этой сцене сказание впервые вводит важнейший персонаж – Кришну, – который находится среди зрителей со старшим братом Рамой (сказание не поясняет, были ли Кришна и Рама женихами или присутствовали в качестве зрителей). Всеведущий бог-герой Кришна единственный узнаёт «замаскированных» Пандавов и делится своими наблюдениями с Рамой, радуясь, что его кузены и тётка не сгинули в пожаре смоляного дома. Так происходит первая встреча будущих побратимов, но пока только один из них замечает и узнаёт другого.
Потрясённый воинским искусством противника, Карна принимается гадать, кто скрывается под личиной юного брахмана: Парашурама (один из его учителей), сам Индра, Кришна (как воплощение Вишну), или, наконец, Арджуна? Все догадки Карны неслучайны. Рама Джамадагнья – шестая аватара Вишну и великий истребитель кшатриев (предвещание сверхчеловеческого подвига Арджуны по истреблению кшатры на Курукшетре). Кузен Арджуны Кришна – восьмая аватара Вишну, а в перспективе возница, побратим и сверхъестественный помощник Арджуны на Курукшетре. Сам Арджуна является воплощением древнего божественного мудреца Нары, который, в свою очередь, ассоциируется с Вишну. Индра (архетипический кшатрий и достойный образец для любого героя) – небесный отец Арджуны, коего Арджуна также является частичным воплощением. Таким образом, предположения Карны намекают аудитории на грядущие бранные подвиги Арджуны, а также отсылают к потусторонним персонажам, с которыми Арджуна действительно связан. И, как бы подводя итог сужающемуся кругу догадок, под конец Карна бьёт точно в цель, называя самого Арджуну. Перечисленные Карной персонажи можно объединить и по другому признаку: все они непосредственно причастны к грядущей гибели Карны: в решающем поединке с Арджуной «сработает» проклятие Рамы, Индра загодя лишит Карну неуязвимости, а Кришна будет возницей Арджуны в его последнем поединке с Карной, защитником Арджуны от небесного оружия Карны, а также подстрекателем Арджуны к бесчестному убийству Карны.
В этом перечне Карна поминает Арджуну в примечательном контексте, впервые признавая паритет с вечным соперником: «Ведь никто другой, кроме самого супруга Шачи» (Индра-А. И.) «или же Киритина» (Арджуна-А. И.), «сына Панду, не в состоянии сражаться со мною, когда я разгневан в бою!» (Мбх I, 181, 18). В ответ на догадки оппонента Арджуна настаивает, что является брахманом, преуспевшим в изучении Вед и божественного оружия «паурандара» (ещё один намёк на связь с Индрой), и призывает Карну сложить оружие. «И когда так было сказано, Карна… могучий воин, сражающийся на колеснице, отвратился от битвы, считая, что брахманская сила неистощима» (Мбх I, 181, 21).
Итак, поединок соперников наконец произошёл, причём оба витязя продемонстрировали высочайшее искусство владения оружием. Но до конца он доведён не был, и вопрос о превосходстве одного героя над другим вновь остался открытым. Причиной прерывания поединка послужили хитрость одного героя и доверчивость другого. Говоря о хитрости Арджуны, следует уточнить, что это один из редчайших случаев прямой словесной лжи главных героев сказания. Другой пример подобного обмана ранее явил сам Карна: при поступлении в ученье к Парашураме он также назвался брахманом. Но и здесь находим зеркальное отношение вечных соперников: Карна был разоблачён и за ложь предан проклятию (которое станет одной из причин его поражения и гибели в грядущем главном поединке с Арджуной), тогда как Арджуне ложь сошла с рук, и благодаря ей он одержал победу над Карной на сваямваре.
Пока только заметим, что в сказании, помимо указанных случаев лжи Арджуны и Карны, а также упомянутого ранее случая с царицей Сатьявати (см. гл. 1), есть ещё всего один пример сознательной словесной лжи, и также с корыстной целью: на пятнадцатый день битвы на Курукшетре Царь справедливости Юдхиштхира скажет Дроне, что его сын убит, и это приведёт к отчаянию и гибели престарелого наставника, что и было целью обмана. При этом приверженности царей правде придаётся особое значение, вот что говорит царь Друпада своему зятю и молодому коллеге Юдхиштхире: «…Царям (более) приличествует правда, нежели жертвоприношение и благочестивые дела; поэтому не следует говорить неправду» (Мбх I, 187, 6). Дело, разумеется, не только в личной правдивости монарха, но в общепринятом представлении о том, что правитель олицетворяет принцип правды и является гарантом закона и справедливости:
«Король борец с бесчестьем: он
Обязан охранять закон…»
(Кретьен де Труа. «Эрек и Энида» 1797–1798. М. 1980).
Возвращаясь к зеркальным подобиям друг друга – Карне и Арджуне, – отметим, что оба героя на протяжении жизни при всяком удобном случае с подозрительной настойчивостью будут декларировать неизменную приверженность правде, «забывая» о своей лжи; примеры подобных заявлений будут приведены в своё время.
Сваямвара закончилась счастливо для Пандавов. По требованию Кришны (первый пример его судьбоносного вмешательства в дела кузенов) цари-женихи также прекратили сражение. Драупади радостно избрала победителя, с улыбкой последовала за Арджуной и Бхимасеной в дом горшечника и поступила в распоряжение Кунти. Здесь Кришна с братом Баларамой навестили Пандавов и представились им; создается впечатление, что это первая встреча Пандавов с кузенами. «Аджаташатру» (Юдхиштхира – А. И.) «… спросил Кришну: «Каким образом мы все, живущие здесь скрытно, были узнаны тобою, о Васудева?»» (Мбх I, 183, 6). По этой версии именно в момент тожества Пандавов происходит личное знакомство пары божественных героев – «двух Кришн», как их часто аттестует сказание. [Уже во введении Дхритараштра сообщает о «парности» героев как аватары двух божественных мудрецов-воплощения Вишну: «…Я услышал от Нарады во время его рассказа, что Кришна и Арджуна, оба они – Нара и Нараяна и что он всегда видит их в мире Брахмы…» (Мбх I, 1, 117)]. В дальнейшем визиты Кришны к Пандавам и, в частности, его контакты с Арджуной, часто будут сопряжены с поворотными моментами жизни первого витязя и его братьев. Следует отметить, что в сказании наличествует и другая версия знакомства «двух Кришн»: уже после битвы Нарада в беседе с Юдхиштхирой как об известном факте упоминает «о дружбе с самого детства между Владетелем лука Гандива» (Арджуна – А. И.) «и Васудевой» (Кришна – А. И.) (Мбх XII, 2, 7). Кроме того, позже выяснится, что Баларама был наставником (юных?) Бхимасены и Дурьйодханы в искусстве владения палицей (Мбх IX, 53, 37). Очевидно, сказание усиливает эффект матримониального триумфа Пандавов, дополняя его торжественным знакомством с героями-кузенами, и ради этого «забывает» о предшествовавших контактах двух групп родичей.
В силу ряда обстоятельств, рассмотрение которых выходит за рамки нашего исследования, Драупади станет общей женой пятерых братьев, но сказание не оставит сомнения в том, кто действительно завоевал красавицу и стал её избранником: «А Кришна» (Драупади – А. И.), «видя пронзённую цель и Партху, подобного Шакре» (Индре – А. И.), – «в белом покрывале и с гирляндой цветов пошла, улыбаясь, навстречу сыну Кунти. И этот исполнитель необычайного подвига, выиграв её победою на арене…покинул арену, и его супруга последовала за ним» (Мбх I, 179, 22–23) (курсив наш – А. И.). Итак, сказание называет Драупади супругой Арджуны и подчёркивает, что именно за ним последовала царевна, хотя в сражении участвовал и Бхимасена; он же сопровождал Драупади домой он вместе с Арджуной.
Победа Арджуны на сваямваре была сразу же отмечена небесными знамениями: «Тогда в воздушном пространстве раздались клики… И боги пролили дождь из дивных цветов на голову Партхи, сокрушителя врагов…И пролились там со всех сторон ливни цветов» (Мбх I, 179, 17–18). Можно видеть, что небо сначала указало на победителя (цветы на голову Арджуны), а затем ливнями цветов «со всех сторон» отметило космическое значение всего ритуала и возникшего в его результате брачного союза. Сходными знамениями отмечено бракосочетание первого витязя другого индийского сказания – Рамы – с Ситой:
««Прекрасно! Прекрасно!» – со всех сторон
Послышались крики богов и риши,
Прозвучал грохот барабанов,
И с неба посыпался дождь цветов.
… Слышались звуки музыки,
Плясали сонмы апсар,
Нежно пели гандхарвы…»
(«Рамаяна» I, 73, 28–29, 37–38).
Очевидно, наличие небесных знамений в обоих случаях связано и с грядущим необходимым небу подвигом великого героя, и с потусторонним происхождением его суженой, предназначенной по замыслу неба стать невольной причиной этого подвига.
Между тем в сюжете сваямвары Драупади сказание старательно разрабатывает всё разнообразие вариантов мотива героя-аутсайдера, не упуская ни увода невесты победителем, сохраняющим инкогнито, ни последующего узнавания и отложенного апофеоза героя. Естественно, запоздавшее «разоблачение» героя придаёт повествованию дополнительный драматизм, и делает триумф героя ещё ярче. Этот расхожий мотив присутствует в самых разных традициях. Король данов Хадинг, «узнав однажды, что дочь короля нидеров Хаквина Регнильда обещана в жёны какому-то великану… пришёл в негодование от этого позорного дела… Отправившись в Норвегию, он убил там этого домогавшегося девушки королевской крови мерзкого великана…Не знавшая, кем был её покрытый многочисленными ранами благодетель, девушка… старалась излечить его. И, чтобы… не забыть о нём, в его рану на голени она вложила колечко, оставив таким образом на нём отметину. Впоследствии отец даровал ей право выбрать себе мужа. И когда молодые люди собрались на пир, она принялась тщательно осматривать их тела… Отвергнув всех прочих, благодаря спрятанному кольцу, она узнала Хадинга и обняла его, выбрав себе в мужья…» (Саксон Грамматик. «Деяния данов» 1.8.13. М. 2017). Так Кухулин спасает королевну Руада, назначенную в дань фоморам (хтонические существа ирландских сказаний), та позже узнаёт его по перевязанной ею самой ране героя и король предлагает Кухулину дочь в жёны («Сватовство к Эмер». «Саги об уладах». М. 2004).
В соответствии с этим каноном, Арджуна и Бхимасена уводят Драупади, не представившись тестю. Интрига усиливается, когда на прямой вопрос посланного Друпадой жреца о происхождении семьи победителя Юдхиштхира решительно отказывается подтвердить или опровергнуть робкие надежды царя: «Тут нечего говорить ни относительно его касты, ни образа жизни, ни рода и семьи, ибо вопросы эти разрешены натянутым луком и пронзённой целью» (Мбх 1,185,23). Встревоженный Друпада находится в неведении о происхождении победителя сваямвары, а брат-близнец невесты выслеживает Арджуну и Бхимасену. Подслушав под окном разговор Пандавов о сражениях и оружии, новоиспечённый шурин с облегчением убеждается, что его зятья – отнюдь не нищие брахманы, но «быки среди кшатриев», и непостижимым образом приходит к смелому предположению, что это именно Пандавы. Как это подтвердить? Рассмотрим сходный классический сюжет. Чтобы узнать Ахилла, по воле его матери Фетиды жившего среди дочерей скиросского царя Ликомеда переодетым в женское платье, хитроумный Одиссей, наряду с украшениями, выставил перед девицами оружие, и Ахилл выдал себя:
«Дикий Ахилл, лишь заметив вблизи сияющий ярко
Щит, на котором битвы чеканены были, и дротик,
Весь покраснел, и ярость войны на лице проявилась.
Он зарычал, безумно задвигал глазами, и кудри
Дыбом поднялись, очистив чело. Ни к чему уж заветы
Матери строгой…»
(Стаций. «Ахиллеида» I, 852-7. М. 2011).
И в случае Пандавов воинственной беседой героев, выдающей их варну, сказание не ограничилось. Пригласив родственников жениха, Друпада приказал разложить во дворце разнообразное добро. Разумеется, из всего богатства, предложенного их вниманию, Пандавы «занялись предметами военного снаряжения. Заметив это, сын Друпады и сам царь вместе с главными советниками… с радостью установили, что это сыновья Кунти, сыновья и внуки царей» (Мбх I, 186,14–15).
Начислим
+8
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе