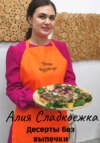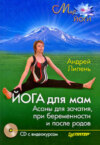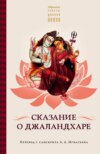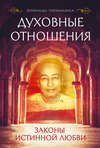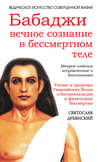Читать книгу: «Герой «Махабхараты» Арджуна. Образцовый витязь индийского эпоса», страница 5
Прервём повествование, чтобы проанализировать происходящее. Драматизм сцены сказание подчёркивает нагромождением множества обстоятельств и переплетением целого ряда эпических мотивов. Противостояние юных витязей трансформируется в противостояние двух кланов: Карна и Дурьйодхана прямо на арене клянутся друг другу в вечной дружбе [мотив побратимства, чрезвычайно важный для героического эпоса и судьбоносный для наших героев; точно так же сразу после победы Давида над Голиафом царский сын Ионафан «заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу» (там же, 18:3)]. В результате экстренного принятия Карны во фратрию Кауравов личное соперничество двух юнцов мгновенно и навсегда, то есть до конца земной жизни Карны, трансформируется в символическое противостояние Пандавов и Кауравов.
Далее сказание прямо аттестует Арджуну «неузнанным братом» Карны, а Кунти, видя готовых сразиться соперников, «потеряла сознание…Придя в сознание, она увидела опять своих обоих сыновей, облачённых в панцыри. Она страдала, но ничего не могла сделать» (Мбх I, 126, 29). Здесь видим также очень распространённый эпический мотив неузнанности родичей (чаще всего отца с сыном, но возможны варианты братьев, отца с дочерью, сына с матерью), приводящей к трагическим последствиям: смертельному поединку или инцесту Интересен состав противоборствующих групп: «Сыновья Дхритараштры оставались на том же месте, где был Карна, а сын Бхарадваджи» (Дрона – А. И.), «Крипа и Бхишма были там, где Партха» (Мбх I, 126, 26). То, что Карна, подружившись с Дурьйодханой, примыкает к противникам своих братьев Кауравам, признаем реализацией мотива неузнанности. Одновременно выясняется, что Арджуну поддерживают почтенные старейшины, против которых благородный герой в будущем обратит своё оружие; это важнейший момент его биографии, и апологии указанного выбора в VI книге будет посвящена знаменитая «Бхагавадгита».
Итак, Карна появляется на состязании как аутсайдер, а аутсайдеру по канонам фольклора суждена победа: это происходит с Одиссеем, который в обличье нищего на протяжении многих дней подвергается издевательствам женихов, а затем расправляется с ними; с Гильомом Оранжским, в виде монаха до поры терпеливо сносящим насмешки разбойников; с неизвестным пастушком Давидом, принявшим вызов могучего Голиафа только на сороковой день; с Алёшей Поповичем, из-за печи наблюдающим наглого Тугарина в палатах князя Владимира. Дополнительным фактором, подчёркивающим контраст между очевидным фаворитом и его неказистым соперником, может быть перебранка или, в редуцированном варианте – оскорбления и/или угрозы со стороны самоуверенного фаворита. Так, Одиссея, представшего в личине старого нищего, гордые своей силой и молодостью женихи аттестуют: «слабый, гнилой старичишка, земли бесполезное бремя». Могучий и наглый бретонец, с которым вышел на поединок юный Гильом, также поносит «мальчишку» и предрекает ему поражение:
«Бретонец на Гильома взгляд уставил
И счёл, что перед ним какой-то мальчик.
Возвысил грубо голос он на графа:
«Оставь-ка ты меня в покое, малый.
Клянусь тебе отцом небесным нашим,
Я с первого убью тебя удара»»
(«Отрочество Гильома», LVII, 2460–2465. «Песни о Гильоме Оранжском», М. 1985).
Особенно богат важными деталями рассматриваемый мотив в Ветхом Завете. Вот как могучий Голиаф относится к юному поединщику: «И взглянул Филистимлянин и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него… И проклял Филистимлянин Давида своими богами. И сказал Филистимлянин Давиду: подойди ко мне, и я отдам тело твоё птицам небесным и зверям полевым» (1 Цар 17:42–44) (курсив наш – А. И.). Проклятие с особо отмеченным обращением к потусторонним силам выявляет архаическую основу мотива перебранки: это акт деструктивной магии, призванный нанести ущерб противнику. В своём диахроническом бытовании от архаических песней до авторского эпоса мотив перебранки-проклятия постепенно утрачивает исходную магическую нагрузку; при этом связь с магией, деструктивной или благотворной, может сохраняться сказаниями в арсенале небожителей: превращение Одиссея то в жалкого старика, то в статного чернокудрого богатыря магически осуществляет Афина. Для земных героев перебранка, утратив магический аспект, приобретает функцию демонстрации презрительного отношения фаворита к оппоненту, дополнительно подчёркивая «аутсайдерство» последнего. Именно так можно расценить обращённые к Карне реплики Арджуны и Бхимасены (vide infra). Подобную рациональную (т. е. «очищенную» от древней магии) цель перебранки прекрасно объясняет греческий историк, говоря о галльских воинах: «Если же кто примет вызов, они принимаются превозносить подвиги предков и восхвалять собственную доблесть, тогда как противника оскорбляют, унижают и словами своими лишают его душевной отваги» (Диодор Сицилийский «Историческая библиотека» V, 29, 1. М. 2000) (курсив наш – А. И.).
Сопутствующие происходящему унизительные реплики Пандавов усиливают мотив противостояния общепризнанного фаворита Арджуны и безвестного выскочки Карны. Но в соперничестве двух наших героев расхожий мотив неизбежной победы опоздавшего «Иванушки-дурачка» имеет быть извращён: Карна вместо следующего по законам жанра «нежданного» триумфа аутсайдера подвергается новому унижению. Поединок с царевичем Арджуной оказывается сорван распорядителями в последний момент из-за «внезапно» выясненного низкого происхождения Карны: «…Крипа…опытный в правилах поединка и знаток всех законов, сказал им обоим, уже приготовившим свои громадные луки: «Это младший сын Притхи и Панду, происходящий из рода Куру… Ты же, о могучерукий, расскажи о своей матери и отце и о роде царей, который ты продолжаешь. Узнав это, Партха (решит), будет ли он сражаться с тобой или нет». И когда так было сказано Карне, лицо его, казалось, склонилось от стыда, будто увядающий лотос, смоченный дождевою водой» (Мбх I, 126, 30–33). Вдобавок, Бхимасена «сказал тогда ему, как бы в насмешку, такие слова: «Ты недостоин смерти в бою от Партхи, о Сын возницы! Тебе немедленно следует взять кнут, который более подобает твоему роду» (Мбх I, 127, 5–6). Как видим, Крипа, требуя от Карны информации о его происхождении, оставляет решение о поединке на усмотрение Арджуны, а обычно столь решительный юный герой на поединке не настаивает: возможно, после демонстрации воинского искусства Карны пыл Арджуны угас? Через много лет на Курукшетре мы вновь засвидетельствуем удивительный недостаток рвения первого витязя, когда дело будет касаться решительной схватки с его главным соперником.
В результате поединок оказывается отменён и вопрос первенства Арджуны или Карны для аудитории остаётся открытым. Этот вопрос занимает и персонажей сказания, причём решение обеих сторон оказывается не в пользу Арджуны: «У Дурьйодханы… когда он приобрёл (союзником) Карну, скоро исчез страх, внушаемый Арджуной…У Юдхиштхиры же явилась тогда мысль, что нет на земле держателя лука, равного Карне» (Мбх I, 127, 23–24). Можно полагать, что и наставник Крипа опасался за исход поединка для Арджуны и лукаво осведомился о «царском роде» Карны – хотя не мог не знать о приёмных родителях ученика, – чтобы сорвать поединок. Да и сам Арджуна удовольствовался перебранкой, подхваченной его старшим братом, ни словом не возразив против отмены поединка. Но, в отличие от совпадающего мнения персонажей, даже принадлежащих противоположным лагерям, сказание не спешит развенчать Арджуну в качестве первого витязя. Подводя предварительный итог соперничества Арджуны и Карны, следует отметить особую связь этих персонажей, имеющую, как мы убедимся, трансцендентную основу. На уровне сюжета эта связь оказывается подчёркнута примечательным обстоятельством: первые на страницах эпопеи и последние (в эпопее и в земной жизни) речи Карны обращены к Арджуне. Кроме того, несостоявшийся, но чрезвычайно важный для обоих юнцов поединок является предвещанием центрального поединка будущей великой битвы. Точно так же, прерванная наставниками показательная схватка Бхимасены и Дурьйодханы на палицах предвещает последний и роковой для Кауравы бой грядущей войны, причём именно с применением указанного оружия.
7. Первый набег
«В тот век юноше не давали имени, пока
он не отрубил головы, не пролил крови»
«Песнь о Бамси-Бейреке, сыне Кан-Буры»
Апогей деяний юного Арджуны – успешную военную экспедицию в царство панчалов, захват в плен царя Друпады (будущего тестя Пандавов) и раздел его царства – можно счесть его воинской инициацией, фунционально аналогичной посвящению в рыцари бесчисленных юных героев французских жест. Набег на Панчалу предпринят по наущению Дроны, мстящего Друпаде за старую обиду, и совершён совместно всеми юными учениками наставника (Мбх I, 128, 7); правда, позже сказание «забывает» о полном составе военной экспедиции и приписывает подвиг исключительно Пандавам: «…Пятеро сыновей Панду победили в битве Друпаду и, связав его, представили вместе с его советниками Дроне» (Мбх I, 154, 22). При этом в одном из вариантов изложения набега на царство панчалов сказание выделяет Арджуну: «…Город Ахиччхатра со всем населением, завоеванный Партхой. был отдан Дроне» (Мбх I, 128,18) (курсив наш – А. И.). Очевидно, Арджуна в качестве самого искусного ученика Дроны отличился во время набега. Позже аудитория узнает, что условия сваямвары своей дочери Драупади царь Друпада «подгонит» под Арджуну, справедливо считая его величайшим героем среди всех принцев. Выбор царя выглядит особенно примечательным, так как ко времени подготовки сваямвары Пандавы будут лишены царства и окажутся в изгнании. Судя по тому, что до похода юнцов на Панчалу Друпада вряд ли был осведомлён о существовании отрока Арджуны, а между походом и сваямварой Драупади ни о каких публичных богатырских подвигах Арджуны сказание не сообщает (кое-что было совершено инкогнито – vide infra), можно думать, что именно в набеге на соседнее царство Арджуна прославился в качестве выдающегося витязя.
Теперь можно подвести предварительный итог повествования о происхождении и юных годах Арджуны. Как было указано в кратком введении к данному разделу, главный интерес для нас представляют сведения о герое, выделяющие его из череды большинства других героев сказания. Прежде всего, Арджуна имеет полубожественное происхождение, что характерно для великих воителей от Гильгамеша до Кухулина и греческих героев Фиванского и Троянского циклов (отметим мимоходом, что сам божественный Кришна – воплощение Вишну – по версии «Махабхараты» имеет полностью земное происхождение). Далее, Арджуна отмечен предвещанием и задатками первого витязя, пока не вполне ясными намёками на космически важное предназначение и, главное, ранним обретением яростного соперника в лице Карны – неузнанного старшего брата. (Чрезвычайно популярный эпический мотив соперничества братьев в применении к Арджуне и Карне заслуживает особого внимания и будет детально рассмотрен в связи с их последней схваткой). Симметрия образов Арджуны и Карны частично обязана сходству обстоятельств (общая мать, небесные отцы, предвещание великой доли, непревзойдённое воинское искусство), но в значительной и возрастающей по ходу сказания мере оказывается основана на зеркальности, то есть противопоставлении двух героев.
Наконец, отметим значительное достижение, завершающее череду «детских» подвигов героя – победу над царством панчалов. Это событие, как сказано выше, следует признать воинской инициацией будущего великого витязя. Другие традиции инициацию героя специально отмечают именно в этом качестве. В русском героическом эпосе внимание аудитории может быть привлечено к факту воинской инициации самим названием былины («Первый бой Ильи Муромца»); во французских жестах инициация формализована ритуалом посвящения в рыцари, неизменно находящимся в центре внимания песней о юности героев (Гильома, его братьев, а затем и племянников). «Махабхарата» данное свершение эксплицитно в качестве ритуала перехода не отмечает, но мы увидим, что вскоре Арджуне вместе с братьями суждено завершить богатырское детство и начать взрослую скитальческую и полную опасностей жизнь, к тому же под новой личиной – очевидный переход в следующую возрастную страту в результате инициации. Одним из важнейших признаков подобного перехода является обретённая доступность брачной жизни, что в героической поэзии может проявляться в виде подвигов богатырского сватовства героя или его преувеличенного эротизма. Нам предстоит убедиться, что для Арджуны сказание не поскупилось на оба варианта.
Часть II
Первый ход сказания. Завоевание невесты и царства
В этом разделе мы рассмотрим важные для наших разысканий изменения в жизни Пандавов. Интригами Кауравов братья лишатся своего статуса, едва избегнут гибели и примут новое обличье – совокупность событий, укладывающихся в рамки инициации. Затем, в основном благодаря подвигам Арджуны, получат жену, вернут себе прежний облик и обретут царство. Все три «обретения» представляют клишированный комплекс сцепленных эпических мотивов, умело координированы сказанием на уровне событийной канвы и в данном случае представляют результат перехода дитя – Первое странствие → юноша.
8. Первое странствие
«А сыновья – все пятеро —
…Друг друга стали побуждать
скорее в путь пуститься»
«Дигенис Акрит» I
Важнейшим этапом становления героя является его первое странствие, то есть выход за пределы своего мира. Содержание этого мотива представляет собой рассказ о том, что стало поводом для отправления героя в поход. Поход героя, в свою очередь, предоставляет сказанию почти безграничные возможности умножения его подвигов; мы убедимся в этом на примере Пандавов.
Странствие Пандавов и сопутствующие приключения и свершения составляют первый ход сказания, а его затравкой послужили важные события в царском семействе: подданные хотят провозгласить царём мудрого старшего Пандаву Чтобы избавиться от конкурента, Дхритараштра по наущению Дурьйодханы отправляет Пандавов и Кунти в увеселительную поездку (в действительности – в ссылку) в дальний город Варанавату, где для них уже построен готовый к поджогу смоляной дом. Мудрость и бдительность Юдхиштхиры и забота Видуры помогают Пандавам спастись бегством (спалив в смоляном доме исполнителя злодейского плана Кауравов Пурочану), после чего им приходится скитаться в обличье нищих брахманов по лесам и весям. Сделаем по необходимости краткое отступление. Тайно спасшиеся из спалённого дома Пандавы мертвы для всего мира, да к тому же сменили обличье; очевиден инициационный мотив: «…Горожане уведомили Дхритараштру о том, что Пандавы, а также и советник Пурочана сгорели в огне» (Мбх I, 137, 9). На сюжетном уровне мотив дома-западни связан с торжеством героев и наказанием злодеев. В японском сказании данный мотив также сопровождается роковым исходом для злоумышленника: старейшина Э-укаси, замыслив против государя, «для отвода глаз возвёл временный дворец, а в нём подстроил капкан». План был раскрыт, и посланник государя самого злодея, «меч на него направив», силой загнал во дворец, «так что он сам вступил в капкан, капкан захлопнулся, и он умер» («Нихон сёки», т. 1, 111,3. СПб. 1997).
В случае Пандавов благодаря спасению из западни реализуется мотив отбытия юного героя из отчего дома/ первого странствия. Герой может отправляться в подобную экспедицию в одиночку (исландец Греттир одноимённой саги), с единственным братом (армянские герои Санасар и Багдасар – «Давид Сасунский», Рама и Лакшмана «Рамаяны») или несколькими братьями (четверо отпрысков графа Эмери Нарбоннского едут ко двору императора Карла – «Отрочество Гильома»). Первое странствие юного героя может нести более или менее выраженные черты изгнания. Например, сводные братья-богатыри якутского олонхо «Элик Боотур и Ньыгыл Боотур» еще в раннем детстве из-за богатырских игр, производящих настоящие разрушения, были изгнаны из дома собственными матерями: «..Вытолкали их обоих кочергой» (цит. по Л. Н. Семенова. «Эпический мир олонхо». С. 109. СПб. 2006). Можно видеть, что мотив изгнания для Пандавов несколько смягчен (их сопровождает мать) и завуалирован (уход из столицы вызван интригами кузенов и дяди, но обставлен как увеселительная экскурсия). Мотив ухода из родительского дома может сочетаться с другими мотивами взросления; в упомянутом олонхо братья, покидая дом, получают взрослые имена, а затем добывают богатырских коней, что и является их первым подвигом. Странствие героя может быть самостоятельным звеном сюжета, на который легко и естественно нанизываются прочие мотивы; сказание щедро использует эту возможность как двигатель биографии Пандавов.
Как было кратко упомянуто во Введении, вместо Пандавов и Кунти в смоляном доме весьма удачно сгорела мать-нищенка с пятью сыновьями – очевидная заместительная жертва. Подобный мотив едва-не-гибели представляет один из вариантов маркировки важнейшего элемента отмеченной выше инициации, а именно смерти и возрождения в новом качестве; кроме того, важным обстоятельством является функционирование возрождённых героев в новом локусе – в лесу, то есть за пределами их мира. Скоро мы узнаем и о других событиях, указывающих на инициацию как переход юных героев в новую категорию. В данном случае важно, что для Арджуны это не единственный ритуал перехода, их в жизни героя будет необычно много.
В начале первого хода сказания Арджуна на время отступает в тень двух старших братьев. Лидером группы изгнанников неизменно выступает Юдхиштхира (пока не единолично, но совместно с Кунти), защитником и спасителем от всевозможных лесных опасностей – могучий и неукротимый Бхимасена. Отметим, что и в ипостаси главного героя (тем паче героя-любовника) Арджуна себя до поры не проявляет, а ведь эта ниша традиционно и прочно связана со званием первого витязя (Геракл греческих сказаний, Ланселот Артуровского цикла, Кухулин ирландских саг). Дело в том, что на данном этапе первый витязь Пандавов это, несомненно, Бхимасена. Вот характерный эпизод лесных приключений героев. Во время привала Пандавов в лесу ракшаси Хидимби увидела их и «непобедимого Бхимасену… И лишь только ракшаси увидела его, высокого как ствол дерева шала, она влюбилась в Бхимасену, по своей красоте не имеющего равных на земле» (Мбх I, 139,13). Вслед за ракшаси, принявшей облик прекрасной женщины, на сцене появляется её брат-людоед: он желает расправиться с предательницей-сестрой, а заодно поужинать Пандавами. Бхимасена выступает в роли благородного героя, защищая прекрасную даму (созданную для данной сцены буквально из подручных средств – это лесной оборотень) и спасая от чудовища братьев и мать. Бхимасена, как заправский витязь, не спешит с поединком, пускается в обстоятельное самовосхваление (напоминающее акт воинской магии, но сюжетно выступающее зачином типичной фольклорной перебранки), дожидается ответа противника, и только потом вступает в схватку. Противники успешно обходятся вырванными с корнем деревьями либо кулаками, что в очередной, но далеко не последний раз подчёркивает былинно-сказочный характер подвигов Бхимасены. Нахождение вне человеческой цивилизации и встреча с чудовищами дополнительно маркируют первое странствие юных героев как уход из своего мира: лес и его сверхъестественные насельники – общефольклорное клише пограничья мира смертных с потусторонним. Дополнительным признаком пограничного локуса является появление красавицы-оборотня, обманно принявшей облик земной девы и в частном случае (но не обязательно) пытающейся соблазнить героя.
Из всех братьев только Арджуна проявляет хоть какую-то активность: «Я готов помочь (тебе), о Партха! Я вступлю в бой с ракшасом, а Накула и Сахадева пусть охраняют мать» (Мбх I, 140, 19). Итак, главный герой и защитник – Бхимасена. Возможна помощь в схватке только от Арджуны, но Бхимасена, подтверждая реноме задиристого и самоуверенного богатыря, от помощи решительно отказывается (ср. с заглавным героем «Песни о Роланде» в Ронсевальском ущелье; с бургундскими королями «Песни о Нибелунгах», отправляющимися в царство гуннов; с самим Арджуной, отвергнувшим помощь царя Рукмина перед битвой на Курукшетре). И если младшим Пандавам может быть предложена роль охраны при матери, то ни о каком участии Юдхиштхиры в схватке речи вообще не идёт: старший Пандава – будущий царь – это мудрец и наставник братьев par excellence. Интересно, что Арджуне всё же не дают покоя лавры героя, и он вновь предлагает Бхимасене помошь, на этот раз почти назойливо: «Если ты считаешь, что тебе будет трудно (справиться) с этим ракшасом в борьбе, то я тебе помогу, – его следует убить немедленно. Не то я сам убью его, о Врикодара! Ты устал…» (Мбх I, 140, 26–27). Впрочем, Бхимасена обошёлся без помощи младшего брата. Через некоторое время он совершает ещё один подвиг фольклорного змееборца, на этот раз избавив от очередного ракшаса-людоеда целый город; Арджуна в этом приключении не участвовал даже в качестве зрителя, занятый сбором милостыни (не будем забывать, что Пандавы скрываются под личиной нищих брахманов).
В какой-то момент создаётся впечатление, что положение Арджуны как потенциального главного воителя и героя сказания затмевается его «растворением» в общей группе героев-Пандавов. Во-первых, как мы видели, несмотря на особое расположение Дроны и возлагаемые наставником на любимца надежды, роль Арджуны в набеге на Панчалу не акцентирована. Далее, в лесных странствиях роль лидера/ наставника делят Юдхиштхира и Кунти, а общим спасителем и благородным защитником группы героев и прочих страждущих выступает Бхимасена. Более того, первым жену себе также добывает Бхимасена, причём защиту влюблённой красавицы от её людоеда-брата можно зачислить по разряду богатырского сватовства. Бхимасена же первым из братьев обзаводится сыном-богатырём: Хидимби родила могучего и преданного Пандавам ракшаса Гхатоткачу, который вместе со своими «отцами» Пандавами будет сражаться и героически погибнет на Курукшетре.
В принадлежности нашего героя к группе братьев нет ничего уникального. В сказаниях нередко действуют подобные группы из двух, трёх, пяти, семи (в случае Гильома Оранжского) или даже двенадцати братьев (сыновья Иакова Ветхого Завета). Но, за редкими исключениями двух равных по достоинствам близнецов (Санасар/Багдасар, Кастор/ Полидевк, хотя в последнем случае у братьев всё же разная военная специализация), в группе братьев всегда выделяется лидер, являющийся по совместительству и самым искусным и доблестным воителем; эту нишу нередко занимает младший из братьев. Так, когда пятеро братьев-ромеев хотят освободить захваченную арабским эмиром сестру, поединщиком с могучим похитителем выступает младший из пяти: «На Константина жребий пал, на младшего из братьев…» («Дигенис Акрит», I, 131. М. 1960). А победитель Голиафа Давид – младший из восьми сыновей Иессея (1 Цар 16:1); лидерские качества Давида выделяют его не только среди братьев, но среди всех двенадцати колен Израиля: из пастуха «немногих овец» Давид становится царём еврейского народа. В случае Пандавов указанные ниши разделены: лидером среди братьев, как мы убедились, выступает старший и, по общему мнению, мудрейший, а главным воителем – до поры – второй брат, самый могучий.
Когда Пандавы впервые услышали от непоименованного брахмана о сверхъестественном рождении прекрасной царевны панчалов Драупади, они «были поражены, словно дротиком» и «пришли в смущение» (Мбх I, 156, 7). Примечателен механизм принятия решения семейной группой. Кунти, которая пока сохраняет функции водительницы юных витязей (именно она принимала решение о браке Бхимасены с Хидимби и даже составила для молодых нечто вроде брачного контракта), обсуждает план визита Панчалы с Юдхиштхирой, и получает примечательный ответ: ««Дело, которое задумано тобою, будет для нас высочайшим благом. Но я не знаю, пойдут или нет мои младшие братья». Тогда Кунти сообщила Бхимасене, Арджуне и обоим близнецам о (своём решении) отправиться в путь. И те сказали ей в ответ: «Хорошо!»» (Мбх I, 156, 9-10) (курсив наш – А. И.). Эта сцена позволяет сделать несколько важных наблюдений. Настоящим лидером богатырей-братьев, способных не только жениться, но и сражаться с лесными чудовищами, пока остаётся их мать, нежная красавица Кунти (именно так её внешность описывает восхищённая Хидимби); совещательный голос имеет мудрый Юдхиштхира. Четверо младших Пандавов безропотно подчиняются решениям дуумвирата, и в этих случаях сказание не выделяет среди них ни силача Бхимасены, ни многообещающего витязя Арджуны. Правда, Бхимасена уже выделился из слитной группы братьев своими лесными подвигами. Очень скоро проявит себя и Арджуна. Но пока мы видим, что сказание, отметив было ранние признаки богатырства Бхимасены и доблести Арджуны (в полном соответствии с канонами фольклора), затем в противоречие этим канонам «придерживает» развитие образов и карьеры героев, тогда как в типичном случае они без пауз идут по восходящей.
На пути к столице Панчалы Пандавов подстерегает новое приключение, и на этот раз возможность проявить себя получает Арджуна. Пандавы потревожили царя полубогов гандхарвов Ангараварну, забавлявшегося со своими жёнами «в усладительных водах Гаити». Перебранка надменного Ангараварны с горячим Арджуной перерастает в стычку. Отметим интересную деталь. Отважный и задиристый герой ввязывается в схватку с вооружённым противником, хотя сам пока безоружен; «…Ангарапарна разгневался и, натянув лук, пустил стрелы, сверкающие как змеи. А сын Панду Дхананджая, проворно размахивая факелом и действуя превосходным щитом, отразил все эти стрелы» (Мбх I, 158, 22–23) (курсив наш – А. И.). Сравним с поведением доблестного рыцаря Артуровского цикла, стерпевшего унизительное оскорбление, так как у него в руках был «всего лишь» меч, а противник был в доспехах, со щитом и копьём:
«В безумстве доблести не будет,
Никто Эрека не осудит
За отступленье»
(Кретьен де Труа. «Эрек и Энида» 231–233. М. 1980).
Ловко отразив стрелы гандхарвы подручными средствами, Арджуна объявляет, что теперь будет сражаться с «превосходящим людей противником» божественным оружием, полученным от наставника – очередной намёк на особые сверхчеловеческие способности героя, теперь уже готового применить их в деле. В соответствии с заявлением герой сжёг колесницу Ангараварны и «могучего гадхарву, лишившегося колесницы и обезоруженного, оглушённого оружием и с лицом, опущенным вниз….схватил за волосы… и приволок его, потерявшего сознание… к своим братьям» (Мбх I, 158, 28–30).
Разберёмся, что говорит этот поединок об эволюции Арджуны. Прежде всего, безмерно отважный герой готов защищать свою честь воина (гандхарва в унизительный терминах потребовал Пандавам убираться) против вооружённого противника даже почти голыми руками. Далее, символично, что первый «взрослый» триумф героя в поединке происходит с применением и, очевидно, благодаря небесному оружию и потустороннему знанию. Другой важной особенностью поединка с гандхарвой является то, что он пока ещё сопровождается непосредственным вмешательством старшего Пандавы: жена поверженного гандхарвы взывает к милосердию, но адресуется не к юному триумфатору, а к Юдхиштхире, титулуя его махараджей. Обращение Юдхиштхиры к Арджуне не нейтрально, но несёт оттенок укора мудрого наставника ученику: «Кто подобный тебе убьёт врага, побеждённого в бою, лишённого славы и силы, нашедшего защитника в жене?» (Мбх I, 158, 33). Арджуна с готовностью демонстрирует пиетет и, обращаясь к побеждённому гандхарве, ссылается на источник принятого решения: «Дарит тебе сегодня свободу от опасности царь Кауравов Юдхиштхира» (Мбх I, 158, 34). Кроме того, этот эпизод знаменует распределение ролей, которые отныне сохранятся до конца земного пути Юдхиштхиры и Арджуны – царя и его преданного (почти всегда) первого витязя. Позже мы увидим, что, верно служа царю, в схватках взрослеющий герой всё больше будет действовать по собственному усмотрению.
Далее, здесь впервые даёт себя знать двойственная природа героя, а именно его принадлежность, наряду с земным, и потустороннему локусу; в соответствии с этой двойственностью деяния героя ещё не раз будут представлены как в эпическом, так и в мифологическом «слоях» повествования. В данном эпизоде мифологический аспект функционирования героя не просто проявляется, но усиливается. Дело в том, что помимо сражения с «превосходящим людей противником» и применения божественного оружия, Арджуна заключает союз с побеждённым полубогом Ангараварной, получает от него потустороннее знание в ходе обстоятельного наставления, и в придачу – сверхъестественный дар: способностъ прозревать происходящее «в трёх мирах», то есть в мире смертных, на небесах и в преисподней. Отметим, что подобный дар герою не является уникальной особенностью индийского эпоса. Сходный дар получает Диомед от Афины, и для наших рассуждений важно, что в этом случае богиня объясняет его предназначение:
«Мрак у тебя я от глаз отвела, окружавший их прежде;
Нынче легко ты узнаешь и бога, и смертного мужа,
Если какой-нибудь бог пред тобой, искушая, предстанет…»
(«Илиада» V, 127–129. Л. 1990).
Можно полагать, что и для Арджуны дар божественного зрения предвещает выполнение особых подвигов, имеющих быть совершёнными в иномирном локусе.
Начислим
+8
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе