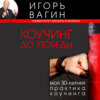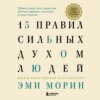Цитаты из аудиокниги «(Не)осознанное. как бессознательный ум управляет нашим поведением», страница 5

Один случай привлек внимание Мюнстерберга: к концу некой лекции по криминологии, прочитанной в Берлине, какой-то студент вскочил на ноги и шумно заспорил с маститым профессором – Францем фон Листом, двоюродным братом композитора Ференца Листа. Тут другой студент тоже сорвался с места и принялся защищать фон Листа. Разгорелась перепалка. Первый студент выхватил пистолет. Второй налетел на первого. В потасовку включился сам фон Лист. В разгар спора жахнул выстрел. В аудитории начался переполох. Наконец фон Лист призвал всех к порядку и объявил, что это все розыгрыш. Двое поссорившихся студентов и студентами-то не были – профессор пригласил актеров сыграть заранее подготовленный сценарий. Перебранка оказалась частью большого эксперимента. Какова была его цель? Проверить наблюдательность и память всех присутствовавших. Что может оживить лекцию по психологии лучше холостого выстрела?
После инициированного происшествия фон Лист разделил аудиторию на группы. Одну попросил немедленно написать отчет о событии – то, что участники группы увидели; вторую перекрестно допросил лично; остальным предложил составить отчет чуть позже. За ошибки он считал упущения, искажения и добавления, и их оказалось от 26 до 80 % всех перечисленных фактов. Актерам приписывали жесты, которых те не производили, и наоборот – некоторые важные действия были пропущены. Разные слова были вложены в уста спорящих – даже тех, кто не произнес вообще ни слова.

Обычно, оказавшись в ситуации, когда необходимо высказать критику в лицо, люди мнутся или обкладывают свое подлинное мнение ватой.

Еще одна особенность различения «своей группы» и «они-группы»: мы склонны думать о представителях «своей группы» как более разношерстных и сложно устроенных, нежели члены «они-группы». В исследовании по четырем профессиям, о котором шла речь ранее, исследователи попросили всех участников оценить, насколько различаются представители каждой из четырех профессий по творческому потенциалу, гибкости мышления и нескольким другим качествам. Все участники оценили профессиональные группы, отличные от их собственной, как гораздо более однородные. Другие эксперименты привели к такому же заключению в отношении групп, отличающихся по возрасту, национальности, гендеру, расовому признаку и даже по принадлежности к выпускникам того или иного колледжа или женскому университетскому обществу. Именно поэтому, как подметил один исследователь, газеты, издаваемые преимущественно верхушкой белых, публикуют заголовки типа «Черные сильно расходятся во мнениях о ситуации на Ближнем Востоке», будто это невидаль и новость, что не все афроамериканцы думают одинаково, однако никто не видал заголовков вроде «Белые сильно расходятся во мнениях о реформе рынка ценных бумаг».Казалось бы, это так естественно — воспринимать «свою группу» как более разнообразную, потому что часто мы лучше знакомы с участниками «своих групп» лично. Я, например, знаю уйму физиков-теоретиков лично, и на мой взгляд они довольно пестрая компания. Некоторые любят фортепианную музыку, другие предпочитают скрипку. Кто-то читает Набокова, кто-то — Ницше. Ну ладно, ладно, может, не так уж они и отличны. Но тут я задумываюсь об инвестиционных банкирах. Я мало с кем из них знаком, но мне они кажутся еще более похожими, чем физики-теоретики: по-моему, они все читают «Уолл-Стрит Джорнэл», водят дорогие автомобили и вообще не слушают музыку, а только смотрят финансовые новости по телевизору (а если новости плохие — наливают себе вина по $ 500 за бутылку). Но фокус же вот в чем: наше восприятие «своей группы» как более разнородной не зависит от того, насколько близко мы знакомы с представителями «они-групп» — для формирования такого суждения достаточно лишь категоризации людей на своих и чужих. Совсем скоро мы разберем, как превалируют наши особые чувства к «своей группе» даже в тех случаях, когда в рамках эксперимента исследователи собирают не знакомых друг другу людей в случайные «свои» и «они-группы». Когда Марк Антоний обратился к народу после убийства Цезаря со словами, в Шекспировой версии событий: «Внемлите, друзья, собратья, римляне!», он на самом деле произнес: «Участники “своей группы”, участники “своей группы”, участники “своей группы”!» Мудро.

Тысячелетия тому назад, чтобы отведать суси, требовались навыки куда серьезнее, чем умение произнести вслух "передайте васаби".

...вражда скорее возникает между группами, чем между отдельными людьми.

И экспериментальные, и теоретические исследования выявили: люди готовы жертвовать серьезными финансовыми ресурсами ради принадлежности к «своей группе», которая им почему-либо притягательна. По этой причине, например, люди готовы платить большие деньги за членство в каком-нибудь эксклюзивном загородном клубе — и даже не пользоваться его услугами. <...> Поэтому «Эппл» тратит сотни миллионов долларов на рекламные кампании, напирая на то, что ассоциирование со «своей группой» «Мака» — это принадлежность к сообществу умных, элегантных и хипповых, а ассоциирование со «своей группой» PC-пользователей — к неудачникам.

Думаете, все это напряжение сознательной мысли затребует с мозга настолько же больше энергии, насколько напряжение мышц при беге? Нет. И близко не так. Глубокая сосредоточенность увеличивает энергопотребление мозга всего на один процент.

У человеческих матерей, как и у ярок, окситоцин выделяется во время схваток и родов. Он также выделяется у женщин при стимуляции сосков и шейки матки во время сексуальной близости, и у мужчин и женщин — во время оргазма. И у мужчин, и у женщин окситоцин и вазопрессин, попавшие в мозг во время секса, обостряют влечение и любовь. Окситоцин выделяется даже от объятий, особенно у женщин, и именно поэтому и случайное прикосновение может вызывать переживание эмоциональной близости даже в отсутствие сознательной, интеллектуализированной связи между соприкасающимися.

Если бы люди, которым надо к копиру, осознанно оценивали эту псевдопричину с учетом собственных интересов, они бы не пропустили наших испытателей вперед — в той же пропорции, что и в эксперименте, где никакой причины не сообщалось вообще, т. е. в 40% случаев. Но если самого обозначения причины достаточно, чтобы задействовать алгоритм «соглашайся», независимо от того, что предложенная причина — ерунда, откажет всего лишь 6%, как и произошло в эксперименте, где предложенная причина — «Я спешу» — показалась людям уважительной. Так и вышло. «Простите, мне надо пять страниц отксерить. Можно я первый? Потому что мне надо сделать копии», — говорил экспериментатор другим претендентам на ксерокс, и всего 7% ему отказывали — практически как в случае с уважительной реальной причиной. Дурацкая причина убедила стольких же, скольких и серьезная.

Вес в обществе основан скорее на обожании, нежели на страхе, и аккумулируется общественными успехами, а не физическим устрашением. Маркеры общественного превосходства — ношение «ролексов» или вождение «ламборгини» — могут иметь не менее явный и открытый характер, чем битие себя кулаками в грудь, как это делают бабуины.