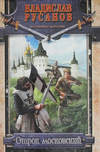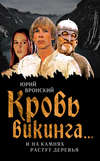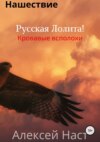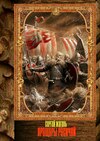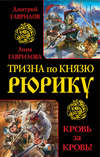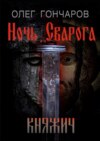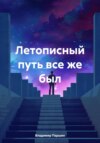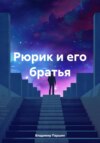Читать книгу: «Русь в IX и X веках», страница 13
Со 2-ой половины X века (после похода Святослава) городская планировка меняется – дома ориентированы углами по сторонам света. К жилищам примыкали небольшие дворики или хозяйственные сооружения без крыши, где размещались ямы-погреба и зернохранилища. За городищем находилась внутренняя гавань, соединённая протокой с морем.
Большое количество византийских вислых печатей в Таматархе принадлежит главным логофетам, осуществлявшим функции надзора за взиманием торговых пошлин на экспорт и импорт, а также за сбором налогов в период с VIII до середины Х века (когда город был взят Святославом). Непрерывное присутствие в этот период главных логофетов империи свидетельствует о том, что данный город контролировался Византией, а не каганатом.
Фанагория. Согласно Плетневой С.А., почти треть Фанагории размыта прибоями и остатки ее лежат на дне залива. Расцвет города начался во второй половине VIII-IX вв. На сохранившейся от размыва части берега слой Фанагории того времени – это первая терраса. Только местами средневековый слой прослеживался на склонах холмов второй террасы. Культурный слой средневековья мощностью около 2-х м. Лучше всего представлен средневековый участок города в центральной его части. На ней прослежен довольно длинный (20 м) отрезок улицы, ширина которой достигала 3м, и примыкающие к ней с севера, т. е. со стороны моря, три переулка. К морю же сворачивала и мостовая самой улицы. Как улица, так и переулки замощены черепками посуды (в основном обломками амфор) и костями животных, причем на улице отчетливо выделились четыре слоя мостовых, что свидетельствует о длительности и активном функционировании этой, видимо, одной из магистральных дорог, проходивших через город. Вдоль переулков и улицы сохранились остатки каменных цоколей. Большинство их сложено в елочку и панцирной техникой. Вокруг них и внутри помещений прослежены заплывы глины, видимо от саманных или даже глинобитных стен. Домики, когда удавалось проследить их планировку, двухкомнатные, к ним примыкали дворики, огороженные крепкими стенами, сложенными, вероятно, полностью из камня. Внутри двориков вкопаны в землю почти по венчик громадные пифосы или же выкопаны большие хозяйственные ямы, обмазанные глиной и нередко слегка обожженные. Керамический комплекс в целом идентичен керамике Таматархи, что позволяет уверенно говорить о датировке этого слоя. Однако некоторая разница все-таки есть, а именно – в слое Фанагории этого времени практически отсутствуют обломки красноглиняных кувшинов тмутараканского типа. Подводными исследованиями, проведенными в 1958-1959 гг., было установлено, что под водой находятся 15 -17 га площади города Фанагория. Культурный слой на морском дне от 0,5 до 1,8 м. На нижнем плато городища, восточнее Центрального раскопа М.М. Кобылиной, был разбит новый раскоп – Нижний город – площадью 2000 кв. м. На всей площади Нижнего города исследовались слои средневекового времени (IX – 1-ая половина X в.). В результате раскопок здесь были выявлены кварталы городской застройки позднего периода существования Фанагории, относящегося ко 2-ой половине IX – началу X в. Исследовались и грунтовые могильники Фанагории – Восточный (1866, 1869-1871 гг.), Юго-Восточный (1865), Южный (1878) и Западный (1872). На Юго-Восточном некрополе – две каменные гробницы тмутараканского периода, датируемые по двум серебряным византийским монетам концом X – началом XI вв. [80].
Согласно [1], Фанагория представляла один из самых важных перекрестков южных хазарских торговых путей. Через нее (и Таматарху) протекал поток товаров и монет. Существование развитой транзитной торговли в VIII–Х вв. почти не сопровождалось зарытием кладов на собственно хазарской территории. Отсюда единичные монетные находки приобретают большое значение. Группа из почти двух десятков раннесредневековых монет из материалов раскопок на городище Фанагории и памятниках салтовского круга в ее ближайших окрестностях (поселения Виноградный Северо-Восточный 2, Виноградный 7 и Гора Чиркова 1), расположенных на главных дорогах Тамани, проливает свет на политические и торговые связи между Северным Причерноморьем, Хазарским каганатом, Византией, Арабским халифатом, Древней Русью. Часть найденных монет принадлежит тому времени, когда Азиатский Боспор был одной из внутренних областей Византийской империи, а затем провинцией Хазарии. Другая часть происходит из погребений в округе Фанагории и отражает денежное обращение Тмутараканского княжества в Х–ХI вв., а также маркирует путь, по которому византийские, арабские и древнерусские монеты распространялись на Тамани.
Существует точка зрения, что в начале Х в. Фанагория была заброшена как вследствие природных факторов, так и под угрозой натиска печенегов и больше не возрождалась. Однако археологические исследования на нижнем плато городища (раскоп Нижний город) в 2015–2017 гг. позволили получить новые данные о об этом периоде Фанагории. На раскопе зафиксированы остатки домов, построенных после катастрофы. Они свидетельствуют о том, что жизнь продолжалась и в более позднее время. Другими словами, Фанагория не была заброшена окончательно и существовала уже в качестве не крупного города, а небольшого поселения. Нумизматические материалы из также свидетельствуют о том, что Фанагория, сократившаяся в Х–ХI в. до скромных размеров, оставалась пунктом транзитной торговли между степной Хазарией и ее южной периферией – областью салтово-маяцкой культуры (СМК), вплоть до времени правления Никифора III Вотаниата (1078–1081 гг.), монеты которого найдены на городище. Находки же херсоно-византийской литой меди Василия II и Константина VIII (976–1025 гг.), монет Михаила VII Дуки и Никифора III Вотаниата на городище являются свидетельством бытования Фанагории в Х–ХI вв. На раскопе Нижний город найдены фоллис Константа II (641–668 гг.), литая херсоно-византийская монета Василия II и Константина VIII (976–1025 гг.), три византийских солида и аббасидский дирхем. Два солида Тиберия III Апсимара (698–705 гг.) найдены при раскопках улицы. Третий солид – Константина V Копронима и Льва IV Хазара (741–775 гг.). Также внутри дома на уровне пола найден дирхем халифа ал-Махди. Совместная находка византийских солидов и аббасидского дирхема в Фанагории конкретизирует представление об обращении византийских и арабских монет в Хазарии в VIII в. Найденные монеты фиксируют короткий момент (в последней четверти данного столетия) синхронного хождения на денежном рынке Хазарии византийского золота и куфического серебра. Дирхем ал-Мамуна, Мадинат Самарканд, 198 г. х. (813-814 г.) случайно найден на городище в 1990 г.
Кепы. В переводе с древнегреческого название означает Сады. Находятся в 4-5 км от Фанагории. По предварительным оценкам, его территория занимала порядка 30 га. Согласно Плетневой С.А., это небольшое приморское поселение, возникшее в конце VIII в. Культурный слой там, хорошо документированный и выявленный по керамическому комплексу, относится к концу VIII-IX вв. Констатируется только факт существования поселения в хазарское время. На городище Кепы найдена серо-глиняная корчага, украшенная горизонтальными бороздками и сетчатым врезным орнаментом. Согласно [174], ещё в 1963 году, профессор Н.И. Сокольский высказал предположение о том, что значительная часть этого эллинистического города, находится в настоящее время на дне Таманского залива. По подсчетам, проведенным Н.И Сокольским, общая площадь городской застройки Кеп, составляла не менее 20 – 25 га, но в результате повышения уровня воды в Черном море, часть древнего города в пределах 8-9 га оказалась в настоящее время на дне Таманского залива. Уничтоженный водой мыс создавал в южной части подобие бухты, где вероятно была стоянка кораблей. В северо-западной части прилегающей к берегу отмели, всего в 7 м от уреза воды удалось выявить каменную кладку овальной формы, сложенную преимущественно из необработанных камней. Это крупное по своим размерам сооружение, имело диаметр около 3,5 м и могло представлять собой остатки некогда существовавшего колодца, входившего в древности в общегородскую систему водоснабжения. По мере расширения площади подводного поиска, в одном из мест затопленной части городища, подводные археологи смогли найти в донных отложениях на дне, комплекс раннесредневековых амфор (от второй четверти VI в. до середины IХ в.). Данный подводный комплекс среди всех ранее сделанных находок в Кепах, приобретает особую значимость, поскольку является первым подводным комплексом средневековых амфор в пределах всего Таманского полуострова. До этого единичные находки средневековых амфор и их фрагментов, в ходе подводных работ, имели место у мысов Тузла, Панагия, Железный Рог, в районе банки Марии Магдалины. Найденный комплекс средневековых амфор на затопленной части городища Кепы, представлен тремя типами амфор, выпускавшихся в раннем средневековье. Изготовленная из светлой глины, с примесью шамота и пироксена, полностью сохранившаяся амфора, относимая к типу амфор с наклонно срезанным венчиком, имеет достаточно много аналогий в общей массе керамического материала, найденного на городищах Таманского полуострова (Таскаев В.Н. 1993, Гавритухин И.О., Паромов Я.М., 2003; Коровина А.К., 2002; Чхаидзе В.Н. 2005). Амфора с фрагментированным туловом была отнесена специалистами к типу амфор с расширяющимся горлом. Она, как и первая была изготовлена из белой глины, но уже с добавлением шамота и извести. На ее поверхности сохранились следы зеленовато-белого ангоба, а на внутренней части горла остатки смолы. Семь найденных горловин амфор, относятся к одному типу амфор с плоско срезанным венчиком (Якобсон А.Л., 1979). Глина, из которой они были изготовлены, колеблется от светло-серой до оранжевой. Типы амфор с плоско срезанным венчиком уже находили в Кепах в 1950 году, в 200м от городища, в суглинистом грунте, причем все амфоры более чем на половину были заполнены нефтью (Анфимов Н.В., 1953). Наличие керамического комплекса датируется 2-ой половиной VI – 1-ой половиной XI вв. Поселение, существовавшее в этот период на месте античных Кеп, в силу своего расположения, могло являться одним из перевалочных мест, куда доставлялись перевозимые по морю товары, складируемые сначала в специально вырытых земляных ямах, а за тем, по мере надобности, переправляемые вглубь материка.
Гора Чиркова-1, Виноградный 7. Я.М. Паромов [108] отметил, что поселение Гора Чиркова-1 расположено в юго-западной части Таманского полуострова в 3,6 км к северо-востоку от п. Виноградный (северный берег Цокурского лимана) и 3,2 км к югу от п. Приморский (южный берег Таманского залива). Были выделены два культурных слоя. Нижний слой мощностью 0,2-0,5 м на основании немногочисленных находок керамики отнесен к периоду VI-III вв. до н.э. В верхний, более мощный слой, датированный VIII-IX вв., содержал причерноморские бороздчатые амфоры и посуду СМК. Был открыт еще один участок поселения VIII-IX вв., в пределах которого оказались остатки каменных фундаментов трёх построек, семь хозяйственных ям и часть ровика, который мог окружать жилую часть. Этим же временем датировалась и большая часть обнаруженной керамики, включая три целые причерноморские амфоры. Были выявлены каменные фундаменты еще трех построек и три хозяйственных ямы. Одновременно к северо-западу от поселения им исследовались шесть естественных возвышений, где было обнаружено 89 погребений и 25 других объектов, большая часть которых относилась ко времени функционирования раннесредневекового поселения. Были открыты еще 14 погребений и пять других объектов. Более половины из них датировались VIII-Х вв. Мощность культурного слоя в исследуемом секторе памятника варьировалась в пределах от 1 до 2 м. Могилы датированы VIII-X вв. по фрагментам горшка СМК, обнаруженного в одной из них. В слое и ямах были обнаружены фрагменты (и целые экземпляры) круглодонных причерноморских амфор с бороздчатым рифлением второй половины VIII – X вв., горшков СМК, высоко-горлых кувшинов с плоскими ручками, вьючных фляг, ойнохой, других лощеных сосудов СМК VIII-X вв. В ямах, кроме перечисленного материала, находились тарные горшки СМК, лощеные двуручные корчаги, кружки, кувшины, миски, крышки сосудов, круглые жернова из известняка, осколки стеклянных рюмок и бокалов, различные хозяйственно-бытовые изделия из кости, железа и меди. Керамический комплекс типичен для древностей VIII-X вв. В верхней части заполнения одной из могильных ям был найден византийский золотой солид 626-629 гг., относящийся ко времени правления императора Ираклия (610-641 гг.). Погребение, в котором была найдена монета, может быть датировано концом VII – началом VIII в. н.э. В северо-западной части раскопа I был открыт грунтовый могильник периода VIII-X вв. Поздний хронологический горизонт памятника по материалам из раскопок соотносится с древностями салтово-маяцкого времени. По основным морфологическим показателям, включая большое разнообразие форм венчиков, горшки с поселения Гора Чиркова-1 практически ничем не отличаются от горшков, обнаруженных на поселениях СМК и городищах Юго-Восточного Крыма, Керченского и Таманского полуострова, Приазовья, Нижнего и Среднего Подонья и Правобережья Кубани. Помимо обычных кухонных горшков, в небольшом количестве были найдены толстостенные пифосо-образные горшки с массивным отогнутым наружу округлым венчиком, украшенным пальцевыми защипами или деформированным в виде перевитого жгута. Использовались они для приготовления пищи и хранения жидких и сыпучих продуктов. Как и кухонные горшки, они встречаются в пределах всего ареала СМК, в том числе на городищах, поселениях и в гончарно-ремесленных центрах бассейна Северского Донца и Дона, Северного Приазовья и Крыма. Обнаружены они и на поселениях VIII-X вв. Таманского полуострова, Правобережной Кубани, степного Предкавказья и Северного Кавказа, причем И. И. Ляпушкин выделил их в один из основных типов керамики, характерных для хазарского периода Таманского городища. Остальные гораздо менее многочисленные находки салтово-маяцкой керамики VIII-X вв. представлены фрагментами серо-глиняных корчаг, кувшинов и кубышек с лощеной поверхностью. Подобные сосуды (в том числе и без лощения) обнаружены на поселениях и городищах Керченского полуострова и Юго-Восточного Крыма, но чаще всего их находки фиксируются на салтово-маяцких памятниках Подонья и особенно бассейна Северского Донца. Встречаются они и на Таманском полуострове.
Второй памятник на поселении Гора Чиркова-1 – это Виноградный-7. Поселение и некрополь Виноградный-7 расположены в 4,8 км к северо-западу от ст. Вышестеблиевская, в 3,8 км к северо-востоку от пос. Виноградный и в 3,5 км к югу от пос. Приморский. Данное поселение находилось у древней дороги, которая соединяла Фанагорию с поселением Виноградный-1 и северо-западной оконечностью Кизилташского лимана – крупнейшего лимана дельты Кубани, имеющего выход в Черное море. Эта дорога была одной из трех основных дорог Таманского полуострова и проходила от Голубицкого острова через Фанагорию до мыса Панагия. В районе поселения Виноградный-7 данная дорога пересекается еще одной, которая шла с востока от лимана Соленый на запад в сторону мыса Панагия и поселения Тамань 1 Видимо, эта дорога была основной трассой передвижения в сторону переправы. Она маркируется цепочкой курганов и поселений. Во время раскопок 2016 г. был открыт перекресток этих дорог. Вероятно, существовали еще ответвления в восточном и в юго-восточном направлениях, в сторону ст. Вышестеблиевская. Наиболее поздний массовый материал относится к Х–ХII вв. Подражания византийским монетам из некрополей поселений Виноградный-7 и Виноградный Северо-Восточный-2 не только позволяют говорить о хронологических рамках СМК, но и являются свидетельствами погребального обряда разных групп населения, находящего аналогии в хазарских и кочевнических погребениях в Крыму.
На поселении Артющенко-I (пос. Янтарь между мысом Железный Рог и соленым озером Бугаз) найдена оранжево-глиняная корчага, украшенная вертикальными полосами лощения, горизонтальными бороздками и многорядной врезной волной (Виноградов, 2002, с. 80). Судя по раскопкам, на этом месте находилось салтово-маяцкое городище. Здесь откопали железоделательную мастерскую. На площади примерно в 100 кв. м было найдено огромное количество руды и несколько сот железных булочек – так называемых крицей, то есть сырье для ковки гвоздей и других железных изделий. Сама мастерская представляла собой вымощенную камнем площадку, оборудованную водостоками. Найдены фрагменты керамических лотков и даже углубления в земле, где укреплялись стойки навеса.
Балка Хреева-1. Поселение Балка Хреева расположено в 7,8 км к востоку от окраины станицы Тамань (территории винзавода), в 1,7 км к югу от берега Таманского залива. Территория поселения вытянута по оси ЮЗ-СВ, а его площадь составляет 19 га. Раскопки идут на северной части поселения Балка Хреева-1. На исследованной площади были найдены развалы двух высоко-горлых кувшинов с плоскими ручками второй половины IX – начала XII в.; 140 ям, датируемых X – XI вв. Раскопки поселения Балка Хреева-3 – к эпохе средневековья отнесены захоронения с бронзовой пряжкой, лощеными сосудами, ряд ям с фрагментами серо-глиняной со следами лощения посуды и амфор с перехватом. Материал датирован периодом от V – VI до IX – XI вв. н.э.
Древнейшие корабельные стоянки у мысов Тузла и Панагия. Исследования проводились с помощью подводной археологии и зафиксированы Институтом морской археологии США.
Мыс Тузла. Предположительно это Корокондама Страбона – песчаный остров площадью 3,5 кв. км (длина острова варьирует от 6,5 до 5 км, ширина – около 500 м) между Керченским и Таманским полуостровами. Он находится примерно в 8 км к западу от станицы Тамань (Темрюкский р-н). Ранее на месте современной Тузлы был достаточно обширный участок суши, являвшийся частью Таманского полуострова. Напротив современной Тузлы в древности было значительное сужение судоходной части Боспора Киммерийского (Керченского пролива) в направлении Крымского побережья. Южнее современной Тузлы в средневековье была большая корабельная стоянка, в пользу этого говорит то, что за последние годы на глубине 5-7 м была собрана самая большая в России коллекция якорей VI в. до н.э. – XI в. н.э. Существуют следы древней переправы между мысами Тузла и Ак-Бурун. Работы возле косы Тузла подтвердили гипотезу о том, что во все исторические периоды островок использовали для стоянки кораблей.
Мыс Панагия. Подводными пловцами осматривалось дно в центральной части рифа на удалении 1 км от вершины мыса. Там была открыта группа из пяти окаменелых железных якорей вилообразной формы IX – ХII вв. На дне якоря лежали рядом в 2-3м друг от друга на глубине 8 м. Комплекс состоял из одного большого и четырех малых якорей. Большой якорь весом около 80 кг имел длину веретена 1,75 м и размах рогов 1,24 м. Аквалангистами этой группы разведаны несколько участков в западной части рифа общей площадью 0,15 га в пределах 2 км от берега. На них открыто 13 артефактов, относящихся к окаменелым фрагментам железных якорей. Деталям якорей сопутствовали 11 профилированных фрагментов транспортной тары – в основном горловин амфор. В них, по-видимому, перевозились смолы для ухода за рангоутом, такелажем и деревянными корпусами судов. Проведены археологические разведки в полосе основного рифа мыса Панагия на серии участков дна общей площадью около 1 га. В якорных находках преобладали окаменелые формы железных якорей греко-римского и византийского времени. Среди находок керамики отмечено увеличение её видового и хозяйственного разнообразия. К находкам средневекового времени относилось несколько железных якорей Т-образного и У-образного вида. Неподалёку от скалы зафиксированы следы аварий парусных судов и пароходов нового времени. Археологические материалы убедительно свидетельствуют о древнем мореплавании в акватории мыса Панагия. Рифовый пояс и прилегающие к ней территории дна с юга оказались насыщенными остатками древних якорей античного и средневекового времени. Повсеместно рядом с якорями и их деталями из различных материалов присутствовало некоторое число фрагментов транспортной или строительной керамики того же времени. Вывод – в полосе основного рифа мыса Панагия в античное и средневековое время существовала обширная якорная стоянка. Суда в основном малого водоизмещения бросали якоря по всему рифу, остановки больших и средних судов тяготели к его западной оконечности [175].
Приазовье. Северное побережье Азовского моря. Плетнева С.А. пишет, что в Приазовье (северный берег), начиная от устья речки Самбек до Кальмиуса, вдоль берега обнаружены остатки обширных поселений. Их размеры – до 1,5 км длиной и 200-300 м шириной. Большинство их было сильно задерновано, и потому подъемный материал на поверхности бедный и невыразительный. Однако в тех случаях, когда поверхность бывала распахана, находок керамики было вполне достаточно для того, чтобы уверенно датировать поселения в основном IX в. Всюду на этих поселениях преобладающим материалом являются обломки тарной посуды, преимущественно амфор (75%), а также лепных горшков и горшков, изготовленных на круге из глины с примесью морского песка (смешанного с мелкими ракушками) и орнаментированных сплошным линейным орнаментом. Иногда попадались обломки котлов с внутренними ушками, аналогичных горшкам, обнаруженным в слое Саркела. На поселении у с. Натальевка удалось заметить пятна развалов каменных построек, возможно каменных цоколей глинобитных или даже турлучных домиков. Расстояния от одного до другого развала от 50 до 170 м; это были, видимо, беспорядочно разбросанные по всей площади домики и окружающие их широкие дворы. Таков этот район Приазовья, исследование которого только начато. Западнее, вдоль берега Азовского моря, тянутся аналогичные большие поселения. Есть они и на берегах, впадающих в залив и в море речек и рек. Это подтверждается разведками по Миусу, где попадались сравнительно небольшие поселения. Исследования в этом районе еще впереди. В отличие от северного берега для южного берега Таганрогского залива и впадающих в него небольших рек (Ей, Куго-Еи, Сосыки) наиболее характерным типом памятников являлись т. н. обитаемые полосы. Керамика представлена в основном обломками амфор (70%) и лепных горшков (20%). Кухонных гончарных и столовых лощеных сосудов – очень мало. Основная масса амфорного материала датируется концом VIII-X вв., но попадаются среди них и более ранние. Можно заключить, что все амфоры привозные, очевидно из Тамани и Крыма, хотя какая-то часть могла попасть сюда и из более далеких византийских провинций. Южнее Таганрогского залива берег Азовского моря сильно заболочен. Ширина заболоченности очень значительна: от 15 до 50 км. Раскопки на памятниках Приазовского варианта продолжаются.
Прикубанье. Средняя Кубань – от Невинномыска до Усть-Лабинска. Основные притоки – левые с гор. Два основных археологических комплекса – Горькая Балка с синхронными поселениями средней Кубани (х. Вольный) и Старокорсуньский. Хутор Горькая Балка. Археологический комплекс на границе Кубанской области Ставропольского края. Датируется VIII-IX вв. Коллекции посуды (около 100 фрагментов) СМК выявлены и в Горькой Балке, и на хуторе Вольный, и в Кизиловой Балке, и у пос. Красная Звезда. Подчинение части верхнекубанского (алано-горско-тюркского) этно-компонента хазарам в первой половине VIII в. и привело к их исходу с территории гор и предгорий Верхней Кубани на степные просторы правобережья Средней Кубани. Становясь своего рода промежуточным звеном между соответствующими и синхронными памятниками Верхней и Средней Кубани. Горькобалковский археологический комплекс позволяет по правому берегу Кубани вычерчивать южную, юго-западную, и отчасти западную границу Хазарского каганата, значительно уточняя представление о пределах этого государственного образования [145]. В Горькой Балке найден арабский дирхем, датируемый багдадской чеканкой 775-776 г. По материалам могильников Горькой Балки [9] установлены три краниологических типа. Первый тип имеет долихокранную форму черепа, длинноголовый европеоидный, схож с аланами; Второй тип – брахикранный европеоидный с широким лицом, определяется как тип местного горского населения (кавкасионский тип). Третий тип диагностируется как монголоидный (в данном случае тюркский). Под тюрками в горькобалковской серии можно подразумевать, болгар, или же хазар. По материалам погребений VIII-X веков диагностируются и монголоидная примесь в некоторых популяциях.
Станица Старокорсунская (между Краснодаром и Усть-Лабинском на правом берегу Кубани). Находки датируются второй половиной VIII-IX вв. Обнаружено 64 погребения, разделенных на две хронологические группы VIII-IX вв. и XIII-XV вв. К ранней группе относятся 54 погребения и все захоронения лошадей (5). Ранняя группа характеризуется двумя типами погребальных сооружений: ямами и катакомбами. Всего обнаружено 13 катакомб. Из-за условий кубанского грунта могильные сооружения прослежены неполностью. В Дмитровском и Больше-Тарханском могильниках найдены серьги с трех-бусинной пирамидкой, датируемые с материалом второй половиной VIII и первой половиной IX вв. Овально-рамчатые пряжки с полукруглым щитком найдены в Пенджикенте, Больше-Тиганском могильнике и в Мыдлань-Шае. Пряжки с пятилепестковой пальметкой широко распространены на Дону в памятниках VIII-IX вв. Аналогии треугольным рогатым пряжкам имеются Салтовском, Верхне-Чирюртовском, Мартан-Чуйском и Гунийском могильниках VIII- IХ вв. Арбалетовидные фибулы найдены с материалом VIII- 1-ой половине IX вв. в Агач-Калинском могильнике. Боевые топорики С. А. Плетнева датирует 1-ой половиной IX в. Часто в могильниках VIII-IX вв. встречаются бронзовые бубенчики. Горшки имеют аналогии в Салтовском могильнике и в Болгарии. Кувшины с зооморфной В-образной ручкой происходят из памятников VIII-IX вв. на Дону и Северном Кавказе. Совокупность приведенных аналогий полностью подтверждает предложенную датировку. Могильник оставлен этнической группой, состоящей из двух племен. В ямах – болгары. Форма катакомб, погребальный обряд и большое количество инвентаря имеют много общего с катакомбами Дмитровского и Маяцкого могильников на Дону, в Балте, Гоусте и Мартан-Чу на Северном Кавказе, связанных с аланскими племенами. С аланами связывают аморфные ручки на кувшинах и бронзовые амулеты в виде всадника на лошади, обнаруженные в погребении, где форма погребального сооружения не прослежена. Южная и юго-восточная ориентировка, характерная для катакомб могильника, преобладает на большинстве не аланских памятников Центрального Кавказа. Для раннесредневековых могильников Средней Кубани такая ориентировка не свойственна. Для синхронных памятников региона наиболее распространенными погребальными сооружениями являются узкие ямы глубиной от 0,4 до 1,2 м. Поэтому катакомбные захоронения трудно связать с местными адыгскими племенами или болгарами. Погребения в катакомбах на могильнике близ ст. Старокорсункой по обряду захоронения и набору инвентаря можно считать аланскими. О пребывании аланов на этих памятниках свидетельствуют глиняные стаканообразные курильницы, характерные для аланских племен Центрального Кавказа. Для аланских племен был характерен обычай искусственной деформации черепов. На могильник у МТФ-3 встречены четыре черепа с искусственной деформацией. Все это позволяет говорить о присутствии аланов на Средней Кубани. Письменные источники сообщают, также о том, что на Кубани проживали болгарские племена. Эти сообщения подтверждаются археологическими материалами. На Кубани открыт ряд селищ, служивших зимниками кочевых болгар. На многих памятниках найдены фрагменты глиняных котлов с внутренними ушками. Такая посуда характерна для древнеболгарских племен. Видимо, правильнее будет говорить о том, что в среде болгарских племен в районе ст. Старокорсунской проживала локальная группа алан. Появление этой группы в указанном регионе пока трудно объяснимо. Возможно, что это часть алан, пришедших на Среднюю Кубань после походов арабов в первой половине VIII в. через Дарьяльский проход на Северный Кавказ.
«Любеч по новым данным».
И.В. Кондратьев, д.и.н., в работе (Любечский замок: в поисках символов и смыслов. 2021. 16 с.) приводит анализ всех работ Б.А. Рыбакова с названием Раскопки в Любече. Показано, что в статьях утверждается, что Замковая гора в Любече за 1957–1960 гг. была исследована полностью, хотя, как показали современные работы на замке, это не соответствовало действительности… Современная историческая наука накопила достаточный комплекс знаний по истории фортификации Любечского замка. С 2009 г. по настоящее время в Любече работает археологическая экспедиция под руководством Е.М. Веремейчик. Приоритетом работы экспедиции в 2010–2012 гг. стали работы в северной части Замковой горы, которая не была раскопана экспедицией Б.А. Рыбакова. Неисследованные участки найдены и в других местах, в том числе при въезде в замок и склонах. Любеч никогда не прекращал своей жизнедеятельности, но его центральная часть постоянно перестраивалась, что привело к значительным повреждениям, а иногда и к полному уничтожению древних культурных наслоений. Появление города современными исследователями относится к концу IХ – 1-ой четверти Х в. (Веремейчик О.М. Історична топографія Любеча… С. 116). Расцвет Любеча приходится на XII–XIII вв., именно к этому периоду относится основной культурный слой на Замковой горе. На Замковой горе было зафиксировано 11 построек – из них 9 датировались концом XІІ – 1-ой половиной XIII в., а две – XVIII в. Было выделено три периода фортификационного строительства: древнейший из них содержал керамический материал XII–XIII вв., второй – XVI – начала XVII в., третий – второй половины XVII – начала XVIII в. А вот наличие фортификационных сооружений X–XI вв. проследить оказалось проблематично. Сравнение фортификационных традиций с интерпретациями Б.А. Рыбакова позволяют утверждать, что «созданные реконструкции Любечского замка X–XІ вв. не соответствуют заявленному историческому периоду, а представляют собой трактовку сооружений XVI–XVII вв.» На несоответствия первым обратил внимание историк архитектуры В.В. Вечерский (Любецькие укреплення… С. 40). Нехарактерны для региона и шатровые церкви. Инвентарь Любеча 1606 г. свидетельствует об удивительной идентичности замков XII и XVII вв. По мнению автора, Б.А. Рыбаков выдал за замок Любечскую крепость, реконструированную в конце XVII в. (Вечерський В. Що знайшов академик Рибаков… С. 8; он же Любецькиеі укреплення… С. 38–40). Кроме этого, исследователи обращают внимание на несоответствие собранного вещевого материала предлагаемой датировке замка, что заставляет усомниться в предложенной интерпретации памятника (Даркевич В.П. Происхождение и развитие городов… С. 48). Наследие Б.А. Рыбакова неоднозначно оценивали и многие историки археологии, указывая на отсутствие строгой методики исследований и спекулятивность некоторых выводов (Клейн Л.С. История российской археологии… С. 171, 193–194; Формозов А.А. Русские археологи в период тоталитаризма: Историографические очерки. М., 2006. С. 93). Допустимо ли использовать созданный Б.А. Рыбаковым образ Любечского замка? Созданный образ, ранее искусственно привязанный к Х–ХII вв., в действительности соответствует тому периоду, когда город был значительным приграничным центром Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе