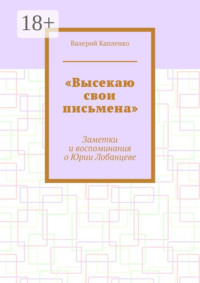Читать книгу: ««Высекаю свои письмена». Заметки и воспоминания о Юрии Лобанцеве», страница 3
Лобанцев и музыка
Развитие творчества Сальери, по Лобанцеву, движется от простодушного желания поделиться всяким «случайным звуком, раздавшимся в тиши», как чудом: «Пусть люди знают: дар свободы; – в них!» Это была и свобода от всякого смысла: «…Смыслов суета – / что до неё цветам, влюблённым, птицам…» И вот – неудача, разочарование: «Мне так с людьми хотелось поделиться,/ но оказалось – надо ублажать». И Сальери учится «на всякий смех щекотку подбирать, сводить печаль к проверенному звуку» – и добивается успеха. Но…
…Но вешний звон не шел из головы —
в лукавый труд душе не уместиться.
Новый рывок – в прозрение, к такой музыке, которая ужаснула Моцарта: тому ближе «яростные сны», чем «бесчувственная мысль». Далее Сальери уверится, что до «истинной свободы» дорастает лишь «творец, в борьбе сроднившийся с людьми», – но это уже в финале поэмы, похоронив Моцарта (больше некому было это сделать: «Поклонники к каминам разошлись…»).
Кстати, о финале. Первоначальный вариант (в сборнике «Дело» – том самом, из «кассеты», 1986 г.):
Он мифом жил…
Поверю в новый миф.
Пусть и его отвергнут через годы…
– и далее, о «творце, сроднившемся с людьми». И вариант более поздний (книга «Вещий камень», 1989 г.):
Он к счастью звал… Звучи, прекрасный миф,
что вечно юн! Но умудряют годы:
творец, в борьбе сроднившийся с людьми,
откроет радость истинной свободы!
Первый вариант диалектичнее, не так ли? Второй вариант ставит точку: Сальери выбрал позицию революционера и готов, говоря словами Маяковского, «каплей литься с массами».
Это, конечно, Сальери из поэмы, Сальери не исторический, а лобанцевский, персонаж-аргумент, помогающий доказывать авторскую идею. При этом перед нами всё же не учёный трактат, а художественное произведение: размышления персонажа, его судьба, задетая клеветой толпы, страстно переживаются и самим героем, и автором.
Конечно, созданию поэмы предшествовало изучение биографии Сальери-композитора, особенностей его творчества, вопроса о его «злодействе» (существуют публикации, в которых оно упорно доказывается) … И всё же – как много в этом персонаже навязанного ему автором!
Помню обрывок разговора между Юрием Лобанцевым и моим братом Георгием, преподававшим музыку в школе:
– А вообще зачем, по-вашему, существует музыка?
– А я не знаю, – честно и задумчиво отвечает Лобанцев. Вот тебе и раз! Так глубоко вникнуть в судьбу и мысли композиторов, чтобы суметь художественно их воплощать, – не понимая самого смысла их жизни? Да может ли такое быть?
Но давайте не забывать, что, во-первых, поэт всё-таки талант и способен интуицией постичь то, что ему не близко, даже вопреки рациональному. Во-вторых, Лобанцев и не погружался в подробности музыкального творчества – его волновали идеи, тенденции, те концепции жизни и искусства, которые вдохновляли композиторов: Моцарт – «чудо и мечта», Сальери – неукротимый поиск Истины. И вот – «Певец велик Мятежностью Мечты!» Сальери пришел к тому, за что укорял Моцарта. Приключения творческого духа – вот сюжет поэмы. А уж разворачиваются они на поле музыки или каком-либо другом – это дело второе.
Моё знакомство с Лобанцевым пришлось как раз на период создания этой поэмы. Я видел промежуточные варианты и даже перепечатал один из них на машинке. Впоследствии эта копия затерялась, и найти её я не смог. Но одну подробность запомнил. Глава II. Сальери говорит Моцарту:
Терзал и вас Господствующий Вкус,
но вы, не льстясь
на лёгкий подвиг моды,
нашли в душе
такой простор для муз,
что сумма грёз разбухла до свободы.
Увидев очередной вариант, я удивился, что мощная метафора последней строки заменена чем-то менее выразительным: «что всем примнилось зарево свободы». Вяло, несмотря на повтор «р». Спрашиваю, зачем было так заменять. И узнаю, что редактор ни в какую не соглашается, чтобы какая-то «сумма» – научный термин – могла присутствовать в тексте, посвящённом музыке. Лобанцев когда-то приводил в пример Пушкина: допустим, цензура не пропускает какие-то строки, – значит, нужно написать ещё лучше. На деле иногда происходило наоборот, Лобанцев уступал требованиям редактора, и кто знает, сколько ярких строк утеряно! Позднее, уже по смерти Лобанцева, я узнал, что поэт Юрий Конецкий готовит к изданию сборник стихов Лобанцева и что он, Конецкий, старается восстановить, отыскать наиболее выразительные варианты строк (а часто это варианты первоначальные), и я тогда предложил эту прочно засевшую в моей памяти строчку, которая и заняла своё место в книжке4.

Мне казалось, что после первой публикации поэмы должна была бы случиться громкая дискуссия, если только не скандал. Ещё бы: Сальери он оправдывает, Моцарта чуть ли не дисквалифицирует, внедряет рационализм в самое иррациональное искусство… На самом деле всё прошло как-то тихо. Я говорю об этом Лобанцеву. Он в ответ: «Так ведь невыгодно привлекать внимание, громко обсуждать такие вопросы». Он и тут был социологом: невыгодно, понятное дело, тем, кто «обделывает делишки».
Есть, однако, нечто такое, чего Лобанцев не учёл, да и не мог учесть, говоря о Моцарте. Рационалистическая позиция опирается на знания, которые считаются научно достоверными. Но вот появляется новое знание, и убедительное рассуждение теряет опору. В 2005 году в газете «Комсомольская правда» появилась научно-популярная заметка о том, что, согласно последним исследованиям, музыка Моцарта благотворно влияет на работу нервной системы и на развитие человеческого интеллекта. Стало быть, действие этой музыки глубже, оно проявляется на нейрофизиологическом уровне, в самых основах того, на что способен человеческий мозг. Хотя при этом поверхностная идея может вызывать недовольство у критика (Сальери с укором говорит Моцарту: «Победа флейт над грубостью трубы – // и сон как явь. Ведь вы волшебник, Моцарт!»). Новое знание порождает следствия: раз есть музыка, «благословляющая» развитие человеческих способностей, то возможна и музыка проклятий, разрушительная для человеческой души. Не к такой ли музыке пришёл Сальери, когда «как будто камни в хрупкое стекло, // летели звуки – / грохот, скрежет, хаос!// Свобода духа яростно и зло // из долгой тьмы рвалась / и чертыхалась» (первоначально было – «отряхалась»). Какой дух рвётся из мрака и чертыхается – это уж известно… В финале Сальери преодолевает и этот этап и передаёт творческую эстафету Бетховену, который в поэме присутствует только намёком – через рифмующееся слово: «духовен». Кое-кто возражал против такого приёма, ведь Бетховен говорил не на русском языке! Думается, что если есть в этом проблема, то пусть о ней думает тот, кто решит переводить поэму на немецкий либо ещё какой-нибудь язык.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+2
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе