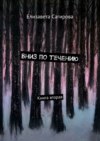Читать книгу: «Балатовский лес 2.0», страница 2
Балатовский
В огромном научно-производственном центре «Балатовский» все шло наперекосяк, и виной тому – недавний ребрендинг. В помятой брошюре, небрежно валявшейся на ресепшене, декларировалось, что целью ребрендинга является «упрощение коммуникации и сохранение традиций». Так «Balatovskiy Forest» превратился просто в «Балатовский». Трудно не согласиться: никто не использовал полное название, все сокращали. Разве что маркетологи любили щегольнуть своим английским: по их мнению, это придавало солидности. Дети же, когда видели слово «Forest», частенько спрашивали родителей: «Почему Forest? Здесь разве делают лес?» Сейчас стало и проще, и какой-никакой исторический топоним остался. Однако автоматическая интеллектуальная система центра «AISHA» наотрез отказалась принимать новшество.
Битый час техник пытался договориться с роботом на ресепшене, чтобы тот откатился к старым настройкам. На что пластмассово-кремниевое существо упрямо и высокопарно отвечало: «Эволюционное развитие нельзя остановить». Судя по всему, разработчики не рассчитывали, что текст ошибки когда-то услышат. Но если на стене висит ружье, то чье-то эволюционное развитие оно однажды остановит.
В холле Балатовского показывали детский мультфильм. Обычно по телевизору круглые сутки крутился один и тот же пятиминутный ролик о прошлом, настоящем и будущем Центра. Мелькало много дат, цифр и устремленных вверх графиков. Все это перемежалось с демонстрацией новейшего оборудования и довольных сотрудников, получивших долгожданную технику. Ближе к концу ролика показывали отрывки интервью с директором Центра. Однако звук был выключен, поэтому содержание интервью оставалось для посетителей загадкой. Обладай AISHA чувством юмора, она бы поставила «Лебединое озеро», но вместо этого программа выбрала популярный мультфильм про медведей. Сюжет с небольшими вариациями повторялся от серии к серии. Жила-была семья медведей – образец толерантности и невежества сценаристов. Она состояла из белого медведя-папы, черного медведя-мамы и их непослушной дочки, объединившей внешние признаки обоих родителей, – черно-белой пандочки. Дочка все время шалила, а родители наставляли ее, за все серии ни разу не повысив голос и не поставив в угол. Если в саду растет валериана, значит, под ней лежит кот, если по телевизору показывают мультики, значит, рядом притих ребенок. Несмотря на отсутствие звука, мультфильм не моргая смотрел какой-то мальчуган. Розовые кроссовки выдавали, что у него есть старшая сестра, царапина на щеке – что кошка.
Рядом с мальчуганом сидела Полина и в третий раз пролистывала брошюру о работе Центра. В брошюре красовались все те же цифры, даты и фотографии улыбающихся сотрудников, которые обычно показывали по телевизору. Одета девушка была сдержанно, насколько это вообще уместно летом: футболка с бледным абстрактным принтом, серые брюки и туфли на каблуке. В последнее время юные модницы стали чаще носить высокую обувь. В техникумах на это смотрели сквозь пальцы, но в школах категорически запрещали – государство вело борьбу за здоровье стопы. Полина и без каблуков была высокой, а на каблуках могла бы лампочку в хрущевке заменить. Стройность тоже, хоть и мнимо, делала ее выше.
За час ожидания Полина перестала обращать внимание на тех, кто проходил мимо. Поэтому она вздрогнула от неожиданности, когда услышала возле себя звонкий женский голос:
– Вы на собеседование?
Рядом с ней стояла невысокая девушка в крупных черных очках и с короткой мальчишеской стрижкой. В одежде чувствовалась деградация планов на вечер: сорочка со смелым декольте, на которое хоть раз да скосит глаз любой мужчина, строгая плиссированная юбка (мужчины мужчинами, а на работу идти надо) и наконец старые, убитые, но такие родные и удобные кроссовки (кого я обманываю: приду домой да завалюсь на диван, пусть хоть ноги не ноют).
– Да, я на собеседование, – ответила Полина.
– Замечательно, что вы еще здесь. Меня зовут Марина. Прошу прощения за ожидание. Сегодня дурдом творится. По-хорошему я должна вам кое-что рассказать о Центре, задать ряд формальных вопросов, но не стану. Только вот эти бумажки все равно придется подписать…
Эйчар протянула пару листков, содержимое которых так и осталось для Полины загадкой. Равно как для всех, кто когда-либо их подписывал.
– Напишите сверху свои фамилию и имя, а внизу три слова «С правилами ознакомлен» и подпись.
Полина оставила несколько закорюк, напоминающих кракелюр на старых картинах, и вернула бумаги Марине.
– Придется пешком, лифты временно отключили.
В коридорах Балатовского было пустынно. На стенах светились запутанные планы эвакуации, попадались редкие фотографии. На дверях кабинетов висели одинаковые таблички с трехзначными номерами. Подписи встречались редко, в основном неясные аббревиатуры: «118. Отдел анализа НСТ», «125. Отдел ПОГВ», «131. Расшифровка РСГМ».
– Да вы не переживайте, у нас кандидатам с высшим образованием редко отказывают, – затеяла разговор Марина.
– Выезжают на контрасте?
– На системном мышлении. То есть да, на контрасте.
Полина стала размышлять – стоит ли ей ввязываться в разговор с эйчаром. Она ощущала себя наполненным до краев стаканом, который медленно несут двумя руками, чтобы не пролить. Всю неделю она искала информацию о разработках Балатовского, перечитывала студенческие конспекты по смежной тематике, представляла возможные типичные вопросы и мысленно репетировала ответы. Некоторые из них даже записывала в электронный блокнот. Но именно эти ответы всегда оказывались неестественными и незапоминающимися.
Похожие эмоции Полина испытывала перед сложными экзаменами. Она любила сдавать экзамены первой: бесконечная болтовня подружек выбивала из колеи, а их мандраж был заразительней февральского гриппа. Но несмотря на все очевидные минусы, она не выдержала:
– И много у вас кандидатов с высшим образованием?
Сказав это, Полина сразу почувствовала, что вопрос неуместный: никакой профессиональный эйчар не станет на него отвечать.
– Всего двое, – не раздумывая выпалила Марина. – При этом открытых вакансий около десяти.
Коридоры Балатовского казались бесконечными. На третьем этаже Полина перешла с эйчаром на «ты». На четвертом – подумала, что неплохо бы вновь заняться бегом. На пятом она прокляла свою обувь и решила больше никогда не носить туфли на каблуках. В конце концов она потеряла и счет этажам, и терпение:
– Признайся, это первое испытание: водить кандидата по кругу, чтобы посмотреть на реакцию в нестандартной ситуации?
– Поверь, мне тоже нелегко, ты мой третий кандидат за сегодня. Но мы на финишной прямой!
Марина оказалось очень общительной девушкой. За время вынужденного путешествия по Балатовскому Полина узнала о центре больше, чем за всю неделю подготовки к собеседованию и почти час ожидания в холле. Ей рассказали о проблемах с AISHA, расшифровали все знакомые аббревиатуры на дверных табличках, пожаловались на очереди в столовой, показали фотографии расцветшего кактуса. «Типичный экстраверт» – поставила диагноз Полина.
Во время учебы в университете столько рассказывали об «интроверсии» и «экстраверсии», что к выпускным экзаменам окончательно запутали! Одни студенты вспоминали про «разные направления либидо», другие бубнили про «полюса суперфактора», третьи пытались сравнить определения Юнга, Айзенка и Леонгарда, путая их между собой. Здесь же сомнений не возникало – вот он, экстраверт! Поместите в учебник для наглядности!
– Смотри, – наконец сказала Марина, остановившись у двери с подписью «Резник В. О.», – отдашь эти бумаги Виктору (так зовут твоего интервьюера). Встретить и проводить обратно я тебя не смогу, но вечером позвоню обязательно. Решения у нас принимают быстро, договоры и ставки стандартные, поэтому никакого томительного ожидания быть не должно. Удачи!
Виктор Ошерович
Виктор Ошерович Резник тщательно скрывал свой возраст, семейное положение, образование и происхождение. Поэтому, в отличие от любого другого крупного руководителя в Балатовском, именно его биографию знал каждый. Но равно как каждая бабушка по-своему знает, как готовить борщ, так и каждый сотрудник знал свою версию биографии Виктора Резника. Коллеги постарше были уверены, что он оканчивал мехмат ННГУ. Молодые же работники искренне считали, что его альма-матер ни много ни мало была Сорбонна. И только Борис Игнатьевич из Департамента проектов для органов государственной власти помнил, как их обоих отчислили после четвертого курса из СПбГУ, но распространяться об этом не любил. Почти в каждом отделе ходили слухи о его любовных связях с наиболее симпатичными сотрудницами этих отделов. Они обычно появлялись после незапланированных вечерних совещаний тет-а-тет. Как бы то ни было, в одном все сходились наверняка – официальной жены у него не было. Чего нельзя сказать о детях.
Версии о происхождении тоже разнились. Одни считали, что он не то с Брянщины, не то из-под Чернигова. Другие же вполне аргументированно возражали, что последнее абсурдно, так как никакого южного говора у него не было и в помине, равно как и московского аканья. Поэтому большинство склонялось все же к Северной столице. Некоторые в этом были просто безоговорочно уверены, так как якобы неоднократно видели его в ресторане «Идиот» на Мойке, когда он был моложе, кудрявее и выше на десять сантиметров.
Надо отметить, что Виктор слухи о себе никогда не опровергал. Даже, напротив, если кто-то говорил, что «Кажется, я встречал вас в ННГУ», Виктор неизменно подтверждал это в стиле «Да, я тепло вспоминаю время, проведенное в Нижнем, но все же есть яблоки с деревьев в университетском городке было не лучшей идеей.»
Кто бы что ни предполагал о его личной жизни или учебе, насчет карьеры в Балатовском уверенности было больше, хотя и здесь творческий путь Виктора уже начал зарастать мхом и легендами. Пришел он в Балатовский не с пустыми руками – у него были наброски проекта для управления общественным мнением на основе контентных платформ. Этот проект состоял из трех ключевых этапов.
Этап первый – построение реальной и объективной модели общественного мнения. Виктор искренне считал, что интернет захламлен проплаченными комментариями, которые нещадно минусовались и не вызывали ничего, кроме раздражения. Он был уверен, что честные лайки и дизлайки являются мощным пластом данных для социологических исследований, и эти данные должны обрабатываться автоматически методами искусственного интеллекта. Вместе с оценками надо анализировать содержание статей, тексты комментариев и личные данные пользователей, оставивших свои отзывы. В те годы акцент сообщества, изучавшего ИИ, был сделан на получение моделей вида «А что бы сказал Эйнштейн, если бы его спросили о…» Однако модели получились на уровне «А что написано в википедии о…, только своими словами». Но ровно те же подходы можно использовать, чтобы получать ответы на вопросы вида «А что бы сказала провинциальная учительница, мать двоих детей, любящая печь ванильные кексы и смотреть турецкие мелодрамы, если бы ее спросили о…» Для таких моделей открывались широкие коммерческие возможности.
Этап второй – создание нового контента. Виктор пытался убедить руководство, что языковые модели стали настолько хороши, что могут создавать не отрывочные комментарии к статьям, а сами статьи. Он также высоко отзывался о методах генерации фото- и видеоконтента. Все это можно использовать, чтобы сформировать новое информационное поле. А именно, он предлагал десятки тысяч ботов – лидеров общественного мнения, которые должны были публиковать огромное количество насколько это только возможно качественного материала. В дополнение к этому требуются миллионы фиктивных лайкающих и лестно комментирующих фолловеров. Они должны нивелировать изъяны контента и создавать ощущение правдоподобности происходящего.
«Вот я преподаю французский, а вот я на фоне Эйфелевой башни в Париже,» – пишет новоиспеченный лидер общественного мнения.
«Спасибо за последний урок. Наконец-то я прочувствовала разницу между герундием (gérondif) и причастием (participe présent) … И отличное фото!» – пишет вымышленный фолловер.
«Вроде ничего особенного в рассказе о формах глагола нет, почти все как в популярном учебнике, ну да все равно подпишусь,» – думает про себя случайный реальный посетитель.
Этап третий – манипуляция. Опираясь на армию популярных блогеров и их приспешников, в какой-то момент можно начать точечно и тактично включать в тематически статьи этих авторов идеи, которые нужно популяризировать и «продавить». Виктор любил приводить аналогию с книгами, выпущенными в Советском Союзе. Предисловие практически к любому мало-мальски серьезному художественной роману было написано видными учеными-лингвистами, техническую литературу комментировали эксперты-инженеры, рассказы о путешествиях – уважаемые краеведы и знатоки местной культуры. Зачастую их рецензии было читать интереснее, чем саму книгу. Но был один нюанс – в отзывах обязательно были отсылки на работы В. И. Ленина или решения последнего съезда партии. Да, это бросалось в глаза, да, это часто выглядело топорно, но сама идея очень нравилась Виктору.
«Вот я продолжаю преподавать французский, а вот я на фоне собора Парижской Богоматери, а вот я посмотрел в оригинале новый французский фильм и получил огромнейшее удовольствие…» – вновь пишет популярный автор.
«Да, я тоже посмотрел этот фильм. Это лучшее, что я видел в жанре лирической комедии за последние лет пять…» – поддакивает вымышленный фолловер, и его одобряют своими лайками еще 128 не менее вымышленных существ.
«Надо бы, пожалуй, сходить,» – думает про себя случайный реальный посетитель.
«Плюс сто тысяч зрителей» – пишут в своих отчетах заказчику специалисты Балатовского, хотя на деле фильмец занудный и банальный.
Да, читатель, а позже зритель заподозрит что-то неладное. Но чем масштабнее ложь, тем легче в нее поверить. Если на одного реального пользователя нужно создать десять фиктивных, чтобы получилось стадо, значит, так тому и быть. Главное, чтобы это стадо было способно повлиять на того единственного сомневающегося ягненка. Ведь мало кто из нас может противостоять авторитету и стадному чувству.
Виктора испугались. Испугались его радикальности, убедительности и молодости. Сложно побороть в себе снобизм и признать, что молодые тоже на что-то годятся. Сложно признаться себе, что у молодых людей больше сил и энергии для достижения цели. Наконец, сложно не начать опасаться за свое место.
Руководство задвинуло Виктора на самый нудный, вялотекущий и бесперспективный проект. Как ни странно, позже он сам посчитал эту ссылку лучшим, что могло случиться. Если бы проект управления общественным мнением одобрили сразу, то из-за нехватки опыта он бы его завалил. К тому же сейчас Виктор выглядел как политический преступник, оппозиционер руководству. Поэтому, когда позже это самое руководство было уличено в растратах и неэффективности, про него автоматически стали говорить как о высокоэффективном руководителе, который уж никак не допустит растрат. Но это случилось позже, а сейчас у Виктора не было организационного опыта, во многом он был самоучкой и у него имелись серьезные изъяны в специальных знаниях. О том, как бороться с бюрократией и побеждать ее, он не имел ни малейшего представления. Поэтому два года ссыльный шлифовал свои профессиональные и коммуникативные навыки и доказывал всем не словом, а делом, что готов к большим свершениям.
Виктор обладал колоссальной работоспособностью и тем редким качеством, для которого даже отдельного слова пока не придумали, – чаще всего его описывают цитатой «нет маленьких ролей, есть маленькие актеры». За два года он не только расщепил свой проект на атомы, но и собрал его в абсолютно новом качестве. Достаточно быстро Виктор избавился от юношеской горячности – она банально ни к чему не приводила. Он освободился от обузы чужого мнения: сколько бы аргументов он ни находил в пользу того или иного решения, ему не хватало авторитета, а его начальникам не хватало желания что-то изменить. Виктор стал руководствоваться принципом: проще просить прощения, чем разрешения. Он принимал решения сам, претворял их в жизнь, а потом ставил перед фактом.
Получал ли он по шапке? Не то слово! Вот только эта шапка, казалось, всегда висела где-то далеко на вешалке – Виктор был хладнокровен и нечувствителен к критике. Вот один характерный пример. Однажды Виктор посчитал, что его отделу необходим новый мощный компьютер. Он понимал, что просить долго и бесполезно, и сам подал заявку в отдел снабжения. Но, так как сумма заказа была выше определенной величины, все-таки потребовалось согласование. Руководитель Виктора, Печенкин Афанасий Петрович, вызвал подчиненного «на ковер» и начал пропесочивать. Ключевыми словами тирады начальника были: «субординация», «оптимизация», «бюджет», «а в мои годы…» Но через неделю новый компьютер уже был подключен к сети – Виктор заказал его по частям, причем так, чтобы стоимость каждой отдельной части была не такой большой и закупку не требовалось согласовывать. Афанасий Петрович не сильно интересовался делами простых смертных. Он узнал о новом компьютере только через полгода и то случайно. Кто-то из инженеров в форме обратной связи указал, что «приобретение нового компьютера – это важное достижение отдела последнего времени, которое позволило значительно ускорить повседневные процессы». Хорошенько обдумав произошедшее, Афанасий Петрович не стал лезть в бутылку. В отчете вышестоящему руководству он написал: «благодаря своевременной технической модернизации, инициированной заведующим отделом Печенкиным А. П., получилось значительно ускорить … <далее копипаст из формы обратной связи>».
Затем с приходом очередного мирового финансового кризиса в Балатовском разразился скандал. Кто-то из акционеров поистерил из-за слабых итогов года, кто-то из аудиторов нашел растраты, кто-то из топ-менеджеров с треском лишился своих должностей, на кого-то даже возбудили уголовное дело. Многие крупные руководители внезапно поняли, что пенсия – это не так страшно, и попрощались со своими коллективами, не дожидаясь, пока их снимут. Образовавшийся на вершине пищевой цепи вакуум начал засасывать лучшие кадры. Сперва Виктора поставили на место Афанасия Петровича. А буквально через месяц на волне продолжающейся истерии основного акционера, требовавшего крови, а точнее «молодой крови на ключевых позициях», Виктора Ошеровича перевели еще на один уровень выше. Но и здесь он задержался ненадолго. Вверенное ему направление за год продемонстрировало выдающиеся результаты. Эти результаты были достигнуты и благодаря усилиям молодого руководителя, и своевременным и намеченным еще задолго до прихода Виктора траншам, и просто благодаря удаче, а точнее – невнимательности планового отдела. Брожения в Балатовском продолжались, и далеко не все, кого назначали на новые посты, смогли оправдать доверие. Компанию не переставало лихорадить, поэтому внезапный финансовый рост в отдельном направлении резко выбивался во всех отчетах, коих, разумеется, после кризиса стало больше. Заметили, оценили, предложили…
Нет, Виктор Ошерович не был карьеристом. Он даже пробовал отказываться от повышений, не желая брать на себя внезапно свалившуюся ответственность в проектах, где он ничего не знал. Но новые должности давали бОльшие возможности, в том числе и для реализации собственных планов. Так он запустил проект управления общественным мнением. Откровенно говоря, за десять с копейкой лет из трех этапов более или менее удовлетворительно получилось реализовать лишь первый, то есть построить модель. Контентные платформы не давали разгуляться с миллионами фиктивных пользователей, а реальные пользователи оказались умнее, чем предполагалось. Но тем не менее проект был в небольшом плюсе и считался, что называется, «имиджевым», разумеется, в узких кругах. Со временем его концепция вынужденно поменялась, и он стал больше консалтинговым. То есть на базе модели общественного мнения проводился анализ идей, потребностей, трендов и предлагалась стратегия влияния на различные социальные группы. Эта стратегия разрабатывалась аналитиками, так как их неискусственный интеллект по-прежнему лучше справлялся с пониманием нового, того, чего еще нет в Википедии.
Собеседование
Кабинет Виктора выглядел не так, как представляла Полина. Панорамные окна выходили во внутренний дворик центра, и в отличие от мрачных коридоров, освещенных лишь редкими лампами холодного света, здесь было солнечно. Ощущение легкости усиливало почти полное отсутствие мебели: кроме рабочего стола, пары стульев и миниатюрного стеллажа, не было ничего. Стеллаж использовался для складывания перчаток и шапок в холодное время года. Сейчас же, в августе, на нем одиноко ждал своего звездного часа складной черный зонт. Отсутствие мебели не придавало дешевизны кабинету. Напротив, стены бликовали дорогим покрытием, на котором можно писать и выводить данные с компьютера, а рабочий стол напоминал ЦУП. В ножках светились динамики, два вращающихся монитора крепились к монорельсу и катались от одного края стола к другому. Словно кудрявая морская свинка, торчал микрофон.
За столом сидел невысокий худощавый мужчина в льняной летней рубашке со старомодной стрижкой с пробором. Полина гадала, сколько же лет Виктору? У мужчин между 30 и 45 годами наступает «таинственный» возраст, который сложно определить. Здоровый образ жизни, оптимизм и гены могут легко замаскировать пятнадцать лет.
Интервью началось без раскачки. Обменявшись парой приветственных фраз, Виктор сказал:
– Согласно каким-то странным регламентам я должен записать часть интервью. Многое, что я спрошу, покажется нелепым, многое есть в вашем резюме. Но избавиться от этой несуразной церемонии мне пока не удается: стандарт холдинга. Поэтому первый вопрос: «Вы согласны, чтобы наше собеседование записывалось?»
– Если я откажусь, то мне придется идти обратно. Мои ноги не выдержат!
– Совсем забыл попросить прощения за вынужденное ожидание и за то, что выбрал кабинет на последнем этаже, – галантно прокомментировал Виктор. – Тогда я включаю запись.
Из папки с документами, которые передала Марина, Виктор выудил один листок и неестественно громко произнес:
– AISHA, запись!
На одной из стен появилась надпись «Камера включена!»
– Значит, про лифты мы забыли, а как вести наблюдение – нет, – еле слышно возмутился Виктор, перечитывая листок с вопросами.
– Где вы сейчас учитесь или работаете?
– В этом году окончила Институт им. Бехтерева по специальности «Математические методы в психологии». А пока… наслаждаюсь летом.
Виктор хотел быстрее расквитаться с обязательной программой и перейти к произвольной. Поэтому он не обращал внимания на расплывчатые или неоднозначные ответы, а просто зачитывал следующий вопрос.
– У вас есть родственники из стран бывшего СССР?
Полина удивленно посмотрела на Виктора. Казалось бы, совсем незначительная пауза заставила Виктора оторваться от списка вопросов и прокомментировать:
– Я тоже не понимаю, зачем это спрашивают в российском филиале компании, но нужно ответить.
– Да, все мои ближайшие родственники – граждане России.
– Вы поддерживаете отмену закона «О персональных данных»?
Стало казаться, что вопросы достают из мешочка с бочонками для игры в лото: так случайны и далеки по тематике они были.
Последние полгода СМИ захлестнула однобокая, безапелляционная агитация против приватности персональных данных. Любое начинание, какими бы ни были его истинные мотивы, журналисты объясняют исключительно заботой о населении. Причем альтернативные мнения будто отсутствуют! Любые, самые высосанные из пальца аргументы тиражируют до тех пор, пока в них не поверит достаточный процент населения. Потом это просто считается доказанной нормой.
Если власти вдруг вздумают сэкономить на ремонте автомобильных дорог, то претворить в жизнь это решение можно так. Сначала соберут статистику всех ДТП, возникающих по причине превышения скорости и лихачества на дорогах. Затем намекнут, что аварий можно избежать, если ездить медленнее. Укладывать «лежачих полицейских» – прошлый век, проще и дешевле следить за естественным износом дорожного покрытия. Он должен составлять не менее 20%, а лучше 25%. Тогда просто невозможно развить большую скорость! Потом появятся интервью с жителями сельской местности: «У нас тут не бывает аварий вообще. С такими-то ямами разве погоняешь? По синьке да, уже много в кювет съехало. Но чтобы лоб в лоб на скорости… такого не припомню». Разумеется, другим «неоспоримым» аргументом будет экономия средств. Эту информацию важно преподнести эффектно. Конечно, можно просто сказать, что в бюджете останется столько-то миллиардов, но… слишком блекло. Гораздо лучше так: «на сэкономленные средства можно отремонтировать все школы района (аплодисменты), закупить сотни километров бинтов в больницы (овации), или… достроить наконец зоопарк (бурные овации)!» Такие аргументы уж точно не останутся незамеченными! Многие даже решат, что зоопарк действительно собрались достраивать…
– Полина? Вы поддерживаете отмену закона «О персональных данных»? – повторил Виктор.
– Боюсь, могут быть подводные камни.
Виктор не стал уточнять про камни и перешел к следующим вопросам: о доступе к гостайне, членстве в профсоюзах, употреблении наркотических препаратов и так далее. Наконец, после вопроса о хронических заболеваниях, о которых стоит знать работодателю, Виктор вновь обратился к AISHA’е:
– AISHA, я заканчиваю запись.
Виктор размашистым почерком написал что-то на опроснике и отложил его в сторону:
– Теперь коротко о нас…
Было заметно, что эту вводную интервьюер произносил много раз. Отточенные формулировки, причем даже те, что должны напоминать импровизацию, ритмичный темп речи, слегка покачивающаяся голова; глаза смотрят чуть вверх и в сторону, куда-то в область памяти, а не фантазии:
– Наша компания изучает особенности высшей нервной деятельности человека, ищет способы предсказать поведение людей и повлиять на него. Разработки центра востребованы как частными компаниями, так и госучреждениями. Частники, если говорить грубо, заинтересованы в эффективной рекламе. Государство тоже заинтересовано в «рекламе», а точнее, в пропаганде. Я пока не хочу вдаваться в детали. И не потому, что скован коммерческой или гостайной. А потому что в Балатовском действительно очень много различных исследований и производств: от изготовления приборов для сканирования мозговой активности до разработки математических моделей поведения группы лиц в условиях… да на самом деле в любых условиях, которые интересны заказчику. Поэтому для начала я хочу больше узнать о ваших научных интересах, чтобы точнее подобрать проект. Вы ведь недавно окончили университет? Расскажите о своем дипломе.
Полина восприняла просьбу с воодушевлением. Казалось, текст оглавления она видела как фотографию. Однако сразу же вспомнила емкое резюме своего куратора: «У вас замечательная работа, вы очень структурировано и подробно обо всем рассказываете. Но! Сократите презентацию в три раза». Поэтому, несмотря на желание начать чуть ли не с Аристотеля, Полина решила ограничиться двумя сжатыми, будто заархивированными фразами:
– Я исследовала частные виды задачи переобучения нейросети. Необходимо подобрать минимальное количество новых наблюдений, которые бы качественно изменили поведение модели.
– Звучит как сугубо математическая задача.
– Я по специальности психолог-математик. Или, как мы любим шутить: «психолог минус математик». Поэтому изучаемые мной нейросети по своей топологии приближены к типичным человеческим: они неоднородны, с большим процентом ассоциативных связей. В своей работе я попыталась предположить, как изменится поведение человека…
Здесь Полина запнулась и мысленно упрекнула себя. За годы обучения она так не избавилась от привычки говорить «Человек» вместо «Нейросеть».
– … я хотела сказать нейросети. Как изменится поведение нейросети, если добавить физиологические, химические, психические и прочие процессы, характерные для человека: удовольствие, мотивацию, страх и т. д.
– И как? Вам удалось создать модель, которая боится отвечать на вопросы? – с улыбкой спросил Виктор.
– Нет. Только модель, которая не желала работать по субботам, вероятно, по религиозным соображениям, – засмеялась Полина.
– Я читал одну из ваших статей.
– Единственную, – уточнила Полина, сама не понимая зачем.
– Неважно. Пусть вы только недавно закончили обучение, и у вас мало опыта, но я уверен: уже сейчас ваши компетенции достаточны для работы в Балатовском. Я вижу огромный потенциал. Ваша статья, пусть местами наивная, с неточностями, где-то косноязычная, разительно отличается от абсолютного большинства статей подобной тематики, которые мне попадались в последнее время. Я услышал мнение человека, исследователя, и, без сомнения, будущего большого ученого. Мне надоело читать пустые, пресные, как диетические хлебцы, хоть и правильные, с выверенные формулировками статьи нынешних «научных» работников. Большинство современных «исследований» – это бесконечное переписывание и скрытое самоцитирование. Или вообще непонятная компиляция текста, подсказанная машиной. Сейчас использование ИИ настоящий бич: отличить текст машины от текста человека становится крайне тяжело. Разве что по пустоте… То, что я прочитал у вас, – точно текст человека, в статье есть творчество… Но я увлекся.
Виктор подошел к окну и, казалось, какое-то время просто рассматривал отдыхающих внизу сотрудников Центра. Затем, не отводя взгляда от окна, сказал:
– Мне нужно выбрать для вас проект. Поэтому я задам несколько нестандартных вопросов.
Полина пребывала в легком смущении. Оказывается, кто-то прочитал ее студенческую статью, написанную отнюдь не из высоких идейных соображений. Эта статья, во-первых, позволяла получить «автомат», а во-вторых, давала возможность официально прогулять две пары во время конференции. Полина искренне считала, что студенческие сборники читают только редакторы сборников, и то вынужденно.
– Какие, на ваш взгляд, ключевые вехи в развитии т.н. «искусственного интеллекта»? – спросил Виктор, отойдя наконец от окна и пристально посмотрев на Полину. Казалось, это был первый вопрос, ответ на который ему действительно интересен.
У Полины в голове пронеслось облако тегов: переобучение, Марвин Минский, персептрон, суперкомпьютеры, проблема ассоциативного мышления… Ей захотелось, чтобы облако обрушилось дождем из ключевых слов в хронологическом порядке.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе