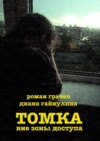Читать книгу: «Балатовский лес 2.0», страница 3
– Первые исследования относятся к 40-60-м годам 20-го века, – тягуче начала Полина. – В середине прошлого века ученые предложили математические модели нейрона и персептрона. Данные модели представляли скорее академический интерес, так как адекватных технических возможностей для их применения не было. С качественной стороны модели тоже вызывали недоумение: они не интерпретируемые и склонные к «подстройке» под конкретные данные. Марвин Минский показал принципиальную невозможность решить частные виды тривиальных задач…
– О, похоже, вы мне можете целую лекцию провести. Давайте я уточню вопрос: как одним-двумя предложениями охарактеризовать этот этап?
Полина поняла, что все-таки не удержалась и начала углубляться в детали.
– Вы употребили интересное слово – «академический». Пусть это будет Академический этап, – ответил за нее Виктор. – Правильно я вас понял, что ученым модели не очень-то понравились?
– Да, в академической среде они долго были не в чести.
– Что дальше?
– В 80-х годах прошлого века появился метод обратного распространения ошибки и нелинейные функции активации. Но, вероятно, это все еще академический этап…
– Что принципиально изменилось в XXI веке?
– Вычислительные мощности. Стоимость, объем и доступность высокопроизводительных серверов. Любой студент, программист или математик, который не хотел разбираться в предметной области, мог засунуть статистические данные в программу, как в мясорубку, и относительно быстро получить внешне правдивый результат.
– Ученые отошли на второй план?
– Да, перекричать wow-эффект они не смогли.
– Как назовете этот этап?
– М.б. «технический этап». Или этап популяризации…
– Пусть будет технической популяризации (компромисс). Что было потом?
Полина задумалась. Она не хотела просто пересказывать историю так называемого «искусственного интеллекта», которую хорошо знала. И попыталась сразу заглянуть на страницу с ответами.
– Дальше пришел бизнес. Я бы назвала этот этап «Коммерческим». ИИ стали внедрять для решения несложных (для человека, конечно) задач, тем самым вытеснив людей в некоторых профессиях.
– Например?
– С помощью ИИ сократили численность первой линии техподдержки, частично заменили копирайтеров и дизайнеров. На этом этапе добились весомых результатов в вопросах распознавания изображений и естественного (человеческого) языка. Наконец затолкали пол-интернета в одну языковую модель, и получился ChartGPT, который наделал много шуму.
– Напомните математическую базу? Я подзабыл эту историю.
– Тривиальная языковая модель: на основе контекста итеративно вычисляется следующее слово, таким образом получается вполне связный текст. Особенностью были именно масштабы.
– Восстания луддитов? – неожиданно спросил Виктор.
– Простите?
– Неважно, – усмехнулся интервьюер. – Что потом? Как вы охарактеризуете современный этап?
– Модели, созданные с помощью методов т. н. ИИ, всегда обладали… скажем так, непредсказуемостью, с которой зачастую совершенно неясно, как бороться. Здесь проще привести примеры. Да, нейросеть способна написать стихотворение, благо у нее есть доступ к словарю рифм и тематическому словарю, и она знает, как синтаксически корректно строить предложения. Но встретить адекватную, а главное, не избитую метафору в таких стихотворениях можно крайне редко: для этого необходимо ассоциативное мышление. Важно видеть общее в далеких по смыслу процессах и явлениях. Ребенку необязательно показывать тысячи фотографий слонов, чтобы он начал их узнавать. А нейросеть даже после тысячи фотографий может искренне посчитать чернильную кляксу из теста Роршаха тем самым слоном, а не кляксой, так как у нее отсутствует критическое мышление. Если же человек приходит к подобному алогичному выводу, то он продолжает размышлять, пробует посмотреть на вещи под разными углами, один и тот же вопрос пытается пропустить через призму конкретного знания, философского знания, логики, норм морали и так далее. Безусловно, использование данных из бескрайних просторов интернета значительно улучшило качество моделей, но они по-прежнему подходят скорее для решения узкоспециализированных задач. Можно объединить множество моделей всего-всего якобы в одну метамодель, но добиться реальной синергии пока не получается. Сейчас мы возвращаемся к исходной идее: повторить процессы, протекающие в человеческом мозгу, понять природу ассоциативного, творческого и критического мышления.
Пока Полина рассуждала о том, какие проблемы и вызовы стоят перед ИИ, Виктор внимательно слушал, расхаживая по кабинету. Кажется, это хороший знак, однако редкие едва заметные ухмылки оставляли чувство незавершенности, и потому Полина продолжала пояснять и придумывать все новые и новые примеры, пока наконец Виктор не прервал ее:
– Что такое «окно Овертона»?
Школьный знакомый Полины был помешан на этом вопросе. Кто-то говорил о бабочках, кто-то о девушках, а он при первом удобном случае рассказывал о «Камертоне» (одноклассники иногда коверкали это слово ради шутки). Вот и пригодилось!
– Это теория, объясняющая, как неприемлемые, табуированные идеи становятся мейнстримом – и наоборот.
– Можете привести примеры?
Над этим вопрос Полина задумалась. Она опасалась привести неуместный или неприятный пример, который уведет разговор в ненужное русло. Но в голове из-за внезапно вернувшегося волнения крутились только несколько избитых иллюстраций окна Овертона. Пришлось схитрить…
– Хрестоматийными примерами, – начала неуверенно Полина, всячески выделив слово «хрестоматийными», – являются отношение к каннибализму, фашизму или гомосексуализму.
Выждав паузу и убедившись, что уточняющих вопросов не последовало, Полина продолжила увереннее, но все равно, как ей самой показалось, с извиняющейся интонацией:
– Например, гомосексуализм считался уголовно наказуемым деянием…
– В своих исследованиях вы как-то затрагивали этот вопрос?
Полине так и хотелось вскрикнуть: «Ну конечно же нет!» Но чтобы не выглядеть глупо, пришлось отшучиваться:
– Чтобы ускорить движение окна Овертона, лучше использовать не мою дипломную работу, а аффилированные СМИ и кучу денег.
Виктор одобрительно покачал головой, после чего задал еще один, и, как оказалось, последний вопрос:
– Что такое «Консциентальная война»?
Полина судорожно перебирала английские корни в надежде угадать правильный ответ. Но в итоге решила не рисковать:
– Я не встречала этот термин.
– Вы счастливый человек! Думаю, на этом мы можем закончить. Давайте я вас провожу до первого этажа – нам по пути.
Полине не хотелось заканчивать собеседование ответом «Я не знаю», но Виктор уже закидывал вещи в спортивный рюкзак и явно не планировал продолжать.
Обратный путь показался вдвое короче: помогали адреналин и гравитация.
– Срежем здесь, – сказал Виктор, проходя мимо анонимной двери.
Он остановился и поднес свой браслет к электронному замку. Дверь открылась, и Полина увидела огромный вытянутый зал с прозрачными кабинами по бокам. В каждой кабине сидели люди с датчиками на головах: старики, школьники, мамы с маленькими детьми, инвалиды. Все внимательно смотрели на светящиеся экраны.
Полина медленно прошла несколько метров. Никто не посмотрел в ее сторону.
– Они вас не видят и не слышат. Это может исказить данные, – пояснил Виктор.
Полина пошла чуть быстрее, но вскоре остановилась. В одной кабине она увидела старушку, державшую в руках крупную рыбу. Невольно подойдя ближе, Полина разглядела, как рыба часто шевелит жабрами. Было видно, что старушке тяжело ее удерживать. Вдруг рыба резко дернула хвостом, выскользнула на пол и началась биться на кафельном полу. Старушка сделала полшага назад и приподняла руки, с них медленно стекала слизь.
– Полина, пойдемте. Вы еще не раз побываете в отделе ИПР (изучение примитивных реакций), – сказал Виктор.
Полина ускорила шаг. Опустив голову, она рассматривала заостренные носки своих туфель. Только в конце зала Полина еще раз огляделась по сторонам и обнаружила, что здесь уже не было людей: в двух крайних кабинках находились поросенок и свинья. Их тоже утыкали датчиками. Поросенок крутился внутри своей кабинки, а свинья, не шевелясь, смотрела на экран – на нем показывали поросенка.
Стендап в человейнике
Вечером позвонила Марина. Оффера у нее не было: проект, который выбрал Виктор, «особенный», и нужно больше времени на согласование. Про оффер Марина упомянула между делом, невзначай. Основная цель звонка – пригласить потусить. Легкость, с которой общалась эйчар, была заразительна.
Полина согласилась. «Ей бы мотивационные курсы вести», – думала она про себя, плутая по незнакомому району. Этот район мало чем отличался от множества других спальников, построенных за последние десять лет.
От центра города к окраинам этажность домов резко увеличивалась в прогрессии близкой к геометрической. На улице Сибирской еще сохранились немногочисленные исторические двухэтажные дома купцов времен Российской империи. На бывшем Комсомольском проспекте, переименованном в Камский проспект (вероятно, чтобы сохранить привычное горожанам сокращение К [ао] мпрос), были уже четырех- и пятиэтажные «сталинки», а в глубине дворов – «хрущевки». Девятиэтажек конца двадцатого века было не так много, они хаотично встречались в старых спальных районах. Большую же часть этих районов составляли «свечки» путинской эпохи. Это были 16—20 этажные здания, построенные без единого кирпича. Ближе к окраинам начинались новые спальники с 32-этажными «человейниками». Они тянулись нескончаемой вереницей титанов античных времен. Казалось, сторукие гекатонхейры могли поднять с земли автобус и швырнуть его в Зевса.
По выходным жители отдаленных районов, так и не поборов в себе страх перед этими чудовищами, приезжали на прогулку в центр. Здесь можно успокоиться и впитать эстетику прошлых эпох. Однако восхищение вызывали только двухэтажные купеческие дома и для гурманов – здания в стиле сталинского неоклассицизма. Начиная с творений Хрущева в домах уже не было привлекательности и изюминки. Туристы не приезжали на Нагорный или Крохалевку и не показывали детям: «Смотри, а вот это хорошо сохранившаяся панелька эпохи Брежневского застоя».
В детстве Полина мечтала жить в самом высоком доме, на самом верхнем этаже. Но она давно забыла об этой мечте также и как о многих других детских прихотях: пиратском сундуке, светящейся палочке Гарри Поттера или о футболке с розовыми пайетками. Хотя нет, футболка все еще актуальна! Сейчас Полину тоже ужасали массивные нагромождения из стекла и бетона, отложившиеся на боках города, как жировые складки на талии.
От своих предшественников исполины XXI века отличались еще и планировкой. Кризис семьи постепенно привел к тому, что все больше и больше молодых людей перестали нуждаться в квартире, где есть комната для игр ребенка и кухня для вечернего отдыха родителей. Они нуждались в отгороженном уголке, где можно перевести дух между двумя походами на работу. Начали стремительно обновляться рекорды минимальной площади квартир. Долгое время казалось, что советские однушки в 32 квадратных метра так и останутся в истории апогеем минималистичной планировки. Но нет. Стали появляться квартиры в 25, 22, 18 «квадратов». Хозяев таких квартир уже в прихожей встречала стиральная машина. Кровать теснилась рядом с обеденным столом. В ванной комнате от той самой «ванны» уже ничего не осталось – ее уверенно заменила душевая кабинка.
Показалось, что дальше уменьшать площадь некуда. Ведь нельзя же обойтись совсем без стиральной машины или холодильника… Или можно? А почему бы не сделать в доме прачечную, где будут стоять стиральные машины? Там же хранить средства для стирки – это позволит уменьшить размеры шкафов в квартире. А устанавливать и обслуживать такие машины можно тоже вместе! Что немаловажно, содержать прачечную, куда на регулярной основе ходят жители тридцатиэтажной горы, довольно прибыльно. Компьютерный стол можно вынести в коворкинг, кухонную утварь – в общую обеденную зону с плитами и микроволновками, рядышком арендовать часть холодильника, например, две закрываемые на ключ полки в основном отсеке и одну полку в морозилке. Таким образом, квартиры превратились в гостиничные номера с кроватью и шкафчиком для личных вещей. Новые ЖК обросли многочисленными общественными зонами: столовыми, игровыми комнатами, прачечными. Кругом висели камеры…
Соседи стали больше общаться друг с другом. Мужчины выходили на ужин в сланцах и шортах, вместе трапезничали, после чего могли весь вечер смотреть огромные телевизоры – по одному на каждый канал. Женщины тоже собирались в кружки по интересам, периодически убегая, чтобы вынуть постиранную одежду. Для особых случаев были залы с платным входом. Там проходили мастер-классы по рисованию, занятия по йоге, мотивационные курсы.
В одном таком зале в оранжевой секции 14-го блока Сылвенского ЖК сегодня проходил вечер «двух историй». Любой желающий мог рассказать о себе, друзьях или случайно встретившемся человеке. Истории могли быть веселые и грустные, реальные и вымышленные, в стихах, прозе, да хоть в танце. Например, один местный житель был довольно-таки неплохим мимом и показывал миниатюры едва ли не каждый вечер. Если номер нравился слушателям, выступающий мог не платить за ужин. Однако посуду все равно нужно было вымыть самостоятельно и продемонстрировать на камеру – иначе обслуживающая кейтеринг-компания взимала сервисный сбор. Такая система уже давно практиковалась во многих придомовых столовых, поэтому жильцы все делали машинально, не прекращая беседы.
– Это Полина, – представила гостью Марина.
За длинным столом сидели ее знакомые – две девушки, которые были так увлечены просмотром какого-то забавного видео, что, казалось, и не взглянули на Полину.
– Галя.
– Света, – односложно представились подружки.
На девушках были надеты неприметные длинные футболки, на лицах подрисованы кошачьи усики. Из-за схожести одежды и макияжа Полина предположила, что они сестры. Но позже, разглядев их внимательнее, поняла, что это не так.
Чуть поодаль от стола молча расхаживал молодой человек и странно жестикулировал, словно ваял статую из воздуха. Марина, заметив, что Полина рассматривает его, пояснила:
– Это – мой кавалер. Он готовит выступление. В этой столовой каждый вечер проходят любительские стендап-шоу. Называется «Две истории». Пяти лучшим рассказчикам дают бесплатный ужин.
Молодой человек заметил, что о нем говорят, и подошел представиться:
– Здесь как в «Бойцовском клубе» – новички обязаны принять бой, то есть выступить и рассказать о себе. Кстати, меня зовут Игорь.
Полина не смогла понять, шутит Игорь или нет.
– На самом деле выступать необязательно, – вмешалась Марина, увидев легкое замешательство Полины. – Когда столовая только открылась, действительно, была такая инициатива. Но она отпугивала новых посетителей, и от нее почти сразу отказались. Однако организаторы в дань уважения традиции могут спросить про тех, кто впервые посетил заведение.
– Можешь не шутить, – добавил Игорь. – Достаточно рассказать пару слов о себе и пожелать всем приятного аппетита.
– Иногда даже такие незамысловатые выступления поощряются пустяковыми сувенирами: могут подарить шарик или светящиеся ушки. Последние, правда, придется вернуть перед уходом, – вспомнила Марина.
– У меня определенно есть желание съесть что-нибудь на халяву, – сказала Полина, желая не показаться скучной своим новым знакомым.
Заиграла музыка. На сцену вприпрыжку, как терьер, выбежал миниатюрный ведущий. С минуту он заводил гостей, выкрикивая приветы и любимые гласные алфавита.
– Ты пришла к самому началу шоу. Давай я тебе покажу, где тут что, – Марина жестом пригласила пройти за ней.
Полина не спеша наполняла поднос и пыталась выведать насчет оффера. Но вместо этого она узнала, что Игорь регулярно рассказывает о своей работе и почти всегда ужинает бесплатно. Он шутит, что работа должна кормить, собственно, это и происходит. А трудится он тоже в Балатовском. По утрам с друзьями разбирает на запчасти списанных роботов, а вечерами прибирается в производственных цехах. Иногда по знакомству ему подкидывают шабашки в отделе ИПР (отдел исследования примитивных реакций). Из использованных деталей он почти собрал тяжелого манипулятора с нейросетевым управлением. Правда, в статусе «почти» он уже полгода. «Сестрички» же были не так просты, как кажутся на первый взгляд: Света – штатный психолог в Балатовском, а Галя – старший QA-инженер.
– Напомни, Света с черными или рыжими усами? – иронично спросила Полина.
Но Марина серьезно ответила:
– С черными. Скорее всего, ты будешь работать в исследовательском отделе в команде анализа инцидентов. Если не научишься переключаться и забывать о том, что происходит в Балатовском, то вскоре станешь ее пациенткой. Поэтому лучше тоже нарисуй усики и пойдем слушать Игоря.
В этот вечер Игорь поймал кураж. Сегодня ему подвернулась шабашка в отделе ИПР, а это всегда как Форт-Боярд. Он рассказал о своих трех новых фобиях, которые заработал к концу смены.
– Чуть не забыл, – уже было попрощавшись, вспомнил Игорь. – Сегодня я познакомился с очаровательной девушкой. Она в этом зале, и причем впервые.
Игорь выдержал паузу и подождал, пока закончатся улюлюканья.
– Я уверен, моя новая знакомая – прекрасная рассказчица. Знакомьтесь, Полина!
В зале раздались аплодисменты. Марина и Галя стали активно подбадривать Полину и подначивали ее выйти на сцену. Полина не видела причин отказываться. Как психолог она посчитала правильным ненадолго покинуть зону комфортного стола.
Первые десять секунд выступления самые неприятные: другое освещение, как будто бы тебя только что разбудили; голос, отличный от того, к которому ты привык; внезапная пустота в голове… Поэтому Дейл Карнеги настоятельно рекомендовал не торопиться: разложи листочки, сделай глоток воды, поправь микрофон. Еще он советовал зазубрить первые пару фраз – это позволит привыкнуть к сцене и побороть волнение. Лучше всего начать с нейтральной шутки.
Прокрутив эти воспоминания у себя в голове, Полина улыбнулась и начала:
– Дейл Карнеги умер в одиночестве, Мария Монтессори отдала сына в другую семью. Здравствуйте! Я – Полина, и я тоже психолог…
Зал тепло приветствовал психолога. Особенно старался стол, где сидели Марина с Игорем. «Неплохое начало получилось! – решила про себя Полина, – надо что-нибудь про собеседование добавить.» Однако мысли ее путались, от избытка впечатлений придумать цельный рассказ не получалось. Она вспомнила про сломанные лифты, старушку с рыбой в руках и Виктора… Кто он такой? Гений, злодей или несчастный человек? А может быть, все вместе? Но надо с чего-то начать:
– Сегодня проходила собеседование в Балатовском центре.
В зале неожиданно стало тихо, словно Полина произнесла что-то запретное. Кто-то вернулся к еде и застучал ложкой по тарелке. От дальнего стола послышалось одинокое басовитое «у-у-у».
– Похоже, – неуверенно начала Полина, – похоже, я скоро буду ставить эксперименты над Игорем. Запомните его таким…
Буткамп
Полину определили в исследовательский отдел, а именно, в команду анализа инцидентов. Первые пару недель вопреки ожиданиям было скучно: сначала требовалось пройти так называемый буткамп. Это мини-стажировка, где новых сотрудников объединяют в группы и знакомят с основными процессами и практиками, принятыми в компании.
Чтобы для преподавателей понедельник не был вдвойне тяжелым, буткамп начинался во вторник. В первый день Полина получила оборудование, установила необходимое программное обеспечение, вялотекуще общалась с администраторами насчет доступа к внутренним сервисам. Ещё она прослушала вводную лекцию, где рассказывали об истории компании, планах на буткамп, объясняли, что не стоит приклеивать пароли к монитору и совать пальцы в розетку. В конце дня подошел куратор буткампа, перекинулись парой фраз.
Во второй день начались практические занятия. За несколько часов объяснили программу четвертого курса университета. Полина продолжила общение с администраторами по поводу проблем с лицензиями. В конце дня куратор написал два слова: «Как дела?»
В третий день, осознав, что программу пятого курса она и так хорошо помнит, Полина полдня общалась с Мариной. Та провела экскурсию по производственным цехам и лабораториям, куда имела доступ. В конце дня Марина лично принесла ноутбук администратору, который за пару минут активировал необходимые лицензии. Уходя домой, Полина в коридоре пересеклась с куратором, кивнули друг другу.
В четвертый день состоялась экскурсия по лабораториям, в которые был доступ у лектора. Полина написала куратору, что у нее якобы появились неотложные дела. Тот ответил двумя буквами: «ok». Полина взяла на выходные книгу в местной библиотеке и до конца дня ее не видели.
На второй неделе буткампа в понедельник состоялась первая встреча с руководителем исследовательского отдела Михаилом Валентиновичем. Он торопился и потому скомканно рассказал о компании, уточнил про оборудование и лицензии, и назначил новую встречу на среду. Поскольку других планов не было, на улице шел дождь, Марина весь день возилась с кандидатами, а желание поработать уже переполняло, то оставалось сублимировать его в чтение научных книг. В библиотеке стояли удобные кресла, горели необычные светильники, и за весь день туда никто не заглянул. Куратор больше не писал.
Во вторник произошла незапланированная встреча. В лабораторию, где проходило обучение вошел Виктор Резник.
– Рад видеть вас! – поздоровался он с Полиной.
Девушка, утомленная просмотром однотипных графиков мозговой активности, воодушевленно поприветствовала большого руководителя.
– Вы уже познакомились с Михаилом Валентиновичем? – спросил он.
– Да, милейший, но очень занятой человек.
– Вам дали задание?
– Нет, сейчас две недели идет буткамп.
– Ах, да. Странно, конечно, что выпускников вашей специальности тоже отправляют на стажировку. Я уже говорил руководству, что это потеря времени, но они сослались не то на общность процессов, не то на календарь Майя. Тогда я поговорю с Мишей: у нас есть любопытный инцидент для исследования, хотел поручить его вам. Хорошо, что вы не обременены другими заданиями.
– Я бы могла уже…
– Не горит, – перебил Виктор, – заканчивайте свой курс, набирайтесь сил и хорошего дня!
Виктор ушел так же стремительно, как и появился.
– «Набирайтесь сил», – буркнула себе под нос Полина, – впрок не выспишься!
– Задание от Виктора Ошеровича – это черная метка, – прокомментировал старший лаборант, проводивший обучение.
Что он вкладывал в эти слова, Полина выяснить не смогла: преподаватель дал понять, что не собирается обсуждать руководство и распространять слухи.
Вообще лекторы и лаборанты не любили говорить о проектах центра. Они блестяще рассказывали теоретический материал, недурно проводили проводили семинары, но о деятельности Балатовского рассказывали заученными фразами из рекламных буклетов. Даже о собственных проектах упоминали лишь вскользь.
На среду и четверг у организаторов буткампа особых планов не было. Они скинули пяток обучающих видео разной тематики и попросили не шуметь. Михаил Валентинович отменил встречу, сославшись на плохое самочувствие. Полина теряла терпение. Нужна ли я им вообще? Или так… запасная штатная единица?
Она не успела сдружиться со своим временным коллективом. Группа состояла из шести лаборантов-стажеров, окончивших один техникум, и двух ребят с высшим образованием. Вклиниться в бандформирование лаборантов было сложно, а выпускники вузов пропали еще на первой неделе.
Лишь один из стажеров, Денис, показался Полине интересным. Он отличался старомодной учтивостью и витиеватой манерой речи. Денис часто спрашивал как правильно пользоваться тем или иным прибором. Причем начинал свой вопрос так издалека, что, когда заканчивал его, Полина уже успевала все настроить.
Денису плохо давались методы моделирования, точнее сказать он относился к предмету слишком ответственно. Однажды он пожаловался Полине:
– Мне потребовалось полтора дня, чтобы построить эконометрическую модель, которая бы не спотыкалась об обязательные статистические тесты. Вроде только подберешь вид, чтобы не было мультиколлинеарности, так авторегрессия вылезет. Сделаешь модель в разностях или добавишь лаги, так знаки коэффициентов куролесить начинают. Приколотишь коэффициенты гвоздями, например, используя главные компоненты, так еще на чем-нибудь подорвешься.
– А я нейросеть сделал, – влез в разговор молодой, невысокого роста парнишка-стажер с вечно отсутствующим простоватым взглядом. – Выставил первые попавшиеся параметры и готово! Точность почти стопроцентная!
– Ты просто переобучил сеть, – упрекнул его Денис. – Вот получишь через неделю новые данные – не поймешь, что пошло не так.
– Через неделю буткамп закончится, и я уже в другом месте модели стоить буду.
Буткамп подходил к концу. В последний день объявился куратор и попросил заполнить анкеты с обратной связью, а админ все-таки перевел запрос в статус «Решено». Было много пиццы и скоропортящихся разговоров.
Чтобы отвлечься от тягомотного буткампа Полина часто встречалась с Мариной и ее знакомыми. Несколько раз она попробовала выступить со своими историями. Оказалось, это невероятно сложно рассказать о том, как прошел день! Без танцев, шуток и стихов, просто рассказать так, чтобы хоть кто-то заинтересовался, чтобы хоть кто-то отложил телефон или вилку. Полина удивлялась: лишь единицы посетителей знают, как проводят современные исследования ВНД человека и, казалось бы, должны слушать, не моргая. Но чтобы история понравилась и зацепила, важно привлечь внимание, и желательно в первые десять секунд. Если ты говоришь о чем-то незнакомом, то крайне непросто дать необходимый, но достаточный контекст, не углубившись в детали и не упустив значимого.
Но вызов принят! За один рассказ Полине даже посчастливилось получить бесплатный ужин. Удачным приемом оказалось обратиться в зал задать вопрос в начале выступления. В идеале поймать чей-то взгляд и адресовать вопрос непосредственно тому человеку. Позже Полина осознала, что таким элементарным приемом пользовались учителя младших классов, чтобы держать внимание мелюзги.
– Кто мне скажет, как писать слоги «ЧА» и «ЩА»? С какой буквой? Может, Игорь? – Полина со строгой учительской интонацией обратилась со сцены в зал, а именно, к столику, за которым сидели ее знакомые.
Игорь показал пальцем на себя и громко спросил:
– Я?
– Ты, ты. У нас вроде один Игорь в классе.
Давно забытый взрослыми штамп учительской речи поднял шум в зале на несколько децибелов.
– «ЧА» и «ЩА» нужно писать с буквами «Ч» и «Щ»! – без запинки выпалил Игорь.
В зале раздались смешки.
– Сам того не ведая, уже во втором классе Игорь придумал анекдот, – продолжила Полина свою историю обычной интонацией. – Девочки-отличницы смеялись над ним. Они не понимали, что многоступенчатый мыслительный процесс, который называют юмором, подчас сложнее, чем запоминание правил русского языка. Юмор рождается там, где появляется несоответствие между ожиданиями слушателя и тем, что произносит комик. Чем незаметнее несоответствие, тем «тоньше» юмор. Игорь прошел все этапы этого мыслительного процесса: он понял вопрос, осознал ожидания и придумал ответ, который, с одной стороны, формально корректный, но с другой – не соответствует ожиданиям. Машины на такое пока неспособны. А может… Что, если мы спросим у калькулятора «Сколько будет 2+2?» и он ответит «5»? Калькулятор понял вопрос (ведь не взорвался и ответил нам натуральным числом). И это число не соответствует нашим ожиданиям. Но почему же мы не смеемся? Может, потому что требуем от калькулятора лишь правильных ответов, а все остальное называем ошибками? Вспомните, когда мы просим детей собрать игрушки или почистить зубы, но вместо этого они со смехом носится по квартире. Мы же считаем это не юмором, а непослушанием. Похоже, мы принципиально не способны оценить, как шутят компьютеры! Но предположу, что в этом виноваты не только компьютеры, но и мы, а точнее – наши ожидания. Возможно, сейчас, где-то в недрах Балатовского один робот рассказывает другому:
– Представляешь, спросил у меня сегодня Михаил Валентинович, что я делал в обеденное время. А я вместо того, чтобы показать логи, открыл сайт с фотографиями симпатичных видеокарт нового поколения.
– А он что?
– Он стукнул по столу и багу завел.
– Юмора не понимает…
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе